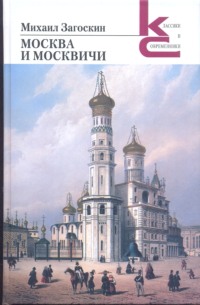Kitobni o'qish: «Москва и москвичи»
© В. Гусейнов, оформление, иллюстрации, 2025
© Издательство «Художественная литература», 2025
* * *

Михаил Николаевич Загоскин1
Около тридцати лет жил Загоскин постоянно в Москве, любимый и уважаемый всеми: мудрено найти человека, который бы не знал его лично или не слыхал о нем.
С. Т. Аксаков
«Предоставляя другим впоследствии написать полную биографию М. Н. Загоскина с исчислением и оценкою всех его литературных произведений и с указанием почетного места, которое он должен занять в истории русской литературы, я хочу только сказать несколько слов о нем, как о человеке, имеющем полное право на участие и благодарность современников».
«…в характере… соединялось… столько простоты душевной, доброты сердечной и ясной, неистощимой веселости, происходившей от спокойной, безупречной чистоты сокровенных помышлений и от полного преобладания доброты над всеми другими качествами…»
«Смело можно сказать, что в продолжение всей своей жизни, служебной и домашней, Загоскин не сделал никому зла и, по доброте своей природы, даже не мог его сделать, но добра сделал он много и многим. Я не говорю уже о том духовном добре, которое произвели и будут производить большая часть его сочинений безукоризненною чистотою своего нравственного направления».
«Род Загоскиных принадлежит к одной из старинных дворянских фамилий. В родословной книге князей и дворян российских, составленной по Бархатной книге и изданной „по самовернейшим спискам“ в 1787 году, сказано: „Загоскины выехали из Золотой Орды. Выехавший назывался Захар Загоско, а от него и родовое название принято“. Михаил Николаевич Загоскин родился 14 июля (25 июля по н. ст. – ред.) 1789 года Пензенской губернии… в селе Рамзае, принадлежавшем тогда его отцу». В семье кроме Михаила Николаевича было еще шестеро братьев и две сестры. До 14 лет мальчик воспитывался в деревне. С детства у него проявилась необыкновенная тяга к чтению, и неудивительно, что в 11 лет он написал свою первую повесть «Пустынник».
В 1802 году отец отправил сына в Петербург, где он и начал свою службу в Канцелярии государственного казначея. В последующее десятилетие пребывания и служения в Петербурге Михаил старался восполнить недостаток своего образования.
После вторжения в 1812 году французских войск на территорию России Михаил Загоскин записался в земское ополчение. «… при вступлении в военную службу он знал уже по-французски и несколько по-немецки».
«…он горел нетерпением запечатлеть кровью горячую любовь к отчизне; в сражении под Полоцком он был ранен в ногу и получил за храбрость орден Анны 3-й степени на шпагу. По излечении раны он возвратился к своему полку и по желанию графа Левиса был назначен к нему адъютантом; в этой должности находился он до сдачи Данцига, то есть до окончания вой ны».
«После победы ополчение было распущено, и Загоскин… отправился… на свою родину, в Пензенскую губернию, в свой любимый Рамзай, где, хотя на короткое время, обратился снова к прежним, дорогим его сердцу, занятиям: чтению и сочинению». Вскоре Михаил Николаевич опять был определен на службу, не оставляя ее, много пишет.
Уже в 1815 году после постановки «Комедии против комедии, или Урок волокитам» имя автора становится известным в театральных кругах. «… Комедия… точно имела достоинство, не только как первый дебют молодого писателя… но как литературное произведение с нравственной мыслью, высказанной на сцене живо и весело, языком чистым, легким и разговорным. Очевидно, что Загоскин уже много писал прежде, но не печатал, „набивал руку“, как он сам мне говаривал».
В 1816 году в жизни Михаила Николаевича произошли значимые для него события – он женился, «вышел из Горного департамента… а в 1817 году определен в дирекцию императорских театров помощником члена репертуарной части…» Через год Загоскин оставил службу при театре и в должности помощника библиотекаря «…принимал деятельное участие в приведении библиотеки в порядок и в составлении каталога русских книг, за что через два года был награжден орденом Анны 3-й степени».
Летом 1820 года М. Н. Загоскин переехал в Москву, где и продолжилась его литературная деятельность.
Через два года он поступил на службу к московскому военному генерал-губернатору чиновником особых поручений. «… тогда в Москве не было дирекции театра, а находилась контора, состоявшая под непосредственным заведованием генерал-губернатора князя Д. В. Голицына…»
Вскоре его определили в контору дирекции московского театра. И в этот период – «До 1828 года Загоскин ничего не напечатал; литературная деятельность его как будто приостановилась; на это были следующие причины: во-первых, он усердно занялся своей хлопотливой должностью; во-вторых… Загоскин решился выдержать экзамен для получения чина коллежского асессора. К экзамену надобно было приготовиться, и Загоскин посвящал на это все свободное от службы время в продолжение полутора года; он трудился с… добросовестностью. Наконец он выдержал испытание блистательно… Свалив с плеч экзамен, Загоскин, давно ничего не писавший, принялся за большую комедию в стихах, которую ему и прежде хотелось написать…; и наконец в 1828 году „Благородный театр“, комедия в четырех актах, была сыграна на московской сцене… и имела самый полный, самый огромный успех…»
Работая с полной отдачей на службе, с 1823 по 1829 год включительно Загоскин получил ордена 4-й степени св. Владимира и 2-й степени Анны, чины коллежского асессора и надворного советника.
Еще до окончания комедии «Благородный театр» Загоскин задумал написать русский исторический роман. Писатель несколько лет собирал материал. «Он был весь погружен в эту мысль, охвачен ею совершенно… он читал в это время исторические документы и жил в 1612 году. Наконец, обдумав содержание, выбрав эпоху и прочтя добросовестно все, к ней относящееся, с необыкновенным одушевлением принялся он писать и в 1829 году напечатал „Юрия Милославского, или Русские в 1612 году“ в трех томах. Появление этого романа составляет эпоху в жизни Загоскина в литературном и общественном отношении. Восхищение было общее, единодушное… Публика обеих столиц и …публика провинциальная пришли в совершенный восторг. …русский ум, дух и склад речи впервые послышались на Руси в этом романе».
Именно после публикации этой книги он получил звание создателя первого русского исторического романа и его назвали «русским Вальтером Скоттом». «Многое изменилось вокруг Загоскина… Внимание и одобрение государя довершило торжество Загоскина». Роман был настолько популярен, что Н. В. Гоголь упоминает имя автора и его произведение в своей комедии «Ревизор».
«В 1830 году… Загоскин перемещен в должность управляющего конторою Императорских московских театров, а в 1831-м произведен в коллежские советники, определен в должность директора московских театров и пожалован в звание действительного камергера двора его императорского величества.
Немедленно после выхода в свет „Юрия Милославского“ Загоскин задумал писать другой исторический роман – „Рославлев, или Русские в 1812 году“. Он писал этот роман около двух лет; слух о нем прошел по всей России, и все с напряженным нетерпением ожидали его появления». В свет он вышел в 1831 году По выходе «Рославлева» Жуковский написал Загоскину: «Благодарю вас …за „Рославлева“… почтеннейший Михаил Николаевич. И с ним то же случилось, что с его старшим братом: я прочитал его в один почти присест».
На протяжении пяти лет с 1837 по 1842 год Загоскин оставался директором московских театров. «Несмотря на то что он с высочайшего соизволения построил Малый театр собственными средствами дирекции (за что получил всемилостивейше пожалованную табакерку с шифром), денежные дела ее находились постоянно в хорошем положении». В 1840 году за усердную службу Загоскин награжден был орденом св. Владимира 3-й степени.
«В 1842 году… вследствие собственного желания и прошения, по высочайшему указу определен директором московской Оружейной палаты: в этой должности оставался он до своей кончины. В продолжение последней десятилетней своей службы, в 1845 году, Загоскин был пожалован кавалером ордена св. Станислава 1-й степени, а в 1851-м – кавалером ордена св. Анны 1-й степени».
Дом Загоскина привлекал многих известных деятелей литературы, искусства, науки.
Михаил Николаевич любил и знал Москву, Он говаривал: «Одно из величайших моих наслаждений состоит в том, чтоб показывать проезжим все диковины и редкости города». В его книге «Москва и москвичи» можно найти десятки драгоценных свидетельств о городе 1830-1840-х годов.
«В 1842 же году Загоскин выдал „Москва и москвичи. Записки Богдана Ильича Бельского. Выход первый“. Эта книжка содержала в себе десять небольших статей… автор везде сохраняет свои обыкновенные достоинства: легкость и свободу языка, веселость и оригинальность взгляда. … всегда прочтешь с удовольствием все, им написанное. „Москва и москвичи. Выход первый“ заключает в себе любопытные известия о многих московских зданиях и окрестностях. Вероятно, по этой причине первый „выход“ переведен на французский язык и немедленно был вторично издан на русском.
В 1844 году напечатал Загоскин второй „выход“ „Москвы и москвичей“. В нем находилось одиннадцать мелких статей, более или менее относящихся к Москве, к образу жизни и нравам ее обитателей. Второй „выход“… доставлял такое же приятное чтение, был также хорошо принят читающей публикой и также в непродолжительном времени был напечатан вторым изданием. Оба „выхода“ „Москвы и москвичей“ имели особенный интерес для московских читателей. В некоторых лицах многие узнали своих знакомых, а потому и во всех остальных искали с кем-нибудь сходства. В ласковом камергере, который часто встречался и беседовал с Богданом Ильичом Бельским, все узнавали самого сочинителя».
«В… 1848 году Загоскин выдал третий „выход“ „Москвы и москвичей“. Он состоял из двенадцати небольших статей, относящихся до … обычаев, жителей и заведений; одна из них, самая большая по объему и очень забавная по содержанию… называющаяся „Поездка за границу“, написанная в разговорах, послужила основанием комедии того же имени».
«В том же <1850> году вышла четвертая книжка, или „выход“, „Москвы и москвичей“, заключавшая в себе десять статей и небольшое предисловие, или вступление, под названием „К читателям“. Загоскину показалось, что рамки, назначенные им для своих рассказов, слишком узки; он решился раздвинуть их, то есть… говорить не об одной Москве и ее обычаях, о чем и предуведомил своих читателей. Он назвал свои анекдотические рассказы, содержание которых не касалось Москвы, „Осенними вечерами“…; статьи же собственно относящиеся к Москве были… очень интересны…»
В этот период «Загоскин начинал расхварываться: он… не любил лечиться; первую зиму… продолжал ежедневно выезжать, надеялся, что лето и верховая езда за городом, которую он очень любил, лучше докторов восстановят его здоровье… Страдания физические отняли у него возможность писать, а человеку, привыкшему в течение целой жизни к ежедневной умственной работе, такое лишение невыносимо. Сначала он выезжал по вечерам почти ежедневно, но ездил уже не в светское общество, а к самым коротким друзьям, где… громкий голос его звучно раздавался по-прежнему, по-прежнему все были живы и веселы вокруг него, и, взглянув в такие минуты на Загоскина, нельзя было подумать, что он постоянно страдал недугом тяжким и смертельным».
«…23 июня 1852 года в пятом часу пополудни после двухчасового спокойного сна, взяв из рук меньшого сына стакан с водою и выпив немного, Загоскин внимательно посмотрел вокруг себя… Он вздохнул – и его не стало. Больной заснул тихим, спокойным вечным сном. За четыре дня он приобщился святых тайн. Тело его предано земле в Новодевичьем <…>».
«Загоскин написал и напечатал 29 томов романов, повестей и рассказов, 17 комедий и 1 водевиль».
Михаил Николаевич был членом русского отделения императорской Академии наук и также членом, а потом и председателем Общества любителей русской словесности при Московском университете. И как сторонник всего традиционного, выступал против заимствований из иностранных языков.
«Основными качествами характера Загоскина были: честность, веселость, неограниченное добродушие и доверчивость; последними двумя качествами, которые людская испорченность называет детскими, следственно, не уважает и даже смеется над ними, разумеется, пользовались люди, имевшие к тому охоту и надобность… Не только его друзья и приятели, но всякий мог сделать лично ему какие угодно жесткие замечания, и он принимал их всегда добродушно… Он не выносил только одного: если, нападая на Загоскина, задевали Россию или русского человека, тогда неминуемо следовала горячая вспышка».
«Его русская натура постоянно сквозила из-под камергерского мундира и на аристократическом бале, и во дворце. Некоторые пожимали плечами, улыбались значительно и удалялись от него, а некоторые именно за то очень любили и уважали Загоскина.
В заключение должно сказать, что ко всем прекрасным свойствам своего счастливого нрава, к младенческому незлобию души и неограниченной доброте Загоскин присоединял высшее благо – теплую веру христианина…»
Михаил Николаевич Загоскин
14 июля (25 июля) 1789 – 23 июня (5 июля) 1850.
Вся его деятельность, чем бы он ни занимался, осуществлялась им на благо Отечества.
Выход первый
От издателя
Я не люблю читать предисловий, очень редко пишу их сам и всегда стараюсь, чтобы они были как можно короче; но на этот раз должен поневоле отступить от моего правила и начать эту книжку следующим предисловием, или, как говорилось в старину, кратким возглашением.
Любезнейшие читатели и почтеннейшие читательницы!
Хотя на заглавном листе этой книжки напечатано, что я только издатель, а сочинитель ее Богдан Ильич Бельский, но, может быть, вы примете это за шутку. Чтобы уверить вас в противном, мне должно рассказать, по какому случаю я сделался издателем этих записок.
Месяца три тому назад, возвратясь домой после обыкновенной моей утренней прогулки, я нашел на своем письменном столе огромный запечатанный пакет без надписи; по словам моего человека, его принес незнакомый слуга, весьма опрятно одетый, но какой-то грубиян, потому что на все расспросы моего Андрея: кто он таков и от кого прислан – отвечал только: «Велено отдать твоему барину». Наружная форма и толщина этого пакета ничего доброго не предвещали. «Ахти, – вскричал я, – верно, какая-нибудь переводная мелодрама или комедия, переделанная на русские нравы! Да неужели я должен публиковать в газетах, что это уже вовсе до меня не касается и что я не обязан, по долгу службы, читать почти каждый день драматические произведения семинаристов, гимназистов и даже глубокомысленных московских гегелистов, из которых некоторые весьма усердно занимаются театром!» Я распечатал пакет: письмо на мое имя и кругом исписанная тетрадь; однако ж не драматическое сочинение, а записки какого-то Богдана Ильича Бельского. Прочтем, что он ко мне пишет.
«Милостивый государь (я не прибавляю мой, потому что вы старее меня чином)».
«Ого, – подумал я, – да это какой-то старовер! Он еще держится правила: чин чина да почитает. Посмотрим, чего он от меня хочет».
«Я вас давно уже знаю; мне случалось иногда встречаться с вами в разных обществах; вероятно, и вы также меня знаете, но только под настоящим моим именем. Хотя принятое мною в этих записках прозвание Вельского могло бы по всей справедливости принадлежать мне как единственному и прямому наследнику этого знаменитого исторического имени, но я решился остаться при моем, весьма обыкновенном, которое ни разу не упоминается в русских летописях, следовательно, весьма прилично человеку с умеренным состоянием и вовсе не чиновному, потому что у нас, – да, я думаю, и везде, – для поддержания знаменитого имени необходимы или богатство, или чины. Ну, рассудите сами, какую жалкую роль играет человек с громким историческим именем, если он сам по себе ровно ничего не значит? Представьте, как смешно, или, лучше сказать, грустно, было бы видеть отставным коллежским регистратором Скопина-Шуйского или становым приставом какого-нибудь князя Пожарского! Но я, может быть, надоел вам моею болтовнею, а мне нужно поговорить с вами об одном весьма важном для меня предмете. Вот в чем дело: я давно уже веду записки, – не о домашней моей жизни: в ней не было ничего особенно замечательного, – но о всем том, что касается до Москвы и ее жителей относительно к их частному, политическому и историческому быту. Я изучал Москву с лишком тридцать лет и могу сказать решительно, что она не город, не столица, а целый мир – разумеется, русский. В ней сосредоточивается вся внутренняя торговля России; в ней процветает наша ремесленная промышленность. Как тысячи солнечных лучей соединяются в одну точку, проходя сквозь зажигательное стекло, так точно в Москве сливаются в один национальный облик все отдельные черты нашей русской народной физиономии. Европейское просвещение Петербурга; не вовсе чуждое тщеславия хлебосольство наших великороссийских дворян; простодушное гостеприимство добрых сибиряков; ловкость и досужество удалых ярославцев, костромитян и володимирцев; способность к письменным делам и необычайное уменье скрывать под простою и тяжелою наружностью ум самый сметливый и хитрый – наших, некогда воинственных, малороссиян; неуклюжество и тупость белорусцев; страсть к псовой охоте степных помещиков; щегольство богатых купцов отличными рысаками; безусловное обожание всего чужеземного наших русских европейцев и в то же время готовность их умереть за славу и честь своей родины; безотчетная ненависть ко всему заморскому наших запоздалых староверов, которые, несмотря на это, не могут прожить без немецкой мадамы или французского мусью; ученость и невежество, безвкусие и утонченная роскошь; одним словом, вы найдете в Москве сокращенье всех элементов, составляющих житейский и гражданский быт России, этого огромного колосса, которому Петербург служит головою, а Москва сердцем. Москва – богатый, неисчерпаемый рудник для каждого наблюдателя отечественных нравов. Может быть, во мне недостало уменья разработать как следует этот богатый рудник; впрочем, и то хорошо, если мне удалось открыть его и указать человеку более меня искусному, где должен он искать не одной руды, вовсе не походящей на металл, который в ней скрывается, но чистых самородков, не всегда золотых – это правда; но ведь золото везде редко, а томпак, семилёр и всякая другая блестящая композиция, которую иногда стараются выдавать нам за пробное червонное золото, право, не стоят нашего простого железа… Да об этом после; дело состоит в том, что я решился напечатать мои записки.
Я человек не очень богатый, так прежде всего должен был подумать о том, во что мне обойдется издание этой книги, а для этого мне нужно было посоветоваться с человеком знающим и опытным. Вы, вероятно, слыхали о книгопродавце Иване Тихоновиче Корешкове; мы с ним люди знакомые, – я даже прошлого года крестил у него сына.
Чего ж лучше, подумал я, мой куманек тридцать лет занимается книжною торговлею, так уж, верно, сочтет мне по пальцам, что будут стоить бумага, печать, обертка, одним словом, всё; а может статься, и манускрипт у меня купит: это было бы всего лучше.
Лишь только я хотел послать за Иваном Тихоновичем, а он ко мне и в двери.
– А, любезный куманек! – вскричал я. – Милости просим! Очень кстати! Ведь у меня есть до тебя дельце.
– Рады служить, Богдан Ильич! Что прикажете? – с казал Корешков с низким поклоном.
– Садись-ка, любезный!.. Вот изволишь видеть: ты знаешь мои записки?
– Как же, батюшка, вы мне еще прошлого года читали из них разные этакие штучки, – очень интересно!
– Я хочу их напечатать,
– Ну что ж, сударь, с богом!
– Да вот что: я человек непривычный, до смерти боюсь всяких хлопот. Знаешь ли что, любезный? Купи у меня манускрипт в вечное и потомственное владение: я дешево продам.
– Нет, Богдан Ильич, – извините! Мы этим не занимаемся. Дело другое – на комиссию…
– Впрочем, – продолжал я с видом совершенного равнодушия, – для меня все равно: книга моя не залежится. Уже одно название этих записок разлакомит покупщиков: „Москва и москвичи“!
– Да-с, названье бенефисное.
– А как ты думаешь, куманек: дорого мне будет стоить напечатать эту книгу?
– Да если всю, так не дешево-с.
– Как всю? Да разве можно будет печатать ее по частям?
– А почему же нет, Богдан Ильич? Ведь если я не ошибаюсь, так книга ваша, так сказать, отрывочная; то есть не то чтоб какой-нибудь романчик или история, а вот вроде тех, которые выдаются теперь в Петербурге: „Сто писателей“, „Сказка за сказкою“ и прочие другие. Вы не извольте только выставлять на заглавном листе: „Часть первая“, а „Выход или выпуск первый“.
– Да разве это не все равно?
– Помилуйте! Уж кто написал „Часть первая“, так как будто бы обещает вторую часть непременно; а „Выпуск“ что значит?.. Будет, дескать, время, так выпущу другую; а нет, так не прогневайтесь!..
– А что ты думаешь? Ведь это правда.
– Как же, батюшка!.. Одну книжку напечатать не фигура, и можно дешевле пустить, так авось и поразберут; а там, если она понравится да пойдет, так и выпускайте себе вторую, третью – сколько душе вашей угодно.
– Спасибо, куманек, за добрый совет. Итак, решено: я буду выдавать мои записки отдельными книжками; их число и время их выходов будут совершенно зависеть от моей воли и от приема, который сделает им публика.
– Да-с! Только смею вас спросить: вы объявите свое имя?
– Нет, я хочу назваться в моих записках Бельским.
– А, понимаю-с! Это нынче в моде-с. Вам угодно быть вот этим… как бишь они называются?
– Псевдонимы.
– Да-с, точно так-с. Только воля ваша, Богдан Ильич, напрасно-с: это не даст ходу вашей книжке.
– Так ты думаешь, что лучше выставить на заглавном листе мое настоящее имя?
– Оно, если хотите, сударь, все равно. Не прогневайтесь, батюшка, вы по книжному делу человек вовсе не известный. Вот если бы вы уж печатали да вас разика два похвалили в „Библиотеке“, в „Сыне отечества“, в „Северной пчеле“ или в „Русском вестнике“, так это бы другое дело, а то, хоть будьте вы человек распреумный, с большим талантом…
– Да что ж еще надобно?
– Имя, сударь, имя! Это всего нужнее в нашей книжной коммерции.
– Да где ж мне прикажешь его взять?..
– Вот то-то и дело! Не знакомы ли вы с каким-нибудь сочинителем, который в ходу, то есть которого все знают?.. Попросите его…
– Что, что? – вскричал я, вскочив с моих вольтеровских кресел. – Да неужели ты думаешь, что я допущу кого бы то ни было называться сочинителем моих записок?
– Позвольте!.. – прервал Корешков, вставая также со своего стула.
– Чего тут позвольте! – продолжал я весьма неравнодушно. – Стану я из подлых барышей прибегать к таким средствам!.. Я трудился, писал и, надеюсь, не вовсе дурно, а кто-нибудь другой…
– Да выслушайте, Богдан Ильич…
– Полно, кум! Вы все, торгаши, на один покрой. Что такое для вас книга? Товар, и больше ничего. Для вас произведение высокого таланта, творческое создание гения и какой-нибудь новейший песенник – одно и то же…
– Нет, сударь, иногда песенник и лучше, если он ходчее идет. Да дело не в том. За что вы изволите гневаться? Ведь я хотел вам сказать: попросите какого-нибудь известного автора, чтоб он назвался не сочинителем, а издателем ваших записок…
– Какой вздор! Да разве имя издателя ручается за достоинство сочинения?
– А как же, сударь? Всякий скажет: „Видно, дескать, отличная книжка, если издает ее известный писатель“.
– Ну, ну, хорошо! – сказал я, когда встревоженное мое самолюбие поуспокоилось. – Может быть, куманек, ты и дело говоришь. Да кого же я стану просить об этом?
– Мало ли, сударь, в Москве сочинителей. Да вот хоть не далеко идти: господин Загоскин… Не то чтоб он был какой-нибудь знаменитый писатель – нет! есть, батюшка, гораздо почище его, да ему как-то посчастливилось: выдал „Юрия Милославского“, попал в народность да и пошел пописывать разные романчики; а там опера „Аскольдова могила“… Что за опера такая!.. Вы изволили ее видеть?
– Как же!.. И ты думаешь, что господин Загоскин согласится?..
– А почему знать? Попробуйте!..
– Я напишу к нему письмо.
– Да знаете ли, этак повежливее – польстите ему… „Позвольте, дескать, украсить вашим знаменитым именем…“
– Куманек, а не ты ли сейчас говорил?..
– И, батюшка, да разве вы не знаете, что ложь бывает иногда во спасение? Хвалите его на убой: ну что за дело? Бумага все терпит!..
– А если он подумает, что я над ним смеюсь?..
– Не подумает, батюшка!.. Знаем мы этих сочинителей! Иной ломается так, что не приведи господи!.. „Мы да мы!“ – а что сделал? Водевильчик перевел или статейку напечатал в журнале… Я много с ними обращался, Богдан Ильич. Случалось иногда – по надобности – начнешь хвалить иного в глаза… русским Вальтером Скоттом назовешь… Верите ль богу, самому стыдно, – а он лишь только ухмыляется. Уж, видно, они все родом так, батюшка!
Вот вам, милостивый государь, слово от слова мой разговор с Иваном Тихоновичем Корешковым. Я не скрыл даже от вас, что он не слишком высокого мнения о вашем таланте. Из этого вы можете заключить, что я не в точности исполнил его совет, то есть не прибегал к лести, чтоб склонить вас быть издателем моих записок. Если вы на это не согласитесь, то я поневоле должен буду подумать, что мой кум лучше моего знает, чем можно угодить вообще всем писателям, и в особенности вам, милостивый государь.
С чувством истинного почтения честь имею остаться вашим покорнейшим слугою
Богдан Белъский».
Теперь вы видите, любезные читатели, в какое затруднительное положение поставил меня господин Бельский. Принять его предложение мне вовсе не хотелось, а не принять его я не смел: господин Бельский мог бы подумать, что я рассердился на его кума за то, что он не хочет признать меня знаменитым писателем. Конечно, это очень обидно; но вы понимаете, любезные читатели, что я ни в каком случае не могу показывать, до какой степени огорчает меня это мнение почтенного господина Корешкова, а для этого я должен был непременно согласиться на сделанное мне предложение. Но еще раз повторяю, что не намерен брать на себя чужих грехов и быть ответчиком за господина Бельского, с которым во многом я даже не согласен. Он говорит иногда слишком резко правду, а я этого терпеть не могу. Ну что за охота называть в глаза горбатого горбатым, кривого кривым? Ведь и того и другого исправит одна только могила, – так зачем же их и дразнить? Впрочем, я долгом считаю прибавить, что господин Бельский человек незлой; он только немного крутенек, подчас бывает слишком откровенен да любит иногда придержаться известного правила, что:
Вовсе не грешно
Над тем смеяться, что смешно.