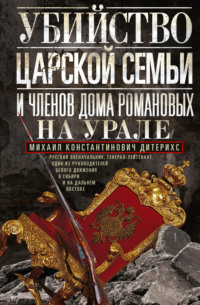Kitobni o'qish: «Убийство царской семьи и членов Дома Романовых на Урале»

Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет.
Евангелие от Луки, 20: 17.
Но виноградари, увидевши его, рассуждали между собою, говоря: это наследник; пойдем убьем его, и наследство его будет наше.
Евангелие от Луки, 20: 14.
Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла.
Евангелие от Луки, 11: 17.
© «Центрполиграф», 2024
От издательства
Генерал-лейтенант Михаил Константинович Дитерихс – участник Русско-японской, Первой мировой, Гражданской войн и один из руководителей Белого движения в Сибири и на Дальнем Востоке.
Когда в 1918 году белые вошли в Екатеринбург, Дитерихс по поручению адмирала Колчака курировал ведение следствия об убийстве царской семьи. В 1922 году во Владивостоке он опубликовал книгу «Убийство царской семьи и членов Дома Романовых на Урале», в которой не только подробно рассказал о ходе и результатах следствия, но и изложил ряд собственных выводов. Конечно, в условиях Гражданской войны не все выводы генерала опирались на документальные данные, хотя он всеми силами старался соблюдать объективность и учитывать выявленные факты. Свидетельство человека, причастного к событиям, всегда представляет большой интерес.
Несмотря на немецкую фамилию (его предок перебрался в Российскую империю в XVIII веке), Михаил Дитерихс был человеком русским, глубоко православным, из военной семьи, представители которой долгие годы служили в русской армии. Его отец – генерал Константин Александрович Дитерихс был участником Кавказских войн; его воспоминаниями пользовался Лев Толстой при работе над «Хаджи-Муратом». Писатель и генерал были хорошо знакомы, дружили и даже породнились: сын Толстого Андрей женился на дочери К.А. Дитерихса Ольге.
Брат Михаила Константиновича – Владимир Константинович Дитерихс – был контр-адмиралом, еще два брата офицерами. Впрочем, были среди братьев и творческие личности – Леонид Константинович, журналист и искусствовед, и Иосиф Константинович, один из секретарей Льва Толстого.
Дед М.К. Дитерихса генерал-майор Александр Иванович Дитерихс тоже служил на Кавказе и был женат на дагестанской княжне. С такой бабушкой в семье Дитерихсов кавказские традиции были гораздо важнее давно забытых немецких от далеких предков.
По окончании Пажеского корпуса в 1894 году Михаил Дитерихс был направлен в артиллерию, но собирался продолжить военное образование и стал готовиться к поступлению в Николаевскую академию Генерального штаба, где был очень строгий отбор абитуриентов. Дитерихс с честью прошел все испытания, показал значительные успехи во время учебы и в 1900 году окончил академию по 1-му разряду.
Перед выпускником Николаевской академии Генерального штаба открывались блестящие перспективы. Михаил Дитерихс получил назначение в Московский военный округ.
Но через несколько лет началась война с Японией.
В августе 1904 года М.К. Дитерихс прибыл на фронт… Ему довелось принять участие в самых тяжелых сражениях – под Ляояном, на реке Шахе, при Мукдене. Воевал он героически и был отмечен за действия на фронте орденами. После войны Дитерихс вернулся в Московский военный округ, но в 1907 году был переведен в Киев. В 1910 году полковник М.К. Дитерихс был назначен старшим адъютантом штаба Киевского военного округа, который возглавлял тогда генерал М.В. Алексеев (в будущем – один из лидеров Белого движения).
В 1913 году М.К. Дитерихс стал одним из руководителей Мобилизационного отдела Главного управления Генерального штаба. Все понимали, что большая война вполне вероятна и, скорее всего, уже близка. Работе Мобилизационного отдела придавали особое значение. На этой должности М.К. Дитерихс войну и встретил… И сразу попросил направить его на фронт.
Дитерихсу было поручено возглавить штаб 3-й армии Юго-Западного фронта под командованием А.А. Брусилова. Вместе с Брусиловым Дитерихс, ставший к тому времени генерал-майором, составлял планы знаменитого Брусиловского прорыва в августе 1916 года. А в сентябре генерал Дитерихс был отправлен во главе русских военных формирований на помощь союзной сербской армии и в боях разбил болгарские части, выступавшие на стороне противника.
После Февральской революции генерал Дитерихс был отозван в Россию. В августе 1917 года А.Ф. Керенский предложил ему пост военного министра в новом составе Временного правительства, но генерал Дитерихс отказался. В дни Октябрьской революции он был начальником штаба в Ставке главнокомандующего русской армией генерала Н.Н. Духонина, погибшего от рук большевиков.
М.К. Дитерихсу удалось бежать и примкнуть к Белому движению. Во время Гражданской войны он много размышлял о причинах катастрофы, разразившейся в России, и о том, по какому пути ей следует идти.
Прекрасно зная русскую историю, М.К Дитерихс считал, что Земский собор XVII века, избравший на царство первого царя из династии Романовых Михаила, был подлинным спасением для земли Русской, и в новых условиях, после «смутного времени» революции снова нужно опереться на вековые традиции.
5 августа 1922 года на Земском соборе во Владивостоке было принято решение о реставрации династии Романовых, а генерал Дитерихс был избран временным диктатором и вскоре официально провозглашен правителем Приамурского государственного образования, переименованного в Приамурский земский край. Дитерихс как «земский воевода» возглавил белые войска Приамурья, названные Земской ратью. Также Дитерихс приказал сформировать законосовещательную Земскую думу, а в основе государственного устройства как единицы самоуправления поставил церковные приходы, причем допускались приходы разных конфессий. Неверующие лишались гражданства Приамурского земского края и высылались.
Приходские советы решали административные, хозяйственные, образовательные, судебные и финансовые вопросы своего округа.
В сентябре 1922 года Дитерихс созвал съезд Дальневосточных национальных организаций в Никольске-Уссурийском. Этот съезд выразил Дитерихсу полную поддержку.
Были изданы указы о всеобщей мобилизации, о церковных молебнах за победу над большевиками и о крупных денежных пожертвованиях, которые ожидались от Владивостока и Никольска-Уссурийского.
Однако идеи исторической преемственности на новом этапе воплотить не удалось – ни собрать пожертвования (Торгово-промышленная палата и частные компании отказались дать деньги), ни мобилизовать военнообязанных в Земскую рать новая власть не сумела. Многие подлежащие мобилизации бежали в Харбин, в Корею и на Камчатку, не желая воевать… Японские дипломаты отказались предоставить боеприпасы, и добровольцы-ратники остались без оружия.
Генерал Дитерихс приказал не проводить никаких репрессий к лицам, уклонившимся от мобилизации. Однако коммунисты и социалисты-интернационалисты вместе с членами семей были высланы в РСФСР и Дальневосточную республику.
14 октября 1922 года Земская рать была разбита войсками Дальневосточной республики. М.К. Дитерихс и около 7 тысяч человек его бойцов и членов их семей эвакуировались на японских кораблях в Китай.
В эмиграции Дитерихс проживал в Шанхае, где и скончался в 1937 году.
Предисловие
Кошмарное лето пережило население Европейской России в 1918 году. Насилия, расстрелы, массовые зверские убийства, кровавый террор царили повсеместно и заливали кровью обширные районы территории царства пятиконечной звезды советской власти. Власть эта в своей жестокости и кровожадности, казалось, не имела предела, не делала никаких различий: ее насилиям и угнетениям подвергались все классы, все сословия, все возрасты и полы; расстреливались старцы, расстреливались юноши, насиловались женщины, раскраивались головы детей; истреблялись буржуи, истреблялись и разные нежелательные советской власти политические и общественные деятели, но истреблялись массами, семьями и самые обыкновенные обыватели, крестьяне и рабочие, представителями чьей власти выставляли себя большевистские главари.
Эти ужасы, эти потоки крови, залившие города, села и деревни нашей несчастной родины, совпали с тем временем, когда в Центральной России, в Москве, сильно колебалось положение руководителей центральной советской власти и совокупность внешних и внутренних обстоятельств предвещали Ленину и Бронштейну-Троцкому возможность наступления конца их экспериментам и царствованию в России.
На востоке надвигались к Волге и Уралу сибирские и чехословацкие войска; с севера начинал угрожать англо-русский фронт; на юге поднялись оренбуржцы, уральцы, кубанцы, терцы и донцы и собирались добровольцы генералов Алексеева и Корнилова. Разочарованное в результатах Брестского договора германское военное командование снова перешло к военным действиям, и, победоносные в то время в Европе, германские войска возобновили наступление с северо-запада, а на Украине утвердили силою своих штыков гетманскую власть генерала Скоропадского.
Внутреннее состояние страны было не менее угрожающим: национализация, насильственные реквизиции, контрибуции и просто беззастенчивый и бесцеремонный грабеж хлеба, скота, продовольствия, товаров, ценностей и имущества советским управлением и организациями возбудили общий ропот и недовольство народных масс. Поднялись хотя и частичные, но многочисленные восстания «зеленых банд», появились повстанческие движения инородцев, бродили повсюду шайки отчаянных и лихих партизан, нарушая работу транспорта, подвоз к центрам награбленного в деревнях продовольствия и выработанного на заводах топлива и тем обостряя положение и настроение населения в самих столицах. Общее возмущение нарастало, и работавшие в подполье оппозиционные политические партии всех платформ и направлений получили возможность готовиться к серьезным шагам в своей идейной борьбе против узурпаторов власти и насильников народа.
С другой стороны, немецкая политика, как внешняя, так и внутренняя, подпавшая под влияние легкомысленных генералов, опиравшихся на армию, идя слепо на поводу шовинистского класса, начинала душить своих ставленников в Москве, Ленина и Бронштейна, требуя выполнения экономических условий договора, заключенного с ними Людендорфом и Гофманом и щедро оплаченного золотом Германского имперского банка.
Казалось, в Москве наступал тот момент, когда немецкое военное командование устами Мирбаха собиралось сказать главарям своей политической армии, привезенным в Смольный институт из Швейцарии в запломбированном вагоне: «Довольно! Вы исполнили то, за что вам было заплачено: вы посеяли, а пожнем мы теперь уже сами».
И так как «привезенные главари» вовсе не разделяли взглядов немецкого командования на самих себя, то к борьбе с народными восстаниями и со своими внутренними и внешними политическими противниками грозила присоединиться еще и война с немцами, все еще считавшими себя хозяевами положения и свободными распорядителями судьбою купленных рабов.
На общий взгляд, положение заправил всяких «Циков», «Комов», «Чеков» и прочих многочисленных условных организаций царства пятиконечной звезды близко было к безнадежному. На их тайных совещаниях Ленин высказывался довольно определенно: «Пора уходить». С ним были солидарны и его последователи из российских. В них еще не изжилась неудача июльского выступления 1917 года, с той разницей, что тогда они не успели достигнуть власти и для известной части народной массы сохранили ореол своих ложных лозунгов, а теперь все население в достаточной степени ощутило на себе сущность их власти, и они понимали, что, конечно, им не удастся так легко выйти из положения, как вышли они тогда. Поэтому в своей верховной деятельности Ленин готов был идти на всевозможные уступки требованиям момента, на смягчение общего режима, на сотрудничество с буржуями-специалистами, на эволюционирование коммунистических принципов – словом, на все то, что могло привести или к более благоприятному разрешению вопроса личного спасения, или то, от чего впоследствии можно было бы легко отказаться, объяснив ловким политическим маневром.
Но именно в это критическое время Бронштейн-Троцкий выявил себя противником Ленина и его уступчивости. Вместе со своими приверженцами, изуверами своего племени, составлявшими добрых три четверти всех высших административных органов советской власти, подкрепленными интернациональными карательными бандитскими отрядами, Бронштейн твердо и категорически высказался против каких-либо уступок и послаблений. Его речи этого времени на собраниях Коммунистической партии и заседаниях ЦИК дышат ядом и насмешками над предложениями Ленина, и весь смысл их сводится к тому, что ни шагу назад ни при какой обстановке делать нельзя, а ответом на текущий момент с их стороны должны быть: беспощадный террор, огонь, меч и пытка.
Во временных неудачах, в создавшемся катастрофическом положении Бронштейн отнюдь не склонен был видеть окончательного провала своей власти. И если теперь по каким-то причинам она колебалась, то, по-видимому, он собирался, главным образом, использовать время своей власти для того, чтобы подготовить и обеспечить победу в будущем. Свою власть и подготовку окончательной победы он понимал, конечно, так, как вытекали они из существа натуры и мировоззрения Бронштейна, а не Ленина.
Вот в этой идее подготовки будущей победы в связи со всей сложившейся обстановкой, мне думается, и заключались, главным образом, причины тех массовых, невероятных по зверству, с явными отпечатками изуверства убийств, которые были совершены советскими деятелями в лето 1918 года и составили в истории России и всего мира эпоху сплошного кровавого кошмара.
Нельзя забывать, нельзя закрывать глаза на то, что особенному гонению и жестокости в этот именно период подвергся православный, духовный мир России: церковь национализировалась; храмы обращались в помещения для митингов; иконы были обложены налогами, преподавание Закона Божьего в школах запрещено, а на дому родителей преследовали за обучение детей молитвам; над святынями кощунственно надругивались, обряды высмеивались и основы христианского духовного мировоззрения отвергались печатно в брошюрах и на многочисленных митингах.
Это не фразы, не голословное обвинение; желающие могут найти документальное подтверждение этих обвинений в обширном труде международной комиссии, созданной в Омске в январе 1919 года и проведшей подробное обследование в Перми и уездах Пермской губернии после изгнания из ее пределов большевиков. Сотни лиц духовного звания, монахов, монахинь было расстреляно агентами Бронштейна, удушено и утоплено в прорубях реки Камы. Среди погибших известны: архиепископы Гермоген, Андронник и Василий, епископы Феофаний и Матвей, архимандриты Матвей и Варлаам, протоиереи Пьянков, Сабуров, Стамбиков, Киселев, Преображенский, Конюхов, Будрин, Вельтюков и Яхонтов, священники Шерокинский, Горяев, Белозорев, Соколов, Калашников, Плотнев, Ершов, Савелов, Вяткин, Бояршинов, Якимов, Посохин, Наумов, Камакин, Попов, Юганов, Аристов, Малиновский, Пакаряков, Онянов, Махетов, Кузнецов, Белов, Осетров, Рождественский, Швецов, Антипин, Мациевский, Алексеев, Луканин, Никифоров, Колчин, Орлов, Денисов, Лавров, Анишкин, Шестаков, Решетников и Тарасов, иеромонахи Вячеслав, Сергий, Иосиф и Иоанн, диаконы Кашин, Воскресенский, Ипатов, Смирнов и Решетников, иеродиаконы Виссарион, Михей, Евфимий – и это все только по Пермской епархии. А сколько еще окажется потом в других районах и епархиях!
Расскажите любому нравственному человеку, какого угодно верования, об этих гонениях православной церкви, покажите ему список перечисленных выше жертв, павших за исповедание православных догматов, и спросите его: какая же это борьба унесла столько служителей церкви?
Думается, что не колеблясь каждый честный человек ответит: борьба религиозная.
Советская власть, приняв лозунги Бронштейна, став на путь подготовки победы в будущем, хорошо сознавала, что одним из устоев русской народной массы является ее православная церковь, ее преданность христианскому учению и глубокая, историческая любовь и привязанность к своей религии. Как масса малокультурная, русский народ способен временами, под влиянием случайных обстоятельств, терять критерии добра и нравственности и падать в невероятную бездну саморазрушения и оплевывания своего настоящего существа. Однако падение такое в прошлом было всегда сравнительно кратковременным, и небольшой толчок, толчок именно духовного характера, быстро выносил его из бездны и выводил нравственно очищенным снова на арену христианской жизни.
Подорвать эти устои, предотвратить на ближайшее время духовное пробуждение – вот идеи, которыми руководствовались советские главари в проведении плана обеспечения победы в будущем.
И в ряду злодейств, совершенных в этот период большевиками для достижения указанной цели, особо исключительными по зверству и изуверству, полными великого значения, характера и смысла для будущей истории русского народа, являются убийства, совершенные в это кошмарное лето:
1) В Екатеринбурге: бывшего государя императора Николая Александровича, государыни императрицы Александры Федоровны, бывшего наследника цесаревича Алексея Николаевича, великой княжны Ольги Николаевны, великой княжны Татьяны Николаевны, великой княжны Марии Николаевны, великой княжны Анастасии Николаевны.
2) В Алапаевске: великой княгини Елизаветы Федоровны, великого князя Сергея Михайловича, князя Иоанна Константиновича, князя Константина Константиновича, князя Игоря Константиновича, князя Владимира Палея (сына великого князя Павла Александровича).
3) В Перми: великого князя Михаила Александровича и других, о которых до нас еще не достигли сведения.
Вместе с упомянутыми членами Дома Романовых были убиты избранные большевиками ближайшие им лица свиты, оставшиеся до конца верными своему долгу. Так погибли: фрейлина графиня Анастасия Васильевна Гендрикова, гофлектриса Екатерина Адольфовна Шнейдер, генерал-адъютант Илья Леонидович Татищев, гофмаршал князь Василий Александрович Долгоруков, секретарь Джонсон, комнатная девушка Анна Степановна Демидова, [монахиня] сестра Варвара, управляющий Петр Федорович Ремез, дядька Клементий Григорьевич Нагорный, камердинер Иван Дмитриевич Седнев, камердинер Алексей Егорович Трупп, повар Иван Михайлович Харитонов, камердинер Василий Федорович Челышев и, вероятно, много других, о которых тоже до нас не дошли еще сведения.
Из всех перечисленных злодеяний только об убийстве бывшего государя императора советскими властями было объявлено официально, причем акт этот был представлен обществу как народная казнь, совершенная над «коронованным палачом» по приговору Уральского областного Совдепа. Об остальных же совершенных злодеяниях советская власть не только умолчала и скрыла их от народа, но постаралась прикрыть их лживыми заявлениями и инсценировкой побегов и похищений. Так, в отношении членов царской семьи было объявлено, что «жена и сын» отправлены в надежное место, а о великих княжнах вовсе ничего не упоминалось. Когда почти через год убийство выплыло наружу, то советские главари использовали его для провоцирования своих политических соратников в Москве, левых социалистов-революционеров, и инсценировали целый процесс, стремясь представить дело как попытку левых эсеров дискредитировать советскую власть. В качестве обвиняемых были привлечены какие-то Яхонтов, Грузинов и Малютин – члены Екатеринбургского Совдепа, Мария Апроскина и Елизавета Миронова и 9 красноармейцев. Все эти лица были признаны виновными, приговорены к расстрелу и расстреляны.
Категорически утверждаю, что перечисленные по фамилиям лица в расстреле царской семьи не участвовали.
В отношении убитых в Алапаевске великой княгини, великого князя, князей и остальных лиц, содержавшихся в Напольной школе, советские власти объявили, что они все похищены какой-то белогвардейской бандой, напавшей на охрану. Дабы заставить окружавшее население поверить этому вымыслу, большевики, уже после совершения убийства, разыграли провокационное сражение с мнимым противником, а для большей убедительности пристрелили содержавшегося в арестном доме за пьянство мужичка и, перетащив его тело к школе, выдали труп за одного из убитых ими белогвардейцев.
Такой же провокационный слух о похищении белогвардейцами был распущен большевиками и в отношении великого князя Михаила Александровича; в действительности же он был уведен и убит тремя членами Мотовилихинской1 Чрезвычайки.
Все это указывает, что убийству августейшей семьи и членов Дома Романовых советские власти придавали чрезвычайно важное значение в деле подготовки для себя будущей победы, но, с другой стороны, уже тогда боялись народа и усиленно распускали сведения, что царская семья вывезена в Германию. Народ и сейчас во многих местах не верит в расстрел бывшего государя, и по России ходит легенда о том, как он скрывается, переодетый простым мужиком, в деревнях Сибири и появится снова на своем троне, когда народ очистит Россию от генералов и буржуев, свергнувших его с престола. «Тогда, – говорит мужик, – будет царь и народ, и между ними никого не будет».
И вот этого второго устоя русского народа, устоя, созданного самим народом в своей бытовой идеологии, Бронштейн и Ленин боятся не меньше, чем устоя религиозного. Народ до правды доходит больше инстинктом; умственные рассуждения массе еще не доступны. И после свержения царя народ чувствует, что правое дело не на стороне тех, кто свергал царя и кто после него стал править землей.
Вот почему главари советской власти так старательно скрывают, что убийство царя и царской семьи было сделано по их приказанию.
С нашей стороны официального правительственного сообщения об убийстве большевиками августейшей семьи и других членов Дома Романовых до настоящего времени не последовало.
Вероятно, пройдет еще немало времени, когда будущая национальная русская власть, опираясь на результаты следственного производства, сможет оповестить мир о небывалой трагедии, разыгравшейся летом 1918 года на Урале, и особенно о кошмарном злодеянии, совершенном Бронштейном, Лениным, Янкелем Свердловым и Исааком Голощекиным в Екатеринбурге, в доме Ипатьева, в ночь с 16 на 17 июля по новому стилю.
Появлявшиеся в нашей печати в разное время частные извещения, заметки, статьи и даже отдельные книги трактовали о судьбе, постигшей членов царской семьи и других членов Дома Романовых, чрезвычайно различно; некоторые, преимущественно черпавшие сведения из-за границы, отличались полным вымыслом и фантазией; другие – в зависимости от личных впечатлений авторов или степени их знакомства с фактической стороной дела – приближались к истине, но, конечно, не могли возместить отсутствия опубликования официальных следственных данных. Такое положение часто давало пищу для ошибочно-неправильных или даже умышленно ложных заключений по вопросу исключительной важности для русского народа.
В начале февраля 1919 года покойный Верховный правитель адмирал Колчак имел определенное намерение опубликовать официально сведения обо всех убийствах членов Дома Романовых, совершенных большевиками на Урале летом 1918 года. Это сообщение, носящее совершенно объективный характер и констатировавшее только факт произошедших злодеяний, должно было быть выпущенным как акт правительства, для ознакомления которого с делом судебный следователь Соколов по приказанию министра юстиции Старынкевича составил краткую сводку документальных данных, с упоминанием в ней (только для членов правительства) таких материалов, которые по нашим законам до окончания следствия ни в коем случае опубликованию не подлежали. Такого рода справки для генерал-прокуроров (каковым является министр юстиции) в течение самого следственного производства законом установлены.
К сожалению, некоторые из лиц тогдашних высших сфер Омска, ослепленные узкой партийной борьбой между собой, решили использовать намерение адмирала Колчака для своих целей. Управлявший в то время делами Совета министров Тельберг без ведома министра юстиции взял из ящика его письменного стола приготовленную Соколовым секретную справку и передал ее в редакцию газеты «Заря», которая на следующее же утро поместила ее полностью на страницах газеты. Верховный правитель приказал немедленно конфисковать еще не успевшие разойтись в розничной продаже номера; но дело было сорвано, шум поднялся невероятный, и адмирал Колчак был вынужден отказаться от идеи «официального правительственного сообщения».
Тем не менее можно думать, что теперь едва ли кто сомневается в самых фактах совершившихся на Урале убийств и, в частности, в факте убийства в Екатеринбурге именно всех членов царской семьи, а не одного только бывшего государя императора, как о том сообщали советские власти. Но как раньше, так и теперь едва ли русское общество в массе, а тем паче – весь мир имеют определенное суждение о том, кто были в действительности прямые вдохновители и руководители этих кошмарных преступлений, а кто является косвенными виновниками их совершения. Были ли эти убийства случайными злодеяниями исключительно местных властей, или инициатива их исполнения исходила свыше, от центра, и, наконец, какими целями и замыслами руководились главари убийств в их ужасных, нечеловеческих деяниях как при совершении самих убийств, так и в отношении сокрытия тел своих жертв.
Покойный Верховный правитель, сознавая историческое значение убийства членов Дома Романовых, решил расширить характер исследования этих преступлений, приблизив его, по существу, к практиковавшимся в особо важных случаях дореволюционного времени сенаторским следствиям. К этому побуждали его и те трения революционного времени, которые следственное производство встречало на месте в различных партийных и классовых распрях общественных, политических и военных деятелей, а равно и вообще неудовлетворительное само по себе первоначальное предварительное следствие, ведшееся следователями Екатеринбургского окружного суда.
17 января 1919 года адмирал Колчак возложил на меня общее руководство по расследованию и следствию по делам об убийстве на Урале членов августейшей семьи и других членов Дома Романовых. Я получил приказание расширить рамки производившегося в то время предварительного следствия по этим делам, не ограничиваясь узко юридической стороной дела, но направляя общее исследование в целях освещения вопроса также с исторической и национальной точек зрения. Специально для ведения предварительного следствия мне был придан судебный следователь по особо важным делам Николай Алексеевич Соколов, а для выполнения требований следственного производства по розыскам и раскопкам моим помощником был назначен начальник военно-административного управления Екатеринбургского района генерал-майор Сергей Алексеевич Домантович.
Предоставление расследованию широких рамок, в связи с чрезвычайно талантливым и идейным ведением Соколовым самого следственного производства, позволили осветить эту мрачную и кровавую страницу истории русского народа в пределах полноты и ясности, допускавшихся в то время. Оставление нами в начале июля Екатеринбурга и Пермской губернии не дало возможности довести следствие до тех результатов, когда можно было бы поставить окончательную точку и сказать, что дело закончено. Нет, расследование и само следствие далеко не кончены, а в историческом и национальном отношениях, думается, нельзя было даже и мечтать его закончить, так как разработка этих вопросов до абсолютной полноты и точности требует не месяцев и годов, а целых десятилетий, и иногда очень многих.
* * *
За последнее время, преимущественно за границей, появилось несколько серьезных печатных трудов, основанных частью на воспоминаниях, а частью и на некоторых официальных документах следствия, об убийстве большевиками в Екатеринбурге членов царской семьи.
В Америке появилась книга упоминавшегося выше Тельберга, бывшего в Омске управляющим делами Совета министров; в Англии издана книга Вильтона, корреспондента газеты «Таймс», проводившего все время при следственных работах на Урале; во Франции изданы записки Жильяра, бывшего воспитателя наследника цесаревича Алексея Николаевича; в Пекине издана книга игумена Серафима, сопровождавшего тела убитых в Алапаевске великой княгини и великих князей при перевозке их из Алапаевска сначала до Читы, а затем до нашей духовной миссии в Пекине.
Располагая некоторыми официальными документами следствия, авторы имели возможность передать картину самого злодеяния с достаточной полнотою. Но нельзя делать таких вещей, как позволил себе игумен Серафим. В труде, преследовавшем цель дать не только фактическое изложение событий, но и характеристику августейших мучеников на основании документальных данных, он, без всякой оценки и проверки правдоподобности, выписывает из советских «Известий» помещенное в них письмо, якобы написанное государем Ленину, и оставляет читателя в убеждении, что это письмо действительно принадлежит перу покойного бывшего царя.
Очевидно, игумен Серафим хотел использовать этот документ как официальное подтверждение тех скверных условий, в которых содержалась царская семья в Екатеринбурге; но ведь вся книга игумена Серафима направлена на идейную борьбу с проводниками идей большевизма; как же можно пользоваться для своей борьбы оружием, взятым из противного лагеря, не убедившись в силе этого оружия? Ведь противники игумена Серафима прекрасно знают, что это письмо ими самими изобретено, как и много других документов, о которых будет сказано в своем месте.
Как перечисленные выше авторы, так и большинство остальных авторов вышедших до настоящего времени заметок, воспоминаний и повествований ограничиваются при указании убийц обыкновенным стереотипным наименованием их – «большевики», а само убийство относят к характеру одного из тех, хотя и выдающихся, но многочисленных убийств, которыми вообще ознаменовали большевики свою власть в России. Кроме того, большинство авторов ограничиваются простым констатированием факта зверского убийства, не выходя из рамок исследования его, как всякого другого зверского преступления, совершенного советскими деятелями в период того лета, с точки зрения установления преступности физиономии той государственной власти, которая возымела дерзость выдавать себя за народную, демократическую власть.
Только в трудах Вильтона и Жильяра впервые в изложении тяжелой кровавой драмы, разыгравшейся в стенах дома Ипатьева, во-первых, зазвучали нотки душевного отношения и внимания к самим жертвам этой исторической драмы, и, во-вторых, быть может, только инстинктивно убийство это выдвигается из ряда обычных большевистских злодеяний той эпохи на степень события национального значения для русского народа.