Это, уже по-настоящему старинное произведение должно было стать карикатурой на рыцарей и феодальный образ жизни, а в итоге получилось отражение общества, актуальное и по сей день. Это ода человеческому самообману, возведённому в абсолют! Ведь в каждом из нас живет и глупец дон Кихот, и голосок здравого смысла в виде его помощника Санчо. Это произведение можно, и даже, стоит использовать как учебник или наставление, которое научит нас тому, как встать на путь постижения мудрости и вознесениям над незначительной суетой этого мира.
Великое произведение, иначе и не скажешь!
Список Бродского. Список Шиндлера. Список Пушкина.
Они первыми приходят на ум. Причем здесь Сервантес и какой список? Тот, что дает ключ к пониманию величайшего произведения человеческой истории. Конечно, он, список, как и полагается в подобных случаях, стоит на муках, страдании и почти разрушенной жизни. Дон Серванкихот.
Вначале была жизнь
Жизнь для подвига, славы и богатства, как без этого? Жил он славно в первой трети, двадцать лет на белом свете… Причем всё по-честному: если слава – заслуженная, если служение – Богу и Отчизне, всё по-честному. Чужого не надо, своё бы получить. У этого юноши, молодого человека честолюбия было явно больше, чем у среднестатистического хишпанца. И планка запросов явно выше. Но и сил, и сил – поболее, что потом, в свое время, помогло выжить. Спешил взять свое, боялся не упустить шедшую в руки судьбу: болен, с трудом встал с постели, но в битве участвовал. Не мог не участвовать. И здесь поймал несколько (!) ранений. И был отмечен, и с этими отметками судьбы двинулся в обратный путь. С рекомендациями Его Величеству.
И берег – вот он, чуток… Вот она – свершившаяся судьба! Вот она – заслуженная награда! Недаром, не зря – бесстрашие, подвиг, движение не «от», а «навстречу». Знаете, как это бывает: пошло! Поперло! Всё получается. Ну всё, за чтобы ни взялся. Головокружение от успехов. Нет, не перед собой или товарищами, перед Ним. И… Протопоп Аввакум говаривал, отвечая на расспросы товарищей: ты – праведный, почему же Он посылает тебе столько страданий. Кого больше любит, тому и испытаний святости больше посылает.
И если бы тогда, при возвращении, его нога коснулась бы родного берега, не было бы ничего последующего. Ничего. Только ещё один более или менее успешный испанский дворянин – ничего другого. Потому что, да простит меня Он за невольное сравнение, потому что как дьявол всегда приходит за платой, так и ОН дает всем по делам. Всегда и всем. По делам. Просто тогда Дон Серванкихот не знал: пропуск в Вечность Истории – самое дорогое, что есть из разрешительных документов в земной юдоли. И вариант Серванкихота – не самый «плохой». Потому что сотни миллионов нас, никому не известных, получивших когда-то пол Его искры, прожившие в страданиях, надеждах, упованиях, ждавших какого-то справедливого «решения», так и не дождались его. Потому что каждому по делам, каждому по способностям. Безвестным – безвестность. И это – жизнь и судьба.
Вечный треугольник
Как читать «монстров» мировой литературы? «Дон Кихот», «Божественная комедия», «Гаргантюа», - апрель оказался богатым на них. Список открыл «Серванкихот». Так как читать то, что полтыщи лет назад писалось на потеху? Да, так было в замысле. Жить и есть нужно было. Не до вечных образом мировой литературы и бессмертия было. Не до таких мелочей. Как читать то, что считалось офигительно смешным? Текст, автор и читатель – это и есть вечный треугольник. Не только ты, но и тебя создает текст. Не только текст, но и ты делаешь его. А автор… А что автор – отстрелялся и готов! Пройдемся по троице. Без этого чтение «Дон Кихота» - просто знак избранности третьего, простите, члена треугольника. Да-да, просто знак избранности. Скромненько так. По-нашему. С него, третьего члена, или вершины, и начнем.
Третья вершина треугольника.
Тебе зачем это нужно? - спросил внутренний голос очередного альпиниста, имеющего славное намерение покорить этого монстра, «Дон Кихота». Понты, разумеется, понты. Успокаивает то, что они, эти понты, не беспонтовые. Знак избранности на самом деле присутствует у каждого такого альпиниста. Это правда. «Я ведь не такой, как все», - это так по-донкихотовски, это так по-сервантехотовски! Не было бы этого..о, честолюбие завяло бы на корню на вторую секунду всеобщей его обструкции! Нет, оно бы просто не родилось. Или задохнулось бы от «что-то воздуха мне мало…» Не наблюдается смерти честолюбия в мире, явно не наблюдается! Кому, кроме понтовитых, это ещё нужно? Кто в когорте? Профессионалы, так они называются, те, кто интерпретирует текст за деньги. Или по долгу службы, то есть всё равно за деньги в конечном итоге. У них – собственная гордость. И из того, что я видел и слышал в паутине…ну, на любителя, на любителя. Отыгрываются ли усилия по штурму вершины? Кому как. И здесь – от возраста, настроения, культуры, истинных целей штурма, - нет мелочей. Но и сама по себе попытка – глубокое уважение. Потому как роман этот – не прогулка. Но и поднимает до себя, хоть на чуток, хоть на миллиметр – отвечаю за слова! Просто немного подождать нужно, если не пошел. Немного. Кому – полжизни. Кому – оставшуюся. Вторая вершина треугольника
Автор. Самый просто член, членик. Потому как подобен третьему члену – читателю. Конкретен. Из плоти и крови. Движим теми же мотивами, что и читатель. Человек, одним словом. Раним, тревожен, ревнив, честолюбив. Вечно нацелен на вечность. На Откровение. Наверное, готов на Подвиг ради вышеозначенного. Наверное. Скорее всего, он – главный ключ к пониманию текста: его жизнь, такая конкретная, из событий, цифр, скрытых и явных мотивов, понятных большинству. Хочешь разобраться с текстом – посмотри на жизнь творца. Это – на 80% и есть отгадка. По-другому…ну, фиш знает, возможны варианты, но всё – в нас, всё – в нас. Ведь текст – это ведь не «про жизнь» вообще. Это ведь – про каждого, про себя в первую очередь, про себя. И пишется он потому что нет сил не писать. И шифруется автор в персонажах и событиях своих книг. И мысли шифрует, и мечты – явные и тайные, - всё в тексте. Но всё – из жизни. Абсолютно всё. С чем это «открытие» можно сравнить? Государства и империи. Сегодня мир, наполненный гравитационными волнами и фотографиями черных дыр, - всем таким исчислимым, конкретным, - скажите, что остается для эзотерики? Что? Возможно, лет десять назад ещё можно было серьезно размышлять о неких скрытых в строках «тайных доктрин» причинах возвышения и падения Царств. Ещё десяток лет назад. Сегодня–смешно. Поэтому, говоря о Риме, о Византии или Британской империи, - пора остановиться и признаться самим себе: мы просто плохо управляли своими Царствами – и никакой мистики. Просто. Плохо. Управляли. Тем, что было вручено Провидением или просто группой товарищей. Так было в 16 веке в Испании, так есть и в 21. Где-то.
К чему всё это? К тексту, разумеется. Не взять «Серванкихота» голыми руками, не взять. Это как в Зоне Стругацких: и прямого пути нет – попадешь на «комариную плешь» или, ещё страшнее – в мясорубку, - и назад дороги нет. Потому как в мире этом, большей его части совсем нет траекторий. А только суперпозиция.
Но и это не всё. Принято считать Кихота воплощением возвышенного, Санчо – приземленного. Ничего подобного! Ниже будет несколько строчек об эстетизации страдания. Которое, страдание, известно как характеризует эстетствующего. Дон Кихот и Санчо – нет, это один человек, одна личность. Раздвоенная личность. Так всегда и бывает с гениями. Одна личность, вечная суперпозиция. Не сомневайтесь, а возьмите второй том, убедитесь лично.
Например. Так называемый суд губернатора Санчо. Ну, ни один здравомыслящий читатель не поверит в совершенное преображение оруженосца не в своего господина, что просто просится на ум. Это не Санчо, но До Кихот устами Санчо вершит правосудие. Никак нет! Соломон – библейский гений – воплощен, мыслиться как образец. Прочтите, как идет правосудие, вы поймете с кем сравнивает себя Сервантес. Нет, без гордыни это сравнение. Хотя любое сравнение – разве оно не от гордыни? Нет?
Первая вершина треугольника
Из сора, из сора растут самые прекрасные цветы. Не поспорить. Не объехать. Не обогнуть. Жить нужно, кормить семью и кормиться самому. Оглядываться, что вокруг – не помешает. Наоборот: какие погоды стоят на дворе? Чем питается публика? Чего хочет? И хочет ли чего-то? Начиная роман…нет, не о Вечности и Славе думал автор. Потому как опыт – он ведь, действительно – сын ошибок трудных. Сколько перед этим у Сервантеса было попыток, сколько заходов на Вечность и Славу! Не мечталось о них? Кто ж поверит! Думаю, как всегда и бывает, сначала – деньги, почва жизни. Заработать. Наконец-то заработать. Представьте, как он начинал всякий раз! Как, как – с молитвы. Просил, страстно просил на это раз не оставить его. Он стоял на коленях пред ликом Его и просил. Нет, он – умолял не оставить. Вы только представьте ужас жизни: ему – за 50! Ему – за 50! Господи, как же это всё знакомо! За 50.
Чего добивался он, придумывая или «просто» описывая свои «приключения»? Это – последняя молитва, последнее обращение к нему, «…чтобы чаще Господь замечал». Поддержи, Господи, не оставь, у меня уже нет сил, мне столько лет, что впереди ни надежды, ни любви. И только слабеющая, и уходящая вместе с жизнью Вера…Господи, не оставь на этот раз! Я – банкрот. Что я должен ещё сделать во славу Твою, чтобы закончить этот мой список? Что?!
Впереди – небытие могилы. Где нет ни размышления, ни труда. А что позади? Неудачи, неудачи, неудачи. Несостоявшаяся жизнь, крах всего, на что рассчитывал, а ведь всё было для достижения, всё! Честь, честность, благородство, бесстрашие, помыслы – какие прекрасные помыслы! Сколько списков своих неудач он составлял, сколько?! Сколько их было, этих списков! Почти состоявшихся дел и надежд, ну вот… чуток…немного ещё…всё должно состояться… - крах. Ничего не состоялось, очередное разочарование и провал. Почти в небытие. Неужели этот путь – единственный? Сервантес его прошел, но он – гений, сам не зная того. Слава и признание гениальности – всё для него там, за могилой. А нам-то что делать? Что делать нам, безголосым и бесталанным?
С прекрасными помыслами, ещё полными сил, умения и помыслами – прекрасными, чистыми, как в юности, помыслами. С годами становящимися всё более и более реальными: понимаешь как. Как их воплотить. Ради блага всех. Но ничего не будет. Ни здесь, ни тем более за могилой.
Невеселое смешное, или трудности перевода.
Гравитационные волны, фотографии массивных объектов…рыцарь с копьем наперевес, по-серьезному, по-взрослому несущийся на ветряную мельницу. Почему так? Что застилало ему глаза, когда он «спасал» статую Мадонны, ломясь в открытую дверь? Казалось бы: безумие не должно касаться нас, когда бы более чем благородны. Ведь мы спасаем Саму Богородицу!!! И что: мы и здесь безумны? Безумны даже в вере? Что со мной? Что с нами? Почему так? Ты оставил меня, Господи? Ты оставил? А тот чудовищный грохот, принятый нашими героями за химеры и монстров? Его источником оказались сукнобойки! Воистину сон разума. Ночная химера оказалась…да ничем она не оказалась! Хозяйством низкого сословия. И так – во всём! И? Что же, вся жизнь оказалась химерой? Думаю, на момент написания он так и думал, он так и думал. А роман – это так, из последних сил.
Это ведь как и начавшийся было бунт на кораблях Колумба или Магеллана: до берега осталось пол вахты, и обязательно кто-то не выдерживает. Обязательно! Там ещё больше 1000 страниц подобного рода событий. Всякие там бараны, принятые за толпы вражеских войск, и прочие подвиги с приключениями. Больше 1000 страниц. «И они там смеются?» - вопрошает сегодняшний классик. Уверен – да, ухохатывались. А нам что делать? Ухохатываться с собственного ухохатывания? И это тоже. Но откуда весь список Сервантеса? Эти мельницы, овцы, пастухи, фальшивые рыцари, замки с графами и графинями?
Откуда это губернаторство Санчо, являющегося на самом деле никаким не Санчо: прочтите, что и как он говорит. На самом-то деле, не Дон Кихот с горечью сетует, обращаясь к оруженосцу: ты – уже губернатор. Подразумевая, что он, более достойный и по способностям, и по…да по всему, - он-то не губернатор. Чья должность понимается не Дон Кихотом – автором в первую очередь - не «номенклатурно», но деятельно: сколько всего можно сделать!
Так откуда всё это?
С той самой неосуществленной юности. С тех самых пор, когда жизнь, вся жизнь ещё лежала перед ним! Жизнь с воплощением царствия Божьего на земле (так он думал), потому что мечталось о губернаторстве=возможности реализации тех самых помыслов=возможности прогнуть этот мир под себя. Впрочем, это едва ли. Мир – творение Божие, едва ли в средневековой, хоть и гениальной, голове мог возникнуть такой богоборческий замысел. Не случилось. Чаша не испита. Не время.
Эстетизация страдания
Какой из подвигов «списка Сервантеса» стоит перед глазами? Тот самый, как и большинство «подвигов» пришедший из алжирского плена: помните, Кихот повелся на шалость двух гостиничных прелестниц и попался рукой в петлю. Попался, да и повис в нескольких сантиметрах от земли повис. О, эта беспомощность! Как унизительная именно такая беспомощность: несколько сантиметров от земли! Ещё чуть-чуть, Господи, ну несколько пылинок и вот она – земля!
Не судьба. Не случилось. Ужасающая беспомощность. Которая смешна, трагична в смехотворности. Якобы смехотворности.
Но если бы список исчерпывался только этим! У Стругацких – как часто и как много там вони, гнили, непереносимых запахов! Как много у Сервантеса эстетизации униженности! Если постоялый двор, то непременно с самыми тупыми постояльцами и последними в ряду хозяевами; если боевой конь, то даже не смешная кляча (но как он описывает дружбу Росинанта и ослика Санчо! Какие слова находит!), а последнее ничтожество; если Серванкихот на том же презренном постоялом дворе сталкивается просто с каким-то стрелком, тот непременно таскает его за бороду у всех на глазах. Чтобы унижение было предельным, невыносимым в униженности. Наверное, только у Достоевского будет так же.
Посвящение в рыцари с амбарной книгой. Помните, как его возвращают домой в первом томе? Сажают в клетку, которую тянет пара ленивых мулов. «Невиданное дело, чтобы рыцарей вот так возвращали домой!»
Само имя – Кихот. В переводе с испанского это что-то, означающее прикрытие, защиту причинного мужского места. И как это вам?
Второй том, или саморазоблачение героя
Серванкихот не выдерживает собственной «установки» на шифр текста. Вы обратили внимание как мало явного, первого Серванкихота во втором томе? Не обратили? Напрасно, вернитесь, посмотрите – оно стоит того! Как он сдал, Кихот, во втором томе! Разве это вызывает удивление? Автору уже сколько – за 60?
Остались, никуда не делись эти все реформаторские порывы прогнуть мир под себя. Жизнь уходит, дорога всё короче, но мысли…куда деться от них? Сколько хотелось сделать к вящей радости всех! И? И ничего.
Черная магия шифровки и её последующее разоблачение, - где это всё произошло? Как Сервантес не выдержал инкогнито? Да и стоило ли на пороге могилы? Помните, рыцарь печального образа на смертном одре. Он делает последние распоряжения. Одно из них – обращение к племяннице: ни при каких обстоятельствах не выходить замуж за человека, начитавшегося рыцарских романов. Серванкихот почти кричит о почти проклятии, если это случится. Он даже обещает вернуться с того света, если произойдет подобный брачный союз.
Что это как не признание собственного банкротства? Положить столько сил, положить жизнь на борьбу с мнимыми и реальными врагами и «врагами», чтобы на краю могилы признать: всё было напрасно. Более того: всё было неправильно и вредно. Для всех. Так он думал, Сервантес, что – ничего. Ничего не получилось. Ничего не состоялось.
«Дар напрасный, дар случайный…»
Да нет. «Нам не дано предугадать…» Не дано.
Потому что как раз здесь, в этом месте и в этот час, чаша опустела.
И началось Бессмертие.
Послесловие
Сколько гелевых чернил осталось на полях, форзацах и листах! Ради чего всё это? Я – не о профитах. Я – о себе. Ради открытия Кихота в себе. Пыль на твоих доспехах, Серванкихот, унес ветер Истории. Пыль на моих ботинках я унесу с собой. Так всегда случается со всеми. И это тоже - жизнь и судьба. Так было и так будет. Как и ты – был и будешь. Во мне, в нас.
И слава Богу!
То, что мне было нужно холодными зимними вечерами. Этот роман читала взахлёб. Этот роман о любви, разбитых мечтах, маленьких и больших трагедиях а еще, о человечности.
Очка глубокая сатира, смешанная с трагикомичным «смехом сквозь слезы» и приправленная размышлениями о жизни, глупых постулатах схоластики, героизме и рационализме.
Книга, которую либо читаешь с восхищением, либо долго к ней подбираешься. История про мечтателя, который так начитался рыцарских романов, что решил сам стать рыцарем. Дон Кихот с его ржавыми доспехами и верным, но вечно сомневающимся Санчо Пансой отправляется в мир, полный мельниц, которые кажутся ему великанами, и простых трактирщиц, которых он видит как прекрасных дам. И вот в этом вся суть книги - она вроде бы про нелепого героя, который путает реальность с фантазией, но на самом деле о том, как важно иметь мечту, даже если она кажется странной. Читаешь, и то улыбаешься, то грустишь. Потому что в этих его нелепых подвигах столько искренности и наивности, что где-то понимаешь: во многих живёт маленький Дон Кихот. Книга про то, как важно быть верным себе. И о том, что настоящая сила - это не сила меча, а сила веры. После "Дон Кихота" остаётся тёплое чувство, будто встретился с очень странным, но невероятно честным человеком, который напомнил: иногда мечтать - это самое правильное, что можно делать. Очень хорошая литература.
Одновременно смешная и грустная история о рыцаре, который борется с ветряными мельницами, мечтая сделать мир лучше. Дон Кихот смешон в своей наивности, но в то же время восхищает верой в идеалы. Санчо Панса, его верный и приземлённый спутник, добавляет здоровой доли реализма. Сервантес не только развлекает, но и заставляет задуматься о мечтах, реальности и их столкновении. Книга большая, глубокая, с вечными темами, которые всё ещё актуальны.
Эту книгу нужно прочитать в 12 лет как приключенческий роман. И перечесть в 30, чтобы понять, что как ни неоценены порой бывают честность и бескорыстие, но это то, что делает мир лучше и чему нужно следовать.
Классика, которая не теряет своего очарования спустя века. Это не просто история о странствующем рыцаре и его верном оруженосце, а настоящий гимн мечте и человечности. Дон Кихот, со своими нелепыми, но трогательными идеалами, и Санчо Панса, такой приземлённый, но добросердечный, создают красивый дуэт. Смешное и печальное здесь сплетены очень необачно. Эта книга о том, как важно верить в чудеса, даже если весь мир против.
В конце книги представлены биография и анализ произведения. это очень интересный материал. спасибо. по другому посмотрела на произведение
Плутовской роман, пародия, роуд – стори, приключения, сказка для взрослых – таким мне видится это произведение после его прочтения. Читается оно довольно легко, несмотря на свой объем, благодаря хорошему живому языку Сервантеса. Сейчас, когда мною прочитано много разных фэнтезийных историй, я с уверенностью могу сказать, что «Дон Кихота» вполне можно использовать в качестве образца, примера для написания книг этого жанра, поместив действие в выдуманный мир и добавив соответствующего антуража.
По стилю повествование напоминает витиеватый слог сказок Шехерезады, видимо, не просто так Сервантес ведет рассказ о хитроумном идальго устами некоего арабского мудреца, как он его величает, писателя и историка Сида Ахмета Бен-Инхали. Новеллы в стиле «Декамерона» разбавляют основной сюжет, как и встречающиеся в тексте стихи и баллады. Удивительно, что в средневековой Испании родился подобный роман – лично у меня при упоминании об этой стране возникают ассоциации в первую очередь связанные с кострами и подземельями инквизиции, еретиками, гонениями на евреев и прочими ужасами.
Несомненно, Дон Кихот – образ собирательный и, скорее всего, пародийный. Наверное, он был создан Сервантесом дабы, как сейчас бы сказали, потроллить средневековых странствующих рыцарей, показав как они смотрятся со стороны, воспевая неизвестных им дам, совершая никому не нужные подвиги (да даже, просто храня в своей кладовке груду железа, гордо именуемую доспехами), вместо того чтобы заняться чем-то общественно полезным. То, что рыцари, как правило, не были даже знакомы с дамами своего сердца (а то и вовсе воспевали несуществующих «возлюбленных») – известный факт, о котором я узнала совершенно случайно, прочитав роман Альфреда Деблина «Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу».
Несмотря на понимание того, что никакого настоящего Дон Кихота в помине не существовало, порой мне было жаль до глубины души этого впавшего в детство, погрязшего в иллюзиях персонажа Сервантеса. Хотя, с другой стороны, его способности узреть волшебство, найти красоту там, где их нет – качество очень завидное. Дети и старики, кстати, такими способностями обладают в отличие от людей среднего возраста.
«Благими намерениями выстлана дорога в ад». Желание Дон Кихота помочь несчастным, обездоленным и угнетенным оборачивается для последних еще большими проблемами, общение с рыцарем так выводит из себя злодеев, что те с двойным пылом отыгрываются на своих жертвах. Вообще, куда бы Дон Кихот ни встрял, с любыми окружающими его людьми происходят всякие неприятности, будь то жаждущая ласки служанка, мальчишка или хозяин постоялого двора.
Санчо Панса на фоне своего хозяина выглядит вполне здравомыслящим и практичным: он-то, в отличие от Дон Кихота, отправился в путешествие, рассчитывая на хорошее вознаграждение. Порой не могла отогнать от себя мысль, что Санчо – типичный медбрат из психиатрической лечебницы, этакий сопровождающий душевнобольного пациента, но - медбрат добрый и заботливый. Очевидно, что его не тяготит безумство Дон Кихота, он всячески поддерживает его и по-дружески опекает в отличие от тех, кто избрал рыцаря в качестве мишени для насмешек и издевательств.
Вообще, об этом романе можно писать бесконечно длинный отзыв, настолько много тут приключений и действующих лиц, плюс ко всему - в процессе чтения то и дело возникают различные ассоциации и параллели с событиями, происходящими, в том числе, и сегодня. Я рада, что мне выпал случай осознанно и осмысленно прочитать «Дон Кихота» в Театральном сезоне группы «Читаем классику вместе». В разном возрасте совершенно по-разному воспринимаются некоторые вещи. Помню, когда изучали «Дон Кихота» в школе, я расстроилась из-за того, что Дульсинея не фигурировала среди главных героев и что в итоге она оказалась далеко не красавицей, достойной восхищения. Сейчас смешно даже вспоминать об этом!
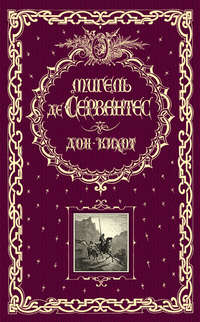
«Дон Кихот» kitobiga sharhlar, 2 sahifasi, 95 sharhlar