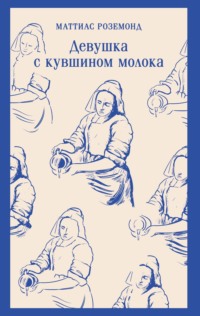Kitobni o'qish: «Девушка с кувшином молока»
Matthias Rozemond
Melkmeisje
© 2023 by Matthias Rozemond
© Бабурова Г. Ю., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
* * *
Посвящается Рэйчел
Каждая истина проходит через три стадии: сначала ее высмеивают или вырывают из контекста, затем ей сопротивляются и, наконец, принимают как само собой разумеющееся.
Артур Шопенгауэр (1788–1860)
Пролог. Таннеке
Февраль 1657 года
Ледяной февральский день; рынок почти пустой.
Неудивительно, ведь на улицах белым-бело после прошлого снегопада, а потемневшее небо, похоже, готовится выдать новую порцию снега. Поднимаю воротник и, оскальзываясь, перехожу на другую сторону. Мне нужно набраться храбрости, чтобы зайти на постоялый двор – впервые в жизни.
Едва переступаю через порог, как кто-то вопит, чтобы закрыли уже наконец эту чертову дверь.
Внутри воздух сизый от дыма. Приглядевшись, вижу нескольких мужчин за игрой в кости. Две служанки разносят пиво от столика к столику. Мельком взглянув на меня, они сразу понимают, что я здесь чужая, и возвращаются к работе. Третья девушка как раз ставит кружки на стол. Один из игроков тянет ее за руку и усаживает себе на колени. Девчонка визжит. Вся компания разражается одобрительным ревом.
«Мехелен» – постоялый двор, где, судя по слухам, продают не только пиво и колбасу. Здесь можно купить и любовь – точнее, то, что за нее выдают, – и лотерейный билет. Если захочется, можно даже заглянуть в будущее: здесь погадают любым способом – хоть по ладони, хоть по запасливо прихваченной с собой бутылочке с мочой. В Делфте «Мехелен» известен каждому.
Я пришла посмотреть на картины – здесь и такое можно приобрести. Не сразу нахожу место, где они висят. Вон там, слева, за плотными рядами спин и плеч.
Неужели я вот-вот своими глазами увижу картину Яна? Смотри-ка, вот и Белый Медведь! Пес подходит меня обнюхать. Его так зовут – Белый Медведь, что, конечно, больше говорит о семействе Яна, чем о самом звере. Псина совершенно безобидная, разве что огромная, как медведь.
Парень за последним столиком чуть разворачивается, не отрывая взгляда от карт, и кладет ножищу в сапоге со шпорой на соседнюю табуретку, загораживая мне проход. Я подхожу вплотную. Только теперь он удосуживается поднять на меня глаза.
– Куда это ты так спешишь, красавица, к тому же совсем одна?
У кавалера лысая черепушка и обвислые красные щеки.
Неужели придется стерпеть такой гадкий тон? Вы только полюбуйтесь: едва пробило полдень, а эти дармоеды уже глаза залили. Играют и пьют вместо того, чтобы делом заняться, как все приличные люди.
Можно, конечно, сбросить его ногу и молча пройти мимо, только выпивоха – кстати, интересно, откуда он; по выговору вроде как с востока страны – продолжит в том же духе: потащится за мной, и хорошо, если один, а то и приятелей прихватит. Наверняка сочтет, что я его задираю.
Нет уж, у меня на обед всего полчаса, каждая минута на счету, так что лучше распорядиться ими с умом.
Сначала вежливо попрошу пропустить, а будет приставать – обойду кругом, да и все.
Сосед разговорчивого болвана вынимает трубку изо рта и выпускает облачко дыма.
– Герт! – Гляди-ка, у пьянчуги даже имя есть. – Ты ходить собираешься?
Иначе напарник грозит зачесть Герту проигрыш. Двое других встречают угрозу одобрительным гулом.
Лысый выпивоха задумчиво смотрит на три ромба и дощечку с мелом на столе, в конце концов откладывает карты и встает. Он выше меня на целую голову. Боже милостивый, как же от него несет потом и мочой!
Отвожу глаза в сторону и вежливо прошу меня пропустить. Вместо этого пьянчуга кладет голову мне на плечо и скороговоркой спрашивает, можно ли составить мне компанию и хватит ли мне гульдена. С трудом освобождаясь из его объятий, велю приберечь свой гульден и убрать от меня лапы, но Герт просто так не сдается.
Едва я поворачиваюсь, чтобы обойти столик, он хватает меня за накидку и тянет к себе. Трое других наблюдают, не вмешиваясь. Даже Белый Медведь не залает!
Герт смотрит на меня пустым взглядом и ухмыляется, словно ему самому любопытно, чем дело кончится.
Вокруг стихают разговоры. Эх, а до картин оставалась всего пара шагов!
Герт называет меня злюкой. Что ж, это он правильно угадал. К щекам приливает кровь. Ладно, сам напросился. Подступаю ближе и, не отводя взгляда, прошу пропустить меня по-хорошему.
– Сдается мне, ты с Белым Медведем еще не познакомился? Стоит мне закричать, – а я закричу, будь уверен, – он на тебя набросится, сам рад не будешь!
– С каким еще Медведем? Ты про псину, что ли? – Герт недоверчиво косится на пса.
– Это не просто собака, а волкопес! Спорим, через четверть часа тебя отсюда вынесут?
Пьянчуга неловко усмехается.
– Да ну?
– Мишка, подтверди! – Оборачиваюсь к псу, который с озадаченным видом садится на задние лапы. До чего здоровенная все-таки животина!
Приятели Герта хихикают и подталкивают друг друга локтями. Тот в раздумьях гладит трехдневную щетину.
– Ты меня, что ли, псиной стращаешь?
Я упираю руки в бока.
– Глянь-ка, твои приятели будут рады-радешеньки, если тебя наконец-то проучат, а ты сейчас просто по краю ходишь!
Пьянчуга озирается на свой столик, его пыл заметно поугас.
– Оставь девчонку в покое, – ворчит один из игроков. – Давай лучше сыграем еще партеечку!
Герт, хохотнув, переводит взгляд со своих собутыльников на меня, а затем на пса, прикидывая шансы.
– Ладно, дамочка, меня тут друзья заждались…
Остальные оправдания тонут во взрыве хохота.
С облегчением пробираюсь дальше. Первое препятствие пройдено, но картины от меня по-прежнему заслоняет ряд спин и плеч.
Приходится почти кричать, чтобы меня пропустили, однако мой голос теряется за кошачьим визгом волынки. Эти ребята меня не замечают. Приподнимаюсь на цыпочки – не помогает, осторожно хлопаю одного из зрителей по плечу. Ко мне оборачивается удивленная физиономия с перебитым носом, к тому же зубов во рту не хватает.
– Пропустите девицу! – ревет он.
Остальные расступаются. Надо же, помогло!
Просачиваюсь между парнями. Одно хорошо: в этом гвалте никто меня не узнает. А я-то еле втиснулась в одежду матушки и платок под чепец повязала! Можно было и не утруждаться.
Здесь еще больше несет пивом и мужским потом.
И вот я стою перед полотном. Господь милосердный, до чего же огромная картина! Когда Ян только успел? Обычно он зимой почти не пишет, а тут умудрился окончить такую громадину! Сколько же месяцев он просидел в мастерской наверху, после того как теща запретила ему показываться на пороге?
Увы, слухи оказались правдивы. Ян и вправду написал сцену из жизни борделя: справа продажная девица с клиентом, слева – сводня.
Зрители позади меня единодушны:
– Совсем стыд потерял!
– Грязный католический ублюдок!
– Никакой морали, куда мир катится!
Самое ужасное, что они правы. Неужели Ян окончательно спятил?
Картину повесили только позавчера, а слухи о ней уже расползлись по всему городу. Мне нужно было посмотреть на нее своими глазами и убедиться, что дельфтские сплетники, как обычно, не раздувают из мухи слона. Увы, на этот раз Ян действительно навлек позор на свою голову.
Кстати, он и себя изобразить не погнушался: вон там, в левой части картины, в камзоле с разрезами на рукавах. Ни дать ни взять итальянский трубадур, что кочует из города в город. Ошибки быть не может, его лицо слегка скрыто в тени, но это Ян собственной персоной – его нетрудно узнать по кривой ухмылочке и длинным кудрям. И как же он себя изобразил? Поднимающим тост за счастливую парочку, ни больше ни меньше. Меня толкают сзади, на накидку льется пиво. Нет уж, я с места не сдвинусь, хочу разглядеть все как следует!
Отчасти я пришла сюда именно за этим. Вторая причина прячется в потемках и носа не высовывает. Я смотрю на то, чего не хочу видеть.
Сводня, обряженная в черное платье, не нарадуется монете, которую клиент сует своей девице. Второй рукой развратник хватает девушку за грудь. Господи, уж это совсем ни в какие ворота! Бедняжка стоит красная, словно рак.
Чуяло мое сердце! Неужели это правда она?
1. Ян
Сентябрь 1657 года
Кат совсем рядом – напротив, через дорогу от рынка, в девяноста двух шагах или полутора минутах ходьбы. Стоит взгляду скользнуть поверх липовых крон мимо фасада Новой церкви – и вот он, тот самый дом. Чердачное окошко приоткрыто. Мы могли бы помахать друг другу.
Примерно в это время малышку Элизабет кормят кашей. Марии достается пара кусочков яблока, которое Кат чистит ножом, пытаясь снять кожуру одной длинной лентой. В случае удачи Мария радостно хлопает в ладошки, но получается довольно редко, потому что Кат действует неторопливо и старается срезать кожуру потоньше. Мария с набитым ртом спрашивает обо мне, а Кат в надежде, что расспросы прекратятся, спокойно отвечает, что я обязательно сегодня к ним загляну. Марии всего три, но она умеет видеть правду в почти прозрачных глазах матери. Девочка снова и снова задает один и тот же вопрос: «Почему я сплю на дворе?» – так она называет постоялый двор.
Кат нарочито беззаботным тоном отвечает, что маме с папой надо поговорить и обсудить их будущее, а пока что еще ничего не известно. Это слишком сложно для Марии, и она поворачивается к новорожденной сестренке – пощекотать и развлечь погремушкой.
Может, она задаст матери последний вопрос, «рисоваю» ли я. «Художник» для нее слишком трудное слово. На это Кат велит Марии доедать поскорее, если той и правда хочется на улицу, а затем вытрет ей пальчики – один за одним. Элизабет приходится умывать как следует, малышка вечно перемазывается кашей до самой макушки.
Кстати, я вовсе не «рисоваю». Сижу себе и смотрю в окно, точнее, на тонкую паутинку в оконной раме, в которую только что угодила муха. Ох, бедняга! Никак тебе не выбраться? А куда же ты смотрела, неужели не заметила паутину такими-то огромными глазищами? Что я тебе скажу, ее-то специально для тебя плели. Лучше не дергайся, а то паук тебя обнаружит… А вот и он. Пока паук делает свое дело – подбирается, впрыскивает яд, опутывает новой нитью, – я не свожу с мухи глаз в глупой надежде, что та сумеет выбраться и улетит, а я с облегчением помашу ей на прощанье.
Я же католик, мне полагается верить в чудеса. Разве люди созданы для того, чтобы мириться с суровой реальностью, с горькими уроками, в которых последнее слово остается за злом? Ведь это полное порабощение души! Нет, люди хотят взлететь ввысь, освободиться от оков, им просто необходимо чудо. И мне тоже, иначе не выжить. Мне всегда претила холодная расчетливость протестантизма. Впрочем, оставим религиозные распри в стороне, они мне уже поперек горла.
Тем временем муха превратилась в толстенький белый кокон. Бедняга свое отлетала.
Ну так вперед, Ян! Скоро набежит очередное облачко, и ты получишь свое матовое сияние. Ты же подошел прикинуть, чтобы на скатерть попадало больше света, – так можно будет сделать весь портрет на тон светлее. Если дурака валять, точно ничего не добьешься.
Кат вечно твердит, что у меня не все дома, потому что я говорю со всем на свете: с картинами, с Белым Мишкой, с облаками и с самим собой. Но стоит мне попытаться молча сосредоточиться на ее портрете, как она сама начинает болтать без умолку – сыплет вопросами и скачет с одного на другое, так что я выхожу из себя. Тогда я начинаю напевать, и Кат обижается. Ох, что у нее с лицом делается, с него мигом вся краска сходит. Смотреть невыносимо, хотя я сам тому причиной. Ей не понять, что мне нужно сосредоточиться на картине. Именно так я выражаю свою любовь, только так у меня получится что-то стоящее.
Встаю за мольберт. Солнечные лучи падают в комнату сквозь занавески. Пылинки кружат в косых лучах света. Знаю, мастерская с окнами на юг – сплошное безумие, пришлось завесить два окна из трех.
В один прекрасный день весь Делфт признает мой талант. Вот тогда заведу себе мастерскую с окнами на север, накуплю дорогих красок и кистей, и мой поединок со светом продолжится. Мы еще поглядим, кто кого.
Давай, Ян, пошевеливайся! Сделай шажок к своей цели. Смотри, белый кувшин и ее воротничок красиво отражают свет. Может, сделать фрукт рядом с кувшином чуть поярче?
Нет, тогда свет будет бить ей прямо в лицо, и она проснется. Оставь как есть. Пусть хотя бы нарисованная Кат вволю выспится.
А я буду мечтать о том, как настоящая Кат однажды станет счастлива.
2. Таннеке
Неважно, что я зареклась переступать порог этого вертепа, – у хозяйки оказалось другое мнение на этот счет. Глубоко вдыхаю и отворяю дверь черного хода, ведущего на постоялый двор. Глаза постепенно привыкают к едкому дыму. Шагаю прямиком к прилавку, за которым женщина в кожаном переднике вытирает посуду. Это мать Яна. Худобу он унаследовал от нее. Седые кудри торчат из-под чепца во все стороны, вид у нее усталый и издерганный, словно говорит о том, что она жизнь по-другому себе представляла. Заметив пятнышко, старуха поплевывает на оловянную кружку. Здесь, на постоялом дворе, порядки иные, чем у нас дома, да и во всем остальном городе.
Заметив меня, женщина коротко кивает в сторону лестницы и отворачивается. Мне самой следует догадаться, кем она больше недовольна – собственным сыном или мной. Кто-то из гостей отпускает шуточку. Хозяйка делано смеется.
Если Ян не разливает пиво за баром, значит, сидит наверху за холстом. Пробираюсь мимо здоровенного бочонка с вином и клетки с попугаем. Бедняга, тебе день-деньской приходится торчать на этой жердочке?
Стучу в дверь студии и вхожу, не дожидаясь ответа, – в этом гвалте разве что-то услышишь?
Ян удивленно оглядывается на меня, откладывает кисть в сторону и вынимает из ушей затычки.
– Таннеке, ты что здесь делаешь?
– Простите за беспокойство, я принесла письмо от хозяйки.
– Письмо? Давай скорей сюда!
Подаю письмо, отступаю на шаг и вижу отправительницу собственной персоной – на холсте. Так и знала, что он пишет ее портрет. Работа еще не окончена: на портрете хозяйка задремала в неудобной позе, словно очень устала бесконечно сидеть и позировать, а может, и от самого художника, их брака и тех хлопот, что он принес. Стоит человеку посидеть без дела, он начинает задумываться, а это вредно. Именно по этой причине надеюсь, что никому и никогда не придет в голову заставить меня сидеть смирно.
Не знаю, как ему это удается, но у хозяйки во сне такое беспечное лицо, словно ей снится беззаботная жизнь.
Люди поумнее меня говорят, что у Яна есть талант. Я не раз это слышала своими ушами. Что ж, рисует он похоже, ничего не скажешь. Если это талант, спорить не стану.
Смотри-ка, на ней дорогие материнские жемчуга! Кому, как не мне, их узнать, ведь я служу у Марии Тинс без малого шесть лет. Этим летом Мария вручила драгоценности Катарине авансом в счет наследства вместе с льняными простынями, столовым серебром, кольцами, браслетами и позолоченными цепочками.
Только Катарина не любит наряжаться и редко надевает украшения. Однако, гляжу, согласилась, чтобы угодить Яну. Матери ее, похоже, невдомек, она ведь сюда носа не кажет. А не помешало бы, особенно прошлой зимой. Уж она живо положила бы конец тому безобразию, на которое столько сил было угрохано. Теперь вот еще одно досадное недоразумение.
Да уж, как только до Марии Тинс дойдут слухи, что ее дочь во второй раз послужит развлечением для всякого сброда, ее кондрашка хватит. Хотя в этот раз все вполне невинно, и Катарина на портрете прехорошенькая, может, Марии это и польстит. Ха, как представлю, что она крадется сюда в чужих одеждах, прямо как я! Да только куда ей, такой богопослушной, по дельфтским притонам таскаться? Чай, не в церковь ходить по воскресеньям.
Поистине, врагу не пожелаешь – так любить дочь и не осмелиться прийти полюбоваться на ее портрет. Тут еще вот какая закавыка: ей же молчать придется! А то ведь захочется, например, похвалить дочкину красу или жемчуга, это же получится, что она и Яна нахваливает. Не будет этого!
Более разных людей, чем зять и теща, не сыскать, но в Катарине они оба души не чают. Каждый тянет на свою сторону, и конца-края тому не видно.
Ян приходит ночевать на Ауде-Лангендайк только по субботам, но иногда отважно пробирается в дом и поздно вечером в другие дни. Мы ставим на окно в гостиной свечку – знак, что Мария Тинс уже легла. Он крадется в дом в одних чулках, а я закрываю ставни. Ох уж эти два голубка, и друг без друга не могут, и поладить не получается. Как будто эти тайные свидания – забористо, не спорю – им трудности разрешат. Нет уж, пусть лучше меня не втягивают, а то в прошлый раз устроились в кладовке рядом с кухней, вроде как я глухая как пень. Конечно, они там не просто за ручки держатся, дело молодое. Хорошо, что для меня эти забавы остались позади – уже восемь лет или около того, как мне не приходится делить постель с мужчиной. По мне, так и отлично. Хотя, если мне доводится услышать, как двое развлекаются, – я старалась не слушать, но как тут не услышать? – все равно на душе как-то тяжко становится. Я не завидую, еще чего не хватало! Мне и неловко было, в конце концов, это не для моих ушей, только любопытство все равно разбирало. В детстве меня всегда из дома выставляли… Ну, да ладно, хватит, заболталась.
Понятно, когда слов не хватает, приходится как-то по-другому договариваться.
Стоит нам после всей этой катавасии столкнуться с Катариной в коридоре – а такое случалось не раз и не два, – она как ни в чем не бывало делает вид, будто перекусить в кухню спускалась. Ну да, ну да, только вот почему-то ночной чепец не надела. Ян, конечно, к тому времени уже выбирался через заднюю дверь и выскакивал через ворота Моленпоорт.
Ох, ну и бардак же здесь! На столе грудятся камушки, стеклянные банки с разноцветными порошками, среди всего миска с грецкими орехами и какие-то булыжники, пестик и ступка, плитка белого мрамора с камнем для растирки. Слева оловянная тарелка, справа – флакончики и шпатели. Кто знает, для чего это все нужно.
Ага, кувшин из делфтского фарфора Ян написал на портрете Катарины, и этот винный бокал тоже!
Глаза снова устремляются к картине – она полнится тишиной, что удивительно, потому что мастерскую тихим местом не назовешь, шум сюда проникает отовсюду: снизу из трактира, да такой, что напрочь перекрывает рыночный гвалт. Звуки рынка слышны и у нас в доме, потому что там царит зловещая тишина. Стоит маленькой Марии пошуметь, бабушка велит ей вести себя потише. Девочка с радостью сидит со мной в кухне, там никто не запрещает стучать половником по крышкам кастрюль и можно полакомиться сладкой вишней.
В общем-то, он славно придумал. Портрет – отличный повод, чтобы раз за разом заманивать ее к себе в мастерскую на протяжении целых трех месяцев. Творческое решение. Если скучаешь по кому-то, приходится изворачиваться. Наверняка всякий раз звал ее под одним и тем же предлогом: можешь, пожалуйста, мне снова попозировать? Конечно, и пообниматься заодно, ну так что ж с того? Может, это и есть любовь? Я не особо разбираюсь. У них постоянно одно и то же: в прошлом мае Катарина вернулась в материнский дом, говоря, что сил у нее больше нет, хотя и полгода не прошло с того, как она с теми же словами на устах перебралась сюда, к Яну. Милые то бранятся, то тешатся, и так без конца.
Тем временем начинаю разбирать во всеобщем гвалте отдельные звуки. Прежде всего, унылое мяуканье волынки и прихлопы в такт. А что там наверху творится? Парень стонет так, словно что-то тяжелое на чердак тащит, да вот только еще и кровать при этом скрипит. Ага, теперь слышу и женские стоны, только не такие натуральные – явно по работе, а не по любви.
Ох, Ян, как же ты умудряешься здесь работать!
Он сам молча стоит с запиской в руке и провожает взглядом плывущие мимо беспокойные облака, словно ждет, что они позовут его с собой. Судя по его страдальческому лицу, ответа мне ждать не стоит.
Меня часто гоняют туда-сюда с записками, ведь я не умею читать. А мне оно и не надо, я и так знаю, что там написано. Утром, когда посуду мыла, слышала, как Катарина с матерью толковала. Она точно-точно останется жить вместе с дочками в материнском доме, поэтому ее вещи надо перевезти обратно, ведь на этом постоялом дворе счастья ей не видать. Мария Тинс слушала да помалкивала, только довольна была, что все вышло так, как она говорила.
«Они все плохо кончат, кто там обитает» – так и сказала, как отрезала, только гораздо позже, когда я уже посуду со стола после обеда убирала, а Катарина с девочками наверх ушла.
Мне понятно, почему Катарина решила написать письмо. Яну не очень-то по душе внезапные перемены, оглянуться не успеешь, как в воздухе табуретки летают.
Ну какое недовольное лицо! Нет, ему не позавидуешь, хотя надо отдать ему должное: посреди всего бардака, что здесь творится, он продолжает писать, хотя своими картинами вызывает только насмешки и ругань. Даже этот чудесный портрет вряд ли делу поможет.
Посмотрим еще недельку-две, и он закончит. Если покупатель не найдется, считай, на этом песенка Яна спета. А там и брак под угрозой, только никто в этом не виноват, кроме него самого.
С дурацкой улыбкой он складывает записку и прячет в коробочку с жемчугом. Как похоже на Яна, даже отказ он будет бережно хранить.
Он расправляет плечи и без эмоций смотрит на портрет.
– Как там девочки? – интересуется он и берется за палитру. На очереди скатерть, ее голубые квадратики.
– Нормально…
– Маму слушают?
– Вроде бы.
– Что там Мария, играет с волчком, который я подарил на день рождения?
– Ей еще трудно, не получается веревочку размотать, рановато для трех лет.
– Знаю-знаю, а когда не получается, она злится. Яблочко от яблони…
Выдавливаю из себя улыбку.
– Ждать ли ответа, хозяин?
Он качает головой.
– Просто скажи, что я с ней еще поговорю.
– Надеюсь, что вы на чем-нибудь порешите.
– Только в тот дом я не вернусь! Пусть даже не надеется меня подкупить!
Да уж, сказал как отрезал. Со мной-то чего спорить! От испуга пячусь назад. Значит, я верно угадала, что там написано.
– Может, будете почаще заходить…
– Да, но как же гостиница и портрет…
– Портрет почти готов. Очень красивый, если позволите высказаться…
– Спасибо, Таннеке. Понимаешь теперь, почему я ни за что не сдамся?! Когда-нибудь…
«Интересно, что „когда-нибудь“?» – раздумываю я, покинув мастерскую. Когда-нибудь он закончит портрет и выяснит, что в Делфте его работы не очень-то в цене. Пару десятков гульденов – вот и все, что он за него выручит, а сколько времени потрачено!
Если он сам откажется взглянуть правде в лицо, Катарина ему поможет, ей это все давно поперек горла.
Выскальзываю из постоялого двора через кухоньку. Ну и вонь здесь стоит! К уличной выгребной яме толпится длинная очередь.