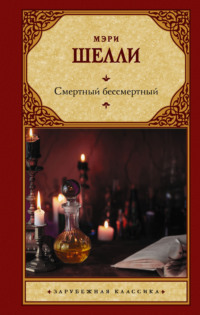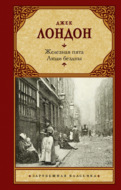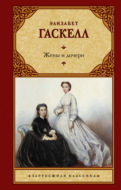Kitobni o'qish: «Смертный бессмертный»
Сестры из Альбано
Альбано плещет меж соседних скал;
Вот Тибр сверкает лентой предо мною,
И омывает моря синий вал
Брег Лациума дальний… Песнь про Трою
Там загорелась яркою звездою.
Направо вилла: Туллий находил
В ней тишину, наскучив суетою.
А там, где кряж полнеба обхватил,
Измученный поэт в прелестной мызе жил1.
В последнюю свою поездку перед тем, как покинуть Рим, я захотела взглянуть на это прекрасное озеро. Весна уже переходила в лето: деревья облеклись свежей зеленой листвой, и пел виноградарь, что, пробираясь между ними, подрезал лозы; цикады еще не завели свою песнь – а значит, не пришло время удушающей жары; но вечерами в холмах мерцали светляки, и крик азиолы2 убеждал нас в том, в чем в этой стране нет нужды сомневаться – что завтра погода будет не хуже, чем вчера. Выехали мы ранним утром, чтобы избежать зноя, позавтракали в Альбано и с десяти часов утра делили время между мозаиками, Виллой Цицерона и другими достопримечательностями здешнего края. В середине дня мы устроились на отдых в шатре, раскинутом для нас на вершине холма. Отсюда открывался вид на окруженное холмами озеро и городок с церковью на дальнем его берегу. По склонам гор рассыпались деревушки и отдельные домики; а позади всего этого фоном раскинулось глубокое синее море, воспетое южными поэтами; Тибр, неутомимый и бессмертный, катил в него свои быстрые воды и растворялся в его глубине. Пал Колизей, рухнул Пантеон, и сами холмы Рима сгладило время – но Тибр все живет, все течет и вечно питает собою Средиземное море.
Компания у нас, искателей диковинок, собралась немаленькая, но более всех заинтересовала меня графиня Атанасия Д., прекрасная, как создание Рафаэля, и добросердечная, как идеал поэта. С ней были двое ее детей, в коих благовоспитанность сочеталась с веселостью, хорошие манеры – с любопытными взглядами. Я села с нею рядом, и мы вместе следили за нескончаемым бегом теней по холмам. Солнце, опускаясь к горизонту, пролило в долину озера поток света и жидким золотом окрасило глубокую расщелину между гор. Пылали и сверкали купола и башни городка, деревья купались в сиянии; два-три легких облачка, столь пронизанные светом, что, казалось, сами состояли теперь из солнечных лучей, золотистыми островками плыли в блистающих эмпиреях. Воды, отражающие сияние небес и тронутые лучами берега, сверкали у наших ног, словно второе небо и вторая земля. Средиземное море, взирающее на солнце – так туманятся глаза невесты, когда она ловит взор жениха, – впитывая его свет, забыло о себе и смешалось с солнцем так, что стало с ним единым целым. Долго смотрели мы – и души наши, как море, и холмы, и озеро, впивали в себя эту дивную красу: но наконец чаша переполнилась, и мы со вздохом отвели взоры.
У подножия холма простиралась полоска земли, образующая ближний план пейзажа: здесь высились на фоне неба два дерева, залитые золотистым светом, что, казалось, каплями росы повис на их листьях и ветвях; с другой стороны закрывала вид скала, увитая плющом и украшенная цветущим миртом; меж огромных камней пробирался ручей, а на берегу его, на обломках скалы, сидели двое или трое крестьян, привлекших наше внимание. Один был охотник – на это указывало его ружье, прислоненное к уступу неподалеку; однако грубая соломенная шляпа и живописный, но бедный костюм свидетельствовали о том, что он принадлежит к земледельческому сословию. Другая – contadina3 в обычном для этой местности костюме с корзинкой на локте – возвращалась из деревни в свой уединенный домик. Они рассматривали товары коробейника, что, сняв шляпу, стоял перед ними, – в основном картинки с местными видами, изображения Мадонны и печатные издания. Наши крестьяне разглядывали все это с неподдельным интересом.
– Об этой паре легко сочинить историю, – заметила я. – Путь воображению укажет ружье: допустим, перед нами разбойник, гроза здешних мест, и его возлюбленная сontadina – и лишь ей, самому беззащитному созданию на свете, он не страшен…
– Вы так легко говорите о подобной связи, – отвечала прелестная графиня, – словно она по самой природе своей не должна приводить к ужасным трагедиям. Любовь и преступление – такое сочетание сулит только горе: беззаконная жизнь неизбежно приносит и самому преступнику, и всем, кто с ним связан, невыразимые несчастья. Я говорю об этом с таким чувством, ибо ваше замечание напомнило мне об одной злополучной девушке, ныне сестре милосердия в римском монастыре Санта-Кьяра, чья пагубная страсть именно к такому человеку, как вы упомянули, навлекла величайшие беды на всю ее семью.
Я стала упрашивать мою прелестную приятельницу, чтобы та поведала мне историю этой монахини. Долго она противилась моим уговорам, не желая омрачать удовольствие от поездки этой скорбной историей. Но я не отставала, и она согласилась. Нежная итальянская речь ее и сейчас звучит у меня в ушах, прекрасное лицо стоит перед глазами. Пока она рассказывала, село солнце, и по оставленному им сияющему следу выплыл в небеса серп месяца. Озеро сделалось из пурпурного серебристым, и деревья, еще недавно сияющие, теперь превратились в неясные темные тени: лишь верхушки их слабо серебрила луна. Меж камней замелькали светлячки, над головами у нас проносились летучие мыши, а графиня Атанасия рассказывала свою историю.
У монахини, о которой я поведу речь, была старшая сестра. Я помню обеих: детьми они носили яйца и фрукты на виллу моего отца. Мария и Анина были неразлучны. В широкополых соломенных шляпах, защищающих от палящего солнца, день-деньской трудились они на podere4 своего отца; а вечерами, когда Мария, четырьмя годами старше, шла к источнику за водой, Анина всегда бежала рядом. Их хижина – отсюда ее не видно за холмом – находится на дальнем берегу озера, а источник, о котором я говорю, примерно в четверти мили выше по склону. Мария была тихой, серьезной, задумчивой; Анина – очаровательным веселым созданием с ангельским личиком. Когда старшей сестре исполнилось пятнадцать, слегла их мать: за ней ухаживали в монастыре Санта-Кьяра в Риме. День и ночь Мария не отходила от постели больной. Монахини видели в девушке ангела, она почитала их святыми; мать ее умерла, и монахини убедили Марию к ним присоединиться; отец ее не мог не одобрить такого святого намерения, и Мария сделалась одной из сестер милосердия, монахинь, ходящих за больными в Санта-Кьяре. Раз или два в году она бывала дома, давала мудрые и добрые советы Анине – и порой плакала, прощаясь с нею; но благочестие и неустанная забота о больных примиряли ее со своей судьбой. Анина еще более горевала о том, что лишилась общества сестры. Другие девушки в деревне не были ей интересны: она была хорошей дочерью, неустанно трудилась в отцовском доме, и лучшей наградой для нее становилось, когда отец расхваливал ее в письмах Марии, и та, приезжая, осыпала сестру нежными похвалами и ласками.
Вплоть до пятнадцати лет Анина не выказывала ни малейшего охлаждения к сестре. Впрочем, неверно здесь говорить об охлаждении: любила Анина сестру, быть может, еще сильнее прежнего, но теперь ее святое призвание и мудрые наставления лишали ее покоя, и Анина трепетала при мысли, что монахиня, преданная Небесам и благим деяниям, способна прочесть в ее глазах – и осудить – охватившую ее земную страсть. Быть может, отчасти ее тревога была связана со слухами, ходившими в окрестностях о ее возлюбленном, и несомненно, – с тем неодобрением, даже неприязнью к нему, что часто выражал ее отец. Несчастная Анина! Не знаю, умеют ли крестьяне у вас на севере любить так, как наши: но ее любовь была сплетена с корнями ее существа, стала ею самой – она могла умереть, но не могла перестать любить. Отец ее за что-то невзлюбил Доменико, и потому они встречались втайне. Юноша всегда ждал ее у источника, помогал наполнить кувшин водой и поставить на голову. Он ходил на те же церковные службы, что и она; а когда отцу ее случалось отправиться в Альбано, Веллетри или в Рим, Доменико, словно каким-то чутьем угадывая, что он отлучился, в тот же миг присоединялся к ней в podere и работал там вместе с ней и за нее, пока старик не показывался вдалеке на склоне холма. Доменико уверял, что батрачит на одного contadino5 в Неми. Порой Анина спрашивала себя, как позволяет ему работа столько времени проводить с ней; но объяснения его были вполне правдоподобны, а встречи слишком радостны, чтобы невинная девушка что-то заподозрила и начала доискиваться до истины.
Бедный Доменико! Слухи, ходившие о нем в округе, были, увы, слишком обоснованны. Оправдывало его разве только то, что грабежом промышлял и его отец, и Доменико вырос среди разбойников. По натуре он не был пропащим – он мечтал о мирной жизни и чистой совести. Впрочем, едва ли можно сказать, что совесть его была нечиста; никакими ужасными преступлениями он себя не запятнал. И все же он был преступником, бандитом; и теперь, когда полюбил Анину, названия эти ядовитыми стрекалами жалили его совесть. Хотел бы он бежать от своих товарищей как можно дальше – но разве мог он бросить Анину? На беду как раз в это время французское правительство, в те годы владевшее Римом, учредило здесь полицию, а та начала бороться с бандитами. Ходили слухи, что против разбойников, обитающих на холмах близ Альбано, Веллетри и Неми, вот-вот будут приняты самые серьезные меры, и это заставило разбойничьи шайки сплотить свои ряды. Доменико, если бы и мог – не бросил бы товарищей в минуту опасности.
Однажды – было это в конце октября – Анина вместе с отцом вышла на festa6 – праздничные гуляния, когда по всей Италии поселяне собираются и ходят толпой по деревне. Вокруг только было и разговоров, что о ladri7 и о французах: рассказывали немало ужасов об истреблении banditti8 в Неаполитанском королевстве, подробно описывали меры, при помощи которых французам удалось преуспеть в этом предприятии. Армейские отряды прочесывали местность, разоряли одно бандитское логово за другим, выкуривали оттуда разбойников, гнали их, как в этих краях гонят диких зверей на охоте, и, постепенно сужая круг, запирали в одном месте. Затем вокруг этого места выставляли кордоны и тщательнейшим образом его охраняли; местным жителям под страхом немедленной смерти запрещалось ходить туда и особенно носить провизию. Поскольку эта угроза неуклонно выполнялась, скоро осажденные бандиты начинали страдать от недостатка пищи, и голод принуждал их сдаться. Со дня на день французов ждали и здесь – их уже видели в Веллетри и в Неми; в то же время говорили уверенно, что несколько разбойников укрылись в Рокка-Джоване, брошенной деревушке на вершине одного из соседних холмов – и, должно быть, там и будут скрываться от облавы.
На следующий день, когда Анина работала в podere, по дороге, что отделяла их садик от озера, проскакал конный французский отряд. Любопытство заставило французов обратить внимание на девушку; красота ее не могла ускользнуть от их взглядов. Шутки и комплименты скоро заставили ее бежать: ведь любящая женщина посвящает себя любимому безраздельно, и восхищение из чужих уст кажется ей осквернением святыни. Анина пожаловалась на бесстыдство французов отцу; тот отвечал: слава богу, что они приехали, теперь-то разберутся с разбойничьими бандами, шныряющими по округе.
Тем же вечером, подходя к источнику, Анина боязливо озиралась по сторонам и надеялась, что встретит Доменико на привычном месте: вспоминая о французах, она не чувствовала себя в безопасности. В этот раз она пришла за водой позднее обыкновенного, а вечер был пасмурный и темный: ветер завывал в ветвях и клонил даже величественные кипарисы, высокие волны гуляли по озеру, и над вершинами холмов клубились, довершая мрачный пейзаж, темные, бесформенные грозовые тучи. Анина торопливо шла вверх по горной тропе. Наконец ей открылся источник, бьющий из грубо отесанных камней – и над ним Доменико: он стоял, прислонившись к скале, гордо скрестив руки на груди, шляпа надвинута на глаза, с плеч спадает tabaro9. Увидев Анину, он бросился к ней: слова его были отрывисты и несвязны, но никогда прежде он не взирал на нее с такой пламенной любовью, никогда не умолял ее остаться подольше с такой страстной нежностью.
– Как я рада, что ты здесь! – воскликнула она. – Я боялась встретить кого-нибудь из этих французских солдат; они пугают меня больше, чем banditti.
Доменико бросил на нее пристальный взгляд, а затем, отвернувшись, проговорил:
– Прости, я не смогу остаться в здешних краях, чтобы защищать тебя. Мне нужно на неделю или две уехать в Рим. Anina mia10, ты ведь останешься мне верна? Будешь любить меня, даже если мы никогда больше не увидимся?
Разговор при этих обстоятельствах продлился дольше обычного. Доменико провожал ее вниз по тропе, пока впереди не показалась деревня; на этом месте влюбленные остановились. Вдруг из миртовых зарослей на берегу озера послышался тихий свист; Доменико вздрогнул и замер; свист повторился; Доменико засвистал в ответ. Испуганная, Анина хотела спросить, что это значит – но в этот миг он впервые прижал ее к сердцу, поцеловал в нежные губы и, прошептав: «Carissima, addio!»11 – спрыгнул на берег, бросился бежать и исчез во тьме. В изумлении Анина вглядывалась во мрак – и скоро, когда в прогале меж тучами мелькнул лунный луч, увидела, как от берега отчаливает лодка. Девушка долго стояла в глубокой задумчивости, недоумевая и с острым наслаждением вспоминая быстрые объятия и страстное прощание своего возлюбленного. Она так долго не возвращалась домой, что отец вышел ей на- встречу.
После этого каждый вечер при звуках «Ave Maria»12 Анина поднималась к источнику – но Доменико больше не приходил. Неизъяснимые страхи теснили ее сердце; каждый день казался вечностью.
Прошло около двух недель, и семья получила письмо от Марии. Она писала, что болела малярийной лихорадкой, теперь поправляется, но для выздоровления ей необходим свежий воздух, так что она получила отпуск и собирается провести месяц дома, в Альбано, поэтому просит отца приехать и забрать ее на следующий день. Для Анины это была радостная весть: она решилась все раскрыть сестре и не сомневалась, что за время долгого визита сестра сумеет успокоить ее и утешить. Наутро старый Андреа уехал – и весь день нежная дева провела в мечтах о скорой радости. К вечеру отец привез Марию, исхудалую и бледную, со следами перенесенной тяжелой болезни; однако та заверила сестру, что теперь чувствует себя вполне здоровой.
Семья села за скромный ужин. Несколько соседей пришли повидать Марию; но все разговоры их были лишь о французских солдатах и о грабителях – банде по меньшей мере из двадцати человек, нынче, как рассказывали, окруженных в Рокка-Джоване и сидящих там в осаде.
– Французов стоит поблагодарить за доброе дело, – заметил Андреа, – наконец-то страна избавится от этих негодяев!
– Верно, дружище, – отвечал другой. – И все же страшно подумать, что они там терпят: еда-то у них, должно быть, давно на исходе, так что теперь они голодают. У них ни единой унции макарон не осталось, и тот бедняга, которого схватили и казнили вчера, был сущий скелет: все косточки можно пересчитать!
– А какая беда, – прибавил третий, – случилась с тем стариком из Неми, у которого, говорят, сын сидит теперь с ними в Рокка-Джоване! Его застали на окруженной территории с baccalia13, спрятанным под pastrano14, – и пристрелили на месте.
– Второй такой отчаянной банды, – снова заговорил первый, – не видали ни в «княжествах», ни в regno15. Разбойники поклялись не сдаваться – и порешили выслеживать прохожих, захватывать их в заложники, а после торговаться с правительством и их головами выкупить себе свободу. Но французы безжалостны: они скорее допустят, чтобы ярость бандитов обрушилась на кого-нибудь из этих ни в чем не повинных бедолаг, чем пощадят хоть одного!
– Двоих бандиты уже схватили, – подтвердил другой. – Старая Бетта Тосси с ума сходит от страха: сын ее уже десять дней не появлялся дома, и она думает, что он попал в плен к разбойникам.
– А я так думаю, – заговорил один старик, – что сын ее и вправду у разбойников, вот только ушел к ним по доброй воле. Не зря этот бездельник повсюду таскался за Доменико Бальди из Неми!
– Худшей компании во всей стране не найти! – проворчал Андреа. – Этот Доменико – с дурного дерева дурная ветка! Он сейчас тоже в деревне с остальными?
– Точно так, я видел его там собственными глазами, – заговорил еще один крестьянин. – Я поднимался на холм – нес часовым яйца и кур, и вдруг вижу, закачались ветви падуба. Бедняга, должно быть, ослабел, не смог удержаться в своем укрытии и упал с дерева наземь. Все мушкеты нацелились на него – но он вскочил и бросился бежать, петляя, словно заяц, между скал. Но один раз обернулся, и тут я ясно увидел, что это Доменико: исхудал он знатно, бедняга, это уж точно, и все же я разглядел и узнал его так же ясно, как сейчас… Santa Virgine!16 Что такое с Ниной?
Анина лишилась чувств. Гости разошлись, а она осталась на попечении сестры. Придя в себя, бедняжка сразу все вспомнила и сообразила – и не вымолвила ни слова, кроме того, что хочет отдохнуть. Мария радовалась, что проведет долгий отпуск дома, и хотела бы вволю наговориться с сестрой, но теперь решила не тревожить больную: благословив ее и пожелав доброй ночи, она скоро уснула.
Доменико жестоко страждет от голода! Доменико суждено умереть голодной смертью – или погибнуть, пытаясь бежать! Это ужасное видение полностью овладело бедной Аниной. В иное время не меньшую боль причинило бы ей открытие, что ее возлюбленный – разбойник: но теперь эта мысль прошла почти незамеченной, оттесненная куда более страшными вестями. Мария спала крепким сном. Анина встала, бесшумно оделась и прокралась вниз. Здесь взяла корзинку, с которой ходила на рынок, наполнила ее всякой едой, какую нашла в доме, отперла дверь и выскользнула наружу, твердо решив добраться до Рокка-Джоване и спасти любимого от страшной гибели.
Ночь была темна – и к лучшему. Анина знала в холмах каждую тропинку, каждый поворот, каждый кустик и клочок земли по дороге от своего дома к заброшенной деревне на вершине холма. Рокко-Джоване находилась в двух часах пути от ее хижины; снизу смутно виднелись очертания далеких крыш. Ночь была темна и тиха: libeccio17 согнал облака ниже горных вершин и заволок туманом горизонт; не колыхался ни один листок; шаги Анины гулко отдавались в ночной тиши, но ее решимость превозмогала страх.
Вот она вошла в падубовую рощу, о которой рассказывал сосед, – и уже радовалась успеху, как вдруг услышала окрик часового. Бежать было некуда. Страх оледенил ей кровь; корзинка выпала из рук, содержимое ее рассыпалось по земле; раздался выстрел, за ним другой и третий; так Анина попала в плен.
Наутро, проснувшись, Мария увидела, что сестры нет рядом. «Должно быть, я слишком крепко спала, – сказала она себе, – и Нина решила меня не будить». Но вот она спустилась вниз, поздоровалась с отцом – Анины не было ни здесь, ни в podere. Оба забеспокоились. Прошло два часа – Анина не появлялась, и Андреа отправился на поиски. Придя в деревню, он увидел, что contadini толпятся на улице, и приглушенный возглас: «Ecco il padre!»18 подсказал ему – случилась беда. Сперва он решил, что дочка утонула; но истина – ее схватили французы, когда она с корзинкой провизии пыталась пробраться через кордон, – оказалась еще ужаснее. В безумном отчаянии бросился Андреа домой, чтобы рассказать о случившемся Марии, а затем бежать на холм – спасать свое дитя от казни. С ужасом выслушала Мария его историю; однако, трудясь в больнице, нельзя не научиться самообладанию и присутствию духа.
– Не ходите, отец, – сказала она. – Пойду я. Мое святое звание внушит этим людям трепет, мои слезы их тронут. Верьте мне: клянусь вам, я спасу сестру.
Пораженный ее мужеством и энергией, Андреа согласился.
Монахини Санта-Кьяры вне стен монастыря обыкновенно носят простые черные платья. Мария, однако, привезла с собой монашеское одеяние – и теперь облачилась в него, надеясь внушить уважение солдатам. Взяв благословение у отца, помолившись Деве Марии и всем святым, она отправилась в путь.
Мария стала подниматься на холм, и вскоре ее остановили часовые. Она объявила, что хочет поговорить с их командиром, и, проведенная к нему, назвалась сестрой той злосчастной девушки, которую они схватили ночью. До того офицер держался беззаботно и любезно, но, услышав об Анине, вдруг так грозно нахмурился, что Мария в ужасе всплеснула руками:
– Бедное дитя! Вы же не причинили ей вреда? Она цела?
– Пока цела, – поколебавшись, ответил он, – но на пощаду ей надеяться не стоит.
– Пресвятая Дева, сжалься над ней! Что же с ней будет?
– На этот счет у меня строгие распоряжения. Через два часа она умрет.
– Нет! Нет! – отчаянно вскричала Мария. – Такого быть не может! Не изверг же вы, чтобы убить сущее дитя!
– Мадам, – отвечал офицер, – она достаточно взрослая, чтобы понимать, что приказам следует повиноваться. Я тоже повинуюсь приказам своего начальства – и они яснее некуда: будь ей хоть девять лет, она умрет.
Эти ужасные слова преисполнили Марию новой решимости: она молила о милосердии, падала на колени, клялась, что не уйдет без сестры, взывала к Небесам и ко всем святым. Офицер, хоть и огрубевший на службе, был не злодеем и человеком благовоспитанным; мягко и сочувственно, как мог, уверял он, что все это ни к чему не приведет, что за такое преступление ему пришлось бы казнить даже собственную дочь. Он согласился лишь на одну уступку – позволил ей увидеться с сестрой.
Отчаяние придало монахине сил: вверх она почти бежала, обгоняя своего провожатого. На другой стороне холма ей предстала хижина – какой-то овечий загон, у дверей которого вышагивали часовые. В окнах не было стекол, ставни заперты; войдя в эту темную конуру после ясного солнечного дня, Мария едва различила скорчившуюся у стены фигурку сестры. Анина сидела, обхватив себя руками и склонив голову на грудь, ее черные волосы до пояса рассыпались по плечам. Услышав стук засова и шаги, Анина вздернула голову, дико оглянулась на дверь – увидела сестру и с душераздирающим криком бросилась ей в объятия.
Девушек оставили наедине. Анина, захлебываясь словами и слезами, молила сестру ее спасти; она дрожала при мысли о неминуемой страшной участи. С самой смерти матери Мария ощущала себя защитницей и опорой сестры и никогда не чувствовала такой необходимости исполнить это призвание, как сейчас, когда трепещущая, горько плачущая девушка, обхватив ее руками, сдавленным голосом умоляла о спасении. «О, если бы я могла пострадать вместо тебя!» – подумала Мария и уже готова была произнести это вслух, как вдруг ее поразила новая мысль – мысль, ставшая руководством к действию.
Сперва она успокоила Анину обещаниями помочь, затем огляделась кругом. В хижине они были совсем одни. Она подошла к окну и сквозь щель в ставнях увидела, что часовые разговаривают, стоя в некотором отдалении от дома.
– Да, дорогая сестра! – вскричала она. – Я спасу тебя – я смогу! Скорее, поменяемся одеждой! Нельзя терять времени! Переоденемся – и я… и ты сбежишь в моем облачении.
– А ты останешься здесь и погибнешь?
– Они не посмеют убить невинную – убить монахиню! Не бойся за меня – мне ничего не грозит.
Анина без споров повиновалась сестре; однако пальцы ее дрожали и путались в завязках платья. Мария была бледна, но спокойна и вполне владела собой. Длинные волосы сестры она собрала в узел и прикрыла покрывалом, сама расшнуровала на ней лиф, помогла надеть монашеское одеяние и с величайшим тщанием расправила все его складки; затем – куда более торопливо – надела на себя платье сестры, снова, после долгих лет вернувшись к привычному ей костюму сontadina. Анина стояла, дрожа и плача, едва слыша наставления сестры, которая учила ее как можно скорее вернуться домой, а затем, под водительством отца, искать защиты в святой обители. Охранник открыл дверь. Анина в ужасе прильнула к сестре – а та вполголоса уговаривала ее взять себя в руки.
Охранник объявил, что свидание окончено. Медлить более нельзя: пришел священник, чтобы исповедовать узницу.
Мысль о предсмертной исповеди для Анины была ужасна, а Марии подала надежду.
– Святой отец не даст меня в обиду, – прошептала она. – Не бойся! Беги к отцу!
Анина подчинилась, почти ничего не сознавая; рыдая, закрыв лицо платком, она прошла мимо солдат; они заперли дверь; узница бросилась к окну – и увидела, как ее сестра неверными шагами спускается с холма и исчезает за поворотом. Монахиня упала на колени; по лицу ее струился холодный пот. Ее снедал страх: Мария знала, что французские военные не питают особого почтения к монашеству – у себя во Франции они разоряли монастыри и оскверняли церкви. Смилуются ли они над ней? Пощадят ли невиновную? Увы! Ведь и Анина невиновна! Единственное преступление сестры в том, что нарушила приказ; но и Мария виновна в том же самом.
– Что ж, не стану поддаваться страху, – сказала себе Мария. – Быть может, я более сестры готова к смерти. Иисусе, прости мне мои грехи, ибо едва ли я доживу до конца этого дня!
Тем временем Анина, дрожа, медленно спускалась с холма. Она страшилась, что ее обман раскроют, страшилась за сестру – и более всего сейчас страшилась гнева и упреков отца. Это последнее опасение разрослось в ней до невыносимого ужаса, и она решила не возвращаться домой, а вместо этого, обойдя холмы кругом, самой пробраться в Альбано, где надеялась найти защиту у своего пастыря и духовника. Избегая открытых дорог и тропинок, пробираясь лесом наугад, неожиданно для себя она вышла к Рокко-Джоване. Всмотрелась в полуразрушенные дома и колокольню без колоколов, напрягая глаза в надежде увидеть его, виновника всех ее несчастий. Вдруг до слуха ее донесся негромкий, но отчетливый свист, раздавшийся где-то неподалеку. Анина вздрогнула и обернулась – ей вспомнился тот вечер, когда они с Доменико виделись в последний раз; тогда его позвали прочь от нее таким же свистом. Звук повторился, затем еще и еще, с разных сторон. Анина замерла в страхе, сцепив руки, грудь ее взволнованно вздымалась. Вдруг из-за ближайшего куста высунулась всклокоченная черноволосая голова, уставилась на нее дико блестящими глазами. Анина пронзительно закричала – но, прежде чем успела повторить свой крик, сзади выпрыгнули на нее из кустов трое мужчин, схватили за руки, замотали тряпкой лицо и поволокли вверх по склону.
По дороге похитители переговаривались между собой, и из их слов Анина поняла, в какой оказалась опасности. Очень жаль, говорили они, что французским отрядом не командует святой отец и его красные чулки19; тогда, схватив монашку, они могли бы диктовать ему условия! С грубыми шутками и прибаутками они втащили свою жертву в разоренную деревню. Мощеная улица под ногами подсказала Анине, что они уже в Рокко-Джоване, а изменившийся запах – что ее ввели в дом. Здесь ей развязали глаза. Что за жалкое, убогое зрелище предстало ее взору! Закопченные, выщербленные стены, пол, покрытый грязью и отбросами; из всей меблировки – грубо сколоченный стол и сломанная скамья; листья кукурузы, грудой набросанные в углу, по-видимому, служили постелью, ибо на них, опустив голову на скрещенные руки, лежал человек. Анина оглядывалась на своих похитителей – и в каждом лице читала лишь свирепую решимость, еще более страшную от того, что лица эти были измождены голодом и лишениями.
– Ох, здесь меня никто не спасет! – вырвалось у нее.
Ее возглас разбудил человека, спящего на полу, он вскочил – это был Доменико! Но как он изменился! Глаза и щеки ввалились, волосы потускнели, лицо, полное ярости и отчаяния, немногим отличалось от мрачных физиономий его товарищей. Возможно ли, чтобы это был ее возлюбленный?
Узнав Анину в непривычном платье, он потребовал объяснений. Услыхав, что использовать добычу им не удастся, разбойники сперва пришли в ярость; но, когда Анина рассказала, какой опасности подверглась, пытаясь принести им еды, они поклялись самыми страшными клятвами, что не причинят ей никакого вреда и, ежели она захочет остаться с ними, будут обращаться с ней честно и достойно, как с равной. Невинная девушка содрогнулась.
– Отпустите меня, – вскричала она, – дайте мне бежать и навеки укрыться в монастыре!
С мукой в глазах Доменико взглянул на нее.
– Бедное дитя! – отвечал он. – Пусть будет так: беги, спасайся; Бог не допустит тебе нового зла; и без того слишком многое погибло. – И, решительно повернувшись к своим товарищам, продолжал: – Вы слышали ее историю. Ее приговорили к расстрелу за то, что она несла нам еду; сестра заняла ее место. Мы знаем французов: одна жертва для них ничем не хуже другой, и Мария в их руках погибнет. Что ж, попробуем ее спасти! Наше время истекло: либо мы умрем, как мужчины, либо сдохнем с голоду, как собаки. У нас есть еще патроны; у нас еще остались силы. К оружию! Нападем на этих трусов, освободим узницу, бежим – или умрем!
Именно такой толчок требовался разбойникам, чтобы от отчаяния перейти к новой надежде. С видом свирепой решимости они начали готовиться к атаке. Тем временем Доменико вывел Анину из дома, дошел с ней до спуска с холма и спросил, куда же она теперь пойдет. В Альбано, отвечала она. На это он заметил:
– Едва ли там безопасно. Прошу тебя, послушай моего совета: возьми эти пиастры, найми первую повозку, какую найдешь, и поспеши в Рим, в монастырь Санта-Кьяры – ради всего святого, не задерживайся в наших краях!
– Я все исполню, Доменико, – отвечала она, – но денег твоих взять не могу; слишком дорого они тебе достались; не бойся, я спокойно доберусь до Рима и без этого злосчастного серебра.
Товарищи Доменико уже громко звали его – на уговоры времени не было; он швырнул презренные монеты к ее ногам.
– Нина, прощай навсегда! – воскликнул он. – Пусть следующая твоя любовь станет счастливее!
– Никогда! – отвечала она. – Бог спас меня в этом наряде, и снять его теперь будет святотатством. Никогда я не выйду из стен Санта-Кьяры!
Доменико немного проводил ее вниз по холму, пока на вершине не показались, громко зовя, его товарищи.
– Помоги тебе Бог! – воскликнул он. – Спеши в монастырь – еще до заката к тебе присоединится Мария. Прощай! – Торопливо поцеловал ей руку и бросился вверх по склону, к нетерпеливо ожидавшим его друзьям.
Долго ждал возвращения дочерей бедный Андреа. Безлистые деревья и чистый прозрачный воздух позволяли разглядеть каждую мелочь, однако их очертания так и не показались на склоне холма. Судя по направлению теней, время уже перевалило за полдень, когда, снедаемый нетерпением, коего не мог более сдерживать, Андреа начал взбираться по склону к тому месту, где схватили Анину. Тропа, по которой он поднимался, отчасти совпала с тем путем, что выбрала его дочь, спеша в Рим. Они встретились; сперва отец разглядел лишь монашеское платье – и то, что дочь одна; от страха и стыда Анина закрыла лицо руками; но когда, приняв ее за Марию, он начал в гневе и тоске спрашивать, где же ее младшая сестренка – та уронила руки, не в силах поднять глаза, из коих струились слезы.