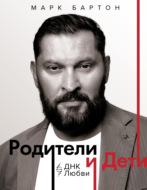Kitobni o'qish: «Родители и дети: ДНК Любви»
Все права защищены.
Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.
© Марк Бартон, текст, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
* * *
Этапы развития ребенка – это основа осознанного родительства
Почему знание этапов развития ребенка – основа осознанного родительства? Нам может казаться, что новорожденный – это маленькая копия взрослого человека. На первый взгляд так и есть, особенно при визуальном наблюдении. Но если мы изучим, как формируется личность ребенка, то удивимся тому, что он не уменьшенная копия, а отдельная вселенная с закономерно выстроенными процессами. Мозг и психика ребенка – это структуры, находящиеся в процессе активного становления и адаптации к миру. И каждый возрастной этап требует от родителей разных форм взаимодействия. Когда родители не понимают, на каком этапе развития находится их ребенок, они начинают ожидать слишком многого – или, наоборот, делают за ребенка то, что он уже может сам. Это становится источником конфликтов, тревог, вины и неуверенности.
Нам, родителям, важно понимать: детство – не просто этап жизни, а период строительства личности. А любое строительство подразумевает множество инструментов и материалов. От составления плана – до ввода в эксплуатацию. В случае с детьми все так же. Как только мы погружаемся в сложную систему взросления, мы превращаемся в архитекторов судьбы нашего ребенка.
Современные исследования показывают, что развитие мозга ребенка происходит не равномерно, а поэтапно, начиная с глубинных эмоциональных отделов и заканчивая высшими логическими. Когда мы смотрим на младенца, нам легко забыть, что перед нами не просто крохотный человек, которому предстоит научиться жить. Перед нами – огромный мир в состоянии глубокой внутренней перестройки. И если телесное взросление мы замечаем – ребенок растет, сидит, ходит – то психическая и нейробиологическая работа остается невидимой. А ведь именно она – самая главная.
Исследования Гарвардского Центра по изучению развития ребенка доказали: в первые 1000 дней жизни, начиная с момента зачатия и до трехлетнего возраста, формируется до 80 % всех нейронных связей мозга. Это не просто физиология. Это в прямом смысле формирование судьбы человека. Помните фразу «Все проблемы из детства»? Уверен, после этой информации вы воспримете ее иначе.
Когда я начал детально погружаться в вопросы взросления детей, мой мир перевернулся. Представьте: рядом с нами, вне видения наших глаз, формируются нейросвязи ребенка, которые в будущем определят, как он будет воспринимать себя. Насколько он будет эмоционально устойчив. Как будет управлять своими чувствами, строить отношения и взаимодействовать с социумом. Как будет учиться – с интересом или растерянностью. Теперь вы понимаете, какое значение будут иметь ошибки, допущенные вами в течение этих первых 1000 дней жизни? Некоторые родители ждут, когда ребенок подрастет, чтобы наконец начать выстраивать с ним более близкие, осознанные связи. Но на самом деле это необходимо делать с самого рождения. Ведь фундамент всей будущей жизни ребенка формируется каждый день.
Давайте сравним мозг ребенка и взрослого. Мозг новорожденного содержит примерно 100 миллиардов нейронов. Мозг взрослого – практически столько же. В чем тогда разница? У новорожденных между нейронами почти нет связей – их необходимо формировать. Представьте жесткий диск, на котором нет никакой информации. Все, что мы туда загрузим, будет храниться до тех пор, пока мы этого хотим. Захотели – добавили файлы. Захотели – удалили.
С ребенком такое не пройдет. Мозг формируется настолько быстро, что каждая минута становится на вес золота. Скорость, с которой это происходит, невероятна: до миллиона новых нейронных связей каждую секунду. И что особенно важно – они формируются не сами по себе, а в ответ на опыт, который получает ребенок через контакт с миром. Через голос матери, ее настроение, прикосновения отца, ритм кормления, мимику взрослых, их реакцию на плач.
Многие родители думают, что ребенок с самых ранних дней жизни нуждается в игрушках, массажах, развивашках для формирования мелкой моторики, в физических нагрузках. Да, это важно, но не приоритетно. Первоочередный фактор полноценного взросления – качество эмоциональной среды, в которой находится ребенок. У тех детей, у которых установилась стабильная эмоциональная связь с родителями, более активно развивается гиппокамп (зоны мозга, отвечающие за память и обучение). И наоборот, ребенок, которого игнорируют, формирует гиперактивную миндалину (зону страха).
Миндалина (амигдала) – это небольшая, но крайне важная структура в лимбической системе мозга ребенка, отвечающая за обнаружение угрозы, оценку опасности и реакцию «бей или беги». Она участвует в быстрой, автоматической обработке стимулов, особенно тех, которые мозг интерпретирует как потенциально опасные. Миндалина активно развивается уже с первых месяцев жизни ребенка.
Безусловно, многие родители могут возмутиться – ведь они не хотят подвергать ребенка осознанному стрессу. Причем здесь «бей или беги»? Да, вряд ли здравомыслящий человек специально будет подвергать угрозе собственного ребенка. Чаще всего родители делают это бессознательно. Здесь ключевую роль играет то, как родители могут регулировать свое эмоциональное состояние и справляться со стрессом. К самостоятельной регуляции ребенок пока не готов. И если у родителей таких навыков нет, это будет отражаться на нем.
Исследования показали: у детей, воспитывающихся в условиях институционального ухода (интернаты, дома ребенка, детские дома), намного более активная миндалина по сравнению с детьми, живущими в семье. Но и в семьях, где неблагоприятная эмоциональная обстановка, происходит то же самое, и даже при хорошем физическом уходе.
Если ребенок чувствует дискомфорт от голода, холода, одиночества, недостатка тактильной близости, у него запускается стресс-реакция, за которую отвечает вегетативная нервная система. Например, когда он долго плачет и не чувствует возле себя родителя, миндалина не получает сигнала безопасности. Она запоминает, что окружающий мир – непредсказуем и опасен. И если подобное происходит регулярно, ребенок сформирует хроническую тревожность и даже нейтральные стимулы будут восприниматься как угроза для жизни.
Потом родители удивляются, почему ребенок нерешителен, плохо адаптируется к внешней среде, замкнут и эмоционально уязвим. В случае, если рядом есть чуткий и внимательный родитель, который реагирует телом, голосом, мимикой – стресс снижается и миндалина запоминает: «Это не опасно», «Есть помощь», «Я в порядке». В будущем это позволит ребенку преодолевать трудные жизненные обстоятельства. От похода в школу – до несчастной первой влюбленности.
Далее мы подробно будем разбирать все возрастные этапы и поговорим о тех задачах, которые стоят перед нами. Каждый этап – это окно возможностей для ребенка и родителей. Вы слышали фразу: «Всему свое время»? Уверен, слышали. Ее можно применить к любой сфере жизни. От приготовления блюда – до строительства дома. В психологии существует такое понятие, как сензитивный период развития – это время, когда мозг ребенка лучше всего готов к освоению определенных навыков. Пропуская эти периоды, родители лишаются возможностей, которые они дают, и позже сталкиваются трудностями, пытаются исправить свои ошибки. И порой исправление этих ошибок превращается в насилие по отношению к себе и ребенку. Поэтому необходимо понимать, что важно для ребенка в его возрасте. Это позволит вам не бороться с естественными процессами, а взаимодействовать с ними и извлекать из них пользу.
Я много раз становился свидетелем того, как родитель борется с естественной природой ребенка. Чего лукавить, я и сам не без греха. Из-за отсутствия знаний о возрастных периодах родители требуют послушания у маленького человека, хотя он физиологически не способен к саморегуляции (ведь у него еще не развита префронтальная кора мозга). Однажды я наблюдал, как молодая мама, усадив ребенка на скамейку возле подъезда, требовала от мальчика четырех лет логических объяснений его поведения. Безусловно, она и не предполагала, что в этом возрасте ее сынишка находится в фазе магического и образного мышления – а значит, почти ничего не может объяснить логически.
Когда выступал с лекцией в Екатеринбурге, мне довелось пообщаться с одной из девушек в зале. Ее вопрос относился к воспитанию ребенка и его непослушанию. Ответив на вопрос девушки, я выдохнул: «Вроде поняла…». И тут же услышал: «Спасибо, Марк, теперь я поняла, как управлять ребенком». По залу прокатился легкий смех. Пришлось кое-что пояснить. Многие родители считают, что понимание возрастной психологии – это прекрасный способ управлять ребенком.
Но на самом деле ребенок не нуждается в управлении. Он нуждается в любви и понимании. И когда мы изучаем возрастные процессы созревания ребенка, то понимаем, что значит быть рядом с ним – не разрушая его психику, не подавляя его волю, не теряя эмоциональной близости. Задайте себе вопросы: какого ребенка я хочу вырастить? Удобного? Послушного? Управляемого? С вечным чувством вины и стыда? Или свободного, психологически зрелого и эмоционально устойчивого? Да, вы можете не изучать ничего про возрастные этапы – и у вас есть на это все права. Но прежде задумайтесь, какие у этого могут быть последствия.
Начну с самого распространенного. Когда взрослый не знает, на каком этапе развития находится ребенок, он исходит из своих ожиданий, а не из реальности и ожидает от ребенка того, что детская психика пока не может дать. Папа отвел сына в угол комнаты и отчитал за наглое поведение, не зная, что в три года ребенок формирует автономию и волевые качества. Да, при желании папа способен уничтожить и то и другое в ребенке. Но к чему это приведет? Папа с чувством вины, подавленный и протестующий ребенок – и подорванное взаимное доверие.
Чем чаще мы требуем невозможного от своих детей, тем стремительнее они формируют «ложное Я». Дети – прекрасные переводчики, и, если рядом обесценивающий родитель, результат будет плачевным. Подгоняя его под свои ожидания, родитель сообщает: «Ты должен быть другим, чтобы тебя любили». Как только ребенок привыкнет к такой модели взаимоотношений, у него сформируется ложная личность, которая будет вынуждена подстраиваться, сдерживать эмоции, отказываться от собственных потребностей в угоду других.
Вы вырастите мне и моим коллегам клиентов, которые не будут покидать кабинет психолога. Поверьте, когда в кресле напротив сидит девушка и рассказывает, что не умеет злиться, боится что-либо просить, потому что не хочет, чтобы ее отвергли, или считает собственные чувства проблемой – я дам точную характеристику ее родителям и их системе воспитания. Детство и низкая самооценка, детство и депрессия, детство и психосоматика, детство и зависимость, детство и потеря смыслов – всегда взаимосвязаны. Эту взаимосвязь формируем мы, родители, а дети живут согласно ей, когда достигают осознанного возраста.
Bepul matn qismi tugad.