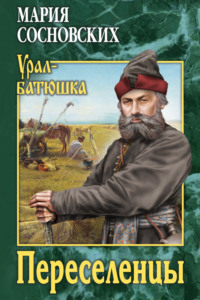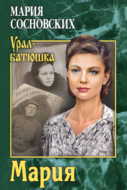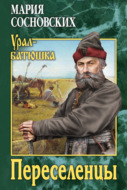Kitobni o'qish: «Переселенцы»
© Сосновских М.П., наследники, 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
* * *
От автора
Я, Сосновских Мария Панфиловна, родилась в 1924 году в селе Харловском Знаменского района Ирбитского округа в крестьянской семье. Сызмальства познала крестьянский труд. Прошла все круги построения социализма: сплошную коллективизацию, раскулачивание, полуголодное колхозное существование…
Я была в семье шестым ребенком, двое из которых умерли от голода.
Весной 1925 года мои родители, отчаявшись в своем житье, потому как в Харловой от сибирской язвы вымер почти весь скот и погорели от засухи все посевы, выехали жить на хутор Калиновка в девяти километрах от Харловой, в непроходимую тайгу. Там и стали вырубать лес и распахивать новые земли.
Полудохлая кляча, деревянная соха и такая же борона – вот и все наше «богатство». Жизнь была невыносимо трудной. Надо было на новом месте, среди согр и болот, строить и обрабатывать землю. Но мои родители преодолели все трудности. Стали растить хлеб, разводить скот. Мой отец был мастер на все руки. Построили большой дом, амбары, конюшни и стали жить не хуже других людей. Но в 1930 году у нас все отобрали – скот, хлеб и все остальное.
К весне 1931 года было полное разоренье, начался голод. Люди ели траву. Очень много появилось воров и нищих. Отец в то время уже приехал домой с лесозаготовок. Образовался колхоз, и его поставили председателем.
В 1933 году я пошла в школу в первый класс в деревне Чувашевой. Читать и писать я уже умела. Ходить в школу нужно было за семь километров дремучим лесом. Зимой нас одолевали волки, они заходили во дворы и пригоны; лесную дорогу, по которой я ходила в школу, пересекали волчьи следы, из разных сторон чащи раздавался голодный волчий вой.
В школе учились ученики со всех ближайших деревень и хуторов. Чтобы не умереть с голоду, учителя и ученики сажали картошку – у школы был большой огород. После уборки хлебов нас отправляли собирать на полях оставшиеся от уборки колосья, и мы несли их в школу. В школе из собранного нами урожая варили кашу.
После окончания начальной школы я пошла в Харловскую семилетку в пятый класс. Летом работала в своем колхозе на подсобных работах. Прежде дружелюбный деревенский народ после 1930 года разделился на два лагеря. По любой пустячной ссоре разгоралась страшная вражда, сосед доносил на соседа. По любому доносу без суда и следствия людей забирали, увозили без права переписки, отправляли на Колыму.
И вот я закончила 7 классов. Но тут началась Великая Отечественная война. В это лихое время поступила на эвакуированный в Ирбит мотоциклетный завод; на нем и проработала всю жизнь заточником. В конце 1946 года была представлена к награде – медали «За доблестный труд». Отработав три стажа по вредности, в возрасте пятидесяти лет в 1974 году я вышла на пенсию. Вот и вся моя рабочая биография.
Именно с выхода на заслуженный отдых началась моя литературная биография. Всю жизнь собирала материалы, расспрашивала и запоминала и наконец исполнила свою давнишнюю мечту – написать историю своего рода. Еще в детстве любила слушать рассказы «о старой жизни», о своих предках и односельчанах. Воспоминания и стали главной темой моих книг. Отрывки из них публиковались в местных газетах «Восход», «Знамя Победы», «Ирбитская жизнь», в журналах «Веси» и «Зауральский край», в альманахах «Росчерком пера» и «Разнотравье». Там же были опубликованы мои рассказы. За десять лет мною написаны около 40 общих тетрадей. Документальные повести «Переселенцы», «Чертята» и «Детство и юность», объединенные общим художественным замыслом, формируют трилогию, которая повествует о тяжелой доле русского крестьянства.
Мне уже 85 лет. Жизнь моя подходит к закату. Очень хотелось бы, чтоб опыт нашего поколения, истории наших судеб, прошедших в годы лихолетья, не были забыты.
Октябрь 2009 г.
От Новгородчины до Зауралья
Лето 1724 года. Жара и сушь. Натужно и монотонно скрипят по пыльной дороге телеги. Нестройный хор людских голосов временами заглушается конским ржанием да заливистым звоном колокольчиков. Иногда обоз останавливается у какой-нибудь речки или ручья. Люди поят лошадей, утоляют жажду сами, смывают с лиц дорожную пыль. Порой они распрягают и стреноживают лошадей, пуская их пастись на молодой отаве, разжигают костры и готовят скудную походную пищу. Дети, обрадованные остановкой, бегают наперегонки или рвут незатейливые придорожные цветы.
…Вот уже третью неделю движется обоз: крестьяне с Новгородчины держат путь через Зауралье в Тобольскую губернию. Люди измучены тяжелой и дальней дорогой, их обветренные лица до черноты загорели под июньским солнцем…
Пока шел обоз, каждый день менялись картины окружающей природы: поля, перелески, большие и малые реки. Большие переплывали на паромах, через малые проезжали вброд или по деревянным мосткам. Путники с удивлением смотрели на новые места: многие, особенно женщины, раньше не бывали дальше своего уездного города в Новгородской губернии. Насколько же она велика, Россия-матушка, и везде живут люди!
По вечерам, когда останавливались на ночлег, мужики подолгу беседовали у костра, многие были наслышаны про дикие зауральские леса, где будто бы живут самоеды, которые ходят в звериных шкурах и едят сырое мясо. Однако, когда переселенцам давали подорожную в деревню Прядеину Камышловского уезда Белослудской волости, то говорили: там, куда они едут, издавна жили и сейчас живут ссыльные, которые на новом месте приспособились и на жизнь не жалуются. Край, правда, еще малолюдный, но ведь не зря сам император Петр Первый изволил бывать в тех краях: и на Каменном поясе, и дальше по реке Оби – в Сибири. Государь сам видел несметные богатства тех мест, изобилие пушного зверя и рыбы. А что зимы там суровые, так и в Новгородской губернии крепкие морозы – не диво.
Как-то после Успенья, перед концом полевых работ, староста созвал всех на сход и объявил волю государя: переселяться в Тобольскую губернию. По царскому указу переселенцам на новом месте помогут обзавестись семенами, скотиной, а подать не будут брать в течение трех лет.
Придя домой со схода, многие мужики стали думать: а не переселиться ли в самом деле?
«У нас здесь-то четвертый год как недород, земли дальние да плохие, удобрять нечем, а добрые земли – у барина. Сам-то барин в Питере живет, а тут поставил бурмистра. Чисто зверь, душу вынет, как вовремя оброк не заплатишь. А до Сибири вряд ли скоро помещики доберутся…» – прикидывали будущие переселенцы.
Так же думал и тридцатилетний Василий Елпанов – мужик крепкого сложения, с русой бородой и синими глазами. Братьев Елпановых было четверо, и все крестьянствовали, не имея никаких отхожих промыслов. С годами жить в отцовском доме стало тесно, особенно когда женился Гермоген и взял непокладистую, со вздорным характером жену из зажиточной семьи.
У самого Василия жена тоже была не из бедных, родители дали за Пелагеей доброе приданое: кроме всякой домашней справы дали скотину, стельную телку и мерина-трехлетка, пару гусей и куриц – не у всякой было такое приданое. Через год родилась дочь Настасья, потом сын Петр.
Когда родила двоих детей и жена Гермогена, старшие Елпановы решили: Василию пришла пора отделяться и жить своим домом. Но денег на постройку нового жилища не было, и, наверно, так и остался бы Василий Елпанов с семьей в деревне до конца дней своих, если бы не государев указ. Крепко засела в голову Василия мысль попытать счастья в других краях, да и не одному ему засела – надумал переселяться и кум Василия, двоюродный брат Пелагеи, Афанасий. Стали собираться в дальнюю дорогу. За сборами незаметно прошли осень и зима.
Весна в том году выдалась ранняя и сухая, отсеялись рано, до Николы. Но так и не перепало ни одного дождичка. «Опять засуха, – говорили старики, – опять неурожай, Господи, спаси нас, грешных». На полях служили молебны. Но каждый день приносил только суховеи да нестерпимую удушающую жару. Надеяться на урожай было трудно.
Перед отъездом продали овец и корову – приданницу Пелагеи. Когда Пестренку повели со двора, Пелагея заплакала, а вслед за ней заревели ребятишки. На Ивана Купалу решили тронуться в путь. В воскресенье батюшка отслужил в церкви молебен за здравие всех отъезжающих односельчан. После молебна пошли на кладбище – попрощаться с могилками родных. В день отъезда с утра пришли на проводины родители Пелагеи и все ее родственники. Дед Данила, по какой-то стариковской хворости лежавший на голбце1, слез, надел новые пестрядинные штаны, холщовую рубаху и обулся в валенки, с которыми не расставался даже летом из-за больных ног.
Дед Данила, отец братьев Иван, мать Евдокия, Гермоген с женой Анной и младшие братья, неженатые Николай и Евлампий, сели в последний раз за семейный стол – все двенадцать человек.
Потом запрягли в телегу Каурка, а когда воз на телеге был уже увязан, по обычаю присели перед дорогой. Стали прощаться: пали родителям в ноги, отец взял с божницы икону, которой благословлял их к венцу, и отдал с собою в дорогу. Троекратно расцеловались с родственниками, посадили детей в телегу и тронулись со двора. Родственники, остающиеся дома, и односельчане вышли их провожать. Провожавшие дошли до полевых ворот, попрощались и разошлись по домам.
Целых двадцать семей тронулись в неведомые края, на восход солнца. Раньше до родной деревни слухов из дальних мест не доходило, и они, конечно, не знали, что уже давно смекалистый и оборотистый тульский кузнец Никита Демидов переселился на Урал, получил разрешение императора Петра Первого строить там заводы и закладывать рудники.
…И вот он, Урал! Прекрасный и величественный. Дивный в своей первозданной красоте и неповторимости. Горные кряжи и увалы поросли остроконечными елями, пихтами и лиственницами. Прекрасные корабельные сосны в три обхвата стоят вперемежку с могучими кедрами по обе стороны дороги. Обоз остановился: пораженные переселенцы не могли оторвать глаз от захватывающих дух, раскинувшихся в необъятную даль лесных просторов. В Новгородской губернии таких лесов никто и не видывал. Вот это богатство! Вот в чем могущество этого края!
Миновали Екатеринбург. Городом стоящую на реке крепость назвать, конечно, было нельзя. Перед путниками предстало большое, добротное поселение с обширным прудом и стоящим у плотины заводом.
В земской управе у них проверили подорожную и, пропустив через заставу, велели ехать по Сибирскому тракту в сторону Камышлова.
За весь многомесячный путь нигде еще обоз не двигался так медленно! То и дело их останавливали стражники, осматривали возы, проверяли подорожную да несколько раз сгоняли с дороги на обочину и приказывали остановиться, когда по тракту брели колонны изможденных людей в полосатой арестантской одежде, звеня кандалами на стертых ногах. Это было поистине ужасное зрелище. Шли тысячи верст и в зной, и в холод, и в осеннюю грязь, в кандалах, почти босые из Центральной России в Сибирь к месту ссылки. Ноги у этих несчастных были сбиты до костей, от кандалов гноились и кровоточили раны. Когда этап прогоняли по деревням, молчаливые уральские женщины, выходя к дороге, старались сунуть арестантам калачик хлеба или что-нибудь из одежды, но конвойные, матерясь, отгоняли их нагайками. Только в Камышлове, где находилась тюрьма-пересылка, арестантам беспрепятственно позволили принимать доброхотные подаяния.
…В канун Петрова дня, проведя в дороге целый год, обоз переселенцев с Новгородчины пришел наконец в Белослудскую волость. Волостной центр Белослудское – село небольшое, с беспорядочно поставленными избами под берестяными крышами. Подъехали к волостному правлению, нашли старосту и писаря. Помощник писаря – нездоровый на вид и заметно подслеповатый человек (видать, из благородных, потому что на носу у него криво сидело старое-престарое пенсне) – записал в толстую книгу, сколько душ переселенцев мужского, женского пола и детей прибыло в Белослудскую волость.
Староста распорядился ехать дальше, до места назначения, сказав напоследок, что на днях прибудет в деревню Прядеину вместе со становым приставом.
Перед самым селом у Василия расковался Каурко. По выходе из волости Елпанов спросил проходившего мужика:
– Где у вас тут кузница?
– Кузница-то на берегу, вишь, вон она, – махнул тот рукой в сторону реки, – да кузнеца, знать-то, нет – на покосе он, должно…
Василий пошел к берегу реки наудачу. Кузнец – коренастый чернобородый мужик – оказался на своем месте у горна: он наваривал косу. В ответ на просьбу Василия подковать лошадь он коротко бросил:
– Сейчас подкуем.
Покачав мехи горна, продолжал:
– Выходит, это ваш обоз видал я в волости… Откуда бог несет и куда путь держите?
– С Новгородчины мы. А в подорожной у нас записана здешняя деревня Прядеина…

– Неужто по своей воле едете? – усмешливо сощурился кузнец. – Знаю, слыхал про Прядеин хутор, хотя бывать не приходилось. Там, говорят, перво-наперво осели два братана, из ссыльных. Отбыли в Сибири каторгу – толком не знаю, то ли за разбой, то ли за смертоубийство, а как освободились, на поселение их определили. Поначалу-то как волки в лесу жили, а теперь, болтают, уж домов двадцать там поставлено, и все ссыльными. Но чтоб по своей воле сюда ехать – еще таких отчаянных вроде пока не было…
– Что ж там, шибко худо, что ли? – осторожно спросил Василий.
– Да как тебе сказать… Глухомань там дикая, леса непроходимые. Бывалые люди говорят: там лес – как в небо дыра! Опять же неленивому да ухватистому там жить можно. Я вот в Ирбитской слободе на днях был. Сотни лет еще не прошло, как первые поселенцы там, в лесах да на болотах, появились, а теперь домов двухэтажных понастроили, богатых купцов сколь живет! Ярмарка Ирбитская каждый год бывает, на всю округу, да и за округой славится. Торговой слобода Ирбитская стала.
За разговором кузнец незаметно подковал Каурка.
– Ну вот и готово, добрый человек! Поезжай себе с богом! Доброй тебе дороги и счастливо обосноваться на новом месте!
Все, что говорил словоохотливый кузнец, Василий подробно передал мужикам-переселенцам.
Зачесали мужики затылки:
– Похоже, народишко в этих краях никуда не годный, каторжане одни, – выразил общую мысль один из них. – Вот как доберемся, бог даст, до места, так связываться с ними не след. Живут они сами по себе, и мы сами по себе жить станем.
– Да лучше вовсе с ними не якшаться! – добавил другой. – Говорят, которые из них супротив царя и помещиков шли. Это против царя-то, помазанника Божьего! Вовсе отпетые, видать, головы!
Васильев кум Афанасий, который и поехал-то со всеми с неохотой, теперь уж и вовсе принялся каяться:
– Эх и дураки мы, дураки набитые! По своей воле в Сибирь приперлись, с головорезами да подорожниками жить, тьфу ты!
Афанасий то и дело плевался и не переставал ругаться. А обоз шел все дальше – теперь уже проселочными дорогами, через дремучие леса.
Встретился верховой – вихрастый парнишка лет двенадцати, в посконной рубахе с веревкой через плечо.
– Далеко ли Прядеина? – окликнули с передней подводы.
– Во-о-н туда правьте, версты две никак будет, – показал парнишка кнутовищем в сторону леса.
Скоро, будто из земли выросли, показались избы. Блестела на солнце извилистая речка и зеркало пруда. Место было красивое, и поселенцы повеселели. Был уже вечер в той самой поре, когда краски становятся особенно яркими. За речушкой стеной стоял хвойный лес, и солнце как бы позолотило верхушки сосен. Берег, местами высокий, крутой и обрывистый, у самой воды порос ивняком и чернотальником. Навстречу им с реки из-под берега вышла молодая баба – босая, в холщовой пестрядинной юбке, в белой льняной рубахе и в такой же косынке, разрисованной краской, приготовленной из краснотала. Баба несла полные деревянные ведра воды. Она остановилась и, щурясь от заходящего солнца, приложила руку козырьком ко лбу, долго смотрела на обоз. Когда обоз поравнялся с крайней избой, поднялся невероятный собачий лай. Скоро псы заливались уже во всех дворах. И откуда столько собак в такой маленькой деревушке? Люди унимали собак и гурьбой валили навстречу обозу.
Наступал вечер, с пастбища возвращалось стадо, за стадом шел старик-пастух с мальчиком-подпаском, хозяйки загоняли по дворам скотину. Издалека был слышен звон отбиваемых кос: в разгаре сенокосная пора, и многие еще только возвращались с покоса.
Обоз остановился у речки. Распрягли лошадей, напоили и, стреножив, пустили пастись. Стали собирать сушняк для костра; меж переселенцами завязался разговор о виденном за день.
В деревне Прядеиной, как и в селе Белослудском, избы стояли как попало, строились кому где поглянется. Однако все избы были добротными, рублеными из кондового леса, многие – под тесовыми крышами. Подворья были поставлены по-кержацки: две избы связкой через теплые сени, добротные надворные постройки – погреба, амбары, конюшни. Усадьбы обнесены высокими заплотами2 из толстых бревен, положенных одно на другое и врубленных в высокие толстые столбы, и у каждой ограды были плотные высокие ворота с калиткой – через такую ограду сразу не перемахнешь. Над усадьбами торчали колодезные журавли. Значит, люди здесь поселились основательно, на века.
В этот вечер у костров переселенцев было много народу из деревни Прядеиной. Начало положил мужик лет сорока с черной окладистой бородой и серьгой в левом ухе, с живым взглядом глубоко посаженных карих глаз, назвавшийся Никитой Шукшиным.
– Принес вот вашим ребятенкам поись домашнего, оголодали, поди, в дороге-то, сердешные!
Никита поставил возле костра Елпановых большой туесок парного молока, корзинку творожных шанег – и сразу стал своим человеком.
– Откуда бог несет, добрые люди? С Новгородчины, говорите, на поселение? Ну это ладно, хорошо: помещиков-то нет здесь, оброка никто не стребует! Всяк сам себе хозяин – хоть паши, хоть пляши, – ввернул прибаутку Никита. И, став серьезным, прибавил:
– Землицы здешней всем хватит! Подать заплати только и сей себе с богом: хочешь – рожь или овес, хочешь – пшеницу. Лен здесь хорошо растет – бабы не нахвалятся! Я ведь тоже из Расеи, из Тамбовской губернии. Крепостным был у барина. И лютой же барин был у нас! Из отставных, самодур самодуром – не человек, а демон, одним словом. А я сиротой рос, отца-покойника плохо помню, а потом и мать померла. Как подрос маленько, поставили меня помогать барскому конюху Ерофеичу, уж сильно старым он стал. Но при барских лошадях находиться – это не мед пить! Чуть что – дерут нещадно да и Ерофеичу в зубы тычут. Как-то раз, на Покров дело было, наехало к барину гостей видимо-невидимо. Вся прислуга, и повара, и горничные, с ног сбились, гостям угождая. До полуночи пировали они, буйствовали, из ружей-пистолетов палили, какие-то огни бенгальски жгли. Оно красиво, да нашему брату – к чему? У нас с Ерофеичем работы по горло. И с барскими-то лошадьми умаялись, да еще гости все на лошадях, и каждую надо разместить, накормить-напоить. Слава богу, за полночь все стихло на усадьбе, видно, удрыхлись господа хорошие. И мы с Ерофеичем в конюховке задремали, и вижу я сон, будто я в церкви под венцом стою, и хор поет так красиво. Поп говорит, поцелуйся с невестой, я открываю вуаль, а там стоит Ерофеич и смеется, у меня аж мороз по коже пошел. С какой стати, думаю, я буду с Ерофеичем венчаться, а вслух сказать не могу. Вдруг просыпаюсь, как будто кто меня толкнул. Ерофеич тоже. Батюшки светы, пожар! Барская конюшня горит! Лошади огонь почуяли – и ну ржать, ну биться…
Мы с Ерофеичем прямо в огонь лезем – лошадей вывести бы. Тут в набат ударили, вся дворня высыпала, тушить конюшню стали. Ну, лошадей удалось спасти. А барин на крыльцо разъяренный выскочил, кричит: «Ловите конюхов-негодяев, это их дело, они подожгли, держите, не то сбегут еще, мерзавцы!» А куда тут сбежишь? – Ерофеича моего из конюшни вынесли еле живого: голова в кровь разбита, грудь раздавлена. Положили его на охапку сена, а он все просит, чтоб его не трогали, не шевелили – шибко тяжко ему было, смерть, видно, чуял… Побелевшими губами еле выговорил: «Мальца Микитку не вините, не виноват он ни в чем… Мой грех, я недоглядел». Еще шептал что-то, не разобрать было. Лицо у него серым сделалось, и тут же умер Ерофеич, царство ему небесное. Старый уж был, сплоховал, видно, не увернулся, вот лошади его и затоптали, они ведь при пожаре сильно бьются, аж на стены лезут.
А меня связали да и влепили мне, и так уж обожженному на пожаре, еще двадцать пять горячих. А потом – в кандалы и в Сибирь погнали.
– Это как же – без суда, что ли? – поразился Василий.
– Как же без суда! Суд был, да что толку: где суд, там и неправда, а кто богат, тот и прав. Отсидел я в остроге, потом подолбил мерзлой земли на рудниках Сибири. Теперь вот здесь на вечное поселение определили. Здесь ни господина, ни барина. Закон – тайга, медведь – хозяин. Раз в год урядник наезжает проверить, все ли ссыльные на месте, да куда мы денемся, отсюда только в землю…
– Отчего же пожар-то был в имении? – снова спросил Василий. – Кто поджег?
– Да пес его знает – кто. Может, гости барина сами и подожгли спьяну. А я и теперь, хоть дело прошлое, богу не покаюсь: не виноват был ни в чем!
Шукшин размашисто перекрестился. Васильева жена, Пелагея, не вытерпела, вмешалась в разговор:
– Значит, невинного человека засудили? Креста на них нет, на душегубах!
– Э, да сколько их, невинных-то, по острогам сидит или на каторге мучится! – махнул рукой Никита.
– Ну а самоедов ты видел? Что за люди такие, что сырое мясо едят?
– Нет, самоедов здесь при нас уже не было, они дальше на север в тайгу подались. По-другому их вогулами называют, а вогулы – люди вольные: не пашут, не сеют, не жнут – тайгой кормятся. Зверя стреляют, рыбу ловят… Они, как русские, в крепости жить не будут.
На миг все замолчали. Потом Пелагея спросила:
– Ты тут с семьей али как?
– С семьей, конечно. При барине я еще холостой был, а теперь вот с каторги жену привел. Одной судьбы мы с ней. Она, вишь, тоже крепостная была, в няньках при господском ребенке. Ну, ребенок пуговицей подавился да и помер. Маленькие, они ведь всё в рот тащат – попробуй угляди!
А ее за недогляд – в Сибирь… Выходит, что по одной дорожке шли, одно горе мыкали. Там я Анфису свою и встретил. С тех пор вот живем вместе, на житье не гневаюсь, ребятенок уж двое. Как поселение нам вышло – стали мы вроде вольных и в церкви венчаны.
– А где у вас тут церква, далеко ли?
– Да поболе тридцати верст будет: в Кирге приход-то, возле Ирбитской слободы.
– И поблизости больше никаких деревень?
– Да вот самая ближняя, такая же, как наша, Харлова называется, семь верст отсюда. Там, говорят, сперва какой-то иноземец жил, высланный. Недолго жил, умер вскорости. Карла его звали. А у нас так заведено: кто первый жил, по тому деревня али село и зовется. Вот, к примеру, наша деревня. Первыми Прядеины здесь поселились, так она и зовется Прядеина.
– И теперь они здесь живут… Прядеины-то?
– Живут! Куда они денутся. Вот уж два дома у них с краю первые строились. Старший-то брат уж старик, сыновья у него взрослые… Однако засиделся я у вас, хозяйка браниться будет. А то идемте к нам ночевать, моя изба тут недалече. От реки гнус поднимается, заест ребятишек-то!
– Благодарствуем! Мы уж сколь времени под телегой спим, привыкли.
– Ну как знаете… а то пойдем под крышу-то – места хватит!
Никита еще посидел немного у костра, поговорил о нынешнем сенокосе, распрощался и ушел домой.
Долго еще жгли костры поселяне. Бреднем ловили рыбу в реке, женщины ее чистили и варили уху, тут же у реки стирали белье и мыли посуду.
Коротка летняя ночь в Зауралье. Вот уже в деревне пропели первые петухи. От реки повеяло прохладой, и в воздухе разлился чудесный аромат трав и свежего сена. Мало-помалу в таборе переселенцев стало стихать, и наконец все смолкло. Только лошади пощипывали траву, позванивая уздечками, да в деревне перелаивались потревоженные днем собаки.
Василий не привык долго спать, а тем более сейчас. В голове вертелись тревожные думки: «Скорее бы на место определиться и первым делом сена заготовить для Каурка. Потом хоть немного целины вспахать, ржи посеять… До непогоды и холодов хоть какое-то жилье успеть построить! Может, сегодня начальство из волости приедет?»
С такими мыслями Василий пошел посмотреть Каурка. А тут Никита Шукшин – уже из ночного лошадей ведет.
– Рано поднялся, Никита, – приветствовал нового знакомого Елпанов.
– А что делать? Как говорят – дом невелик, а лежать не велит, – ответил поговоркой Шукшин.
Василий залюбовался его лошадьми – крепкогрудым гнедым мерином и молодой кобылой с жеребенком-сеголетком, которую Никита вел в поводу.
– Хорошие лошади у тебя, Никита!
– Хороши, да мало. Если залежь или целину пахать – и мерина с кобылой надорвешь, и сам намучишься. Это мои друзья и помощники. Денно и нощно о них пекусь, ведь крестьянину без лошади что птице без крыльев… А что вы сегодня делать хотите? – перевел на другое разговор Никита. – Начальства из волости ждать? Да оно, может, неделю целую не приедет. Что вы будете время горячее терять? Время-то теперь какое – летний день год кормит. Начинайте сегодня же покос. Пусть кто-нибудь один останется на случай, если начальство приедет. Начальство-то к нам только спешит подать собирать, а по делу не дождешься. Речушка-то наша Киргой зовется, вот прямо за ней пусть и косят, по лесным еланям3 нынче травы добрые.
А ты, Василий, хочешь – со мной езжай. Версты за две отсюда мой покос. У меня много кошенины грести надо, да и метать поможешь: одному, сам знаешь, стог метать несподручно, а Анфиса-то моя тяжелая ходит. А уж завтра с утра – тебе покосили бы…
Елпанов согласился. Ожидая Никиту, они с Пелагеей наскоро поели. Подъехал на телеге Шукшин с Анфисой. У них был припасен бочонок квасу, большая корзина съестного. Василий мигом запряг Каурка, и все тронулись на покос.
Солнце давно уже взошло; на разные голоса пели птицы, где-то вдали куковала кукушка. Дурманящий аромат разнотравья кружил голову. Кругом все цвело, благоухало, пело, вознося гимн солнцу, вечному источнику жизни.
– Красота-то какая здесь, – вздохнул Василий, оглядывая травянистую пойму Кирги.
– Оно верно, что красиво, вот комаров бы поменьше, – ввернула Пелагея.
– Ничего, комарье не век живет, – засмеялся Никита, – обкосим вот травы, враз его поменьше станет, а к Ильину дню совсем исчезнут кровососы, разве только в глухих сограх4 останется. Вот, глядите, и мой покос!
Слезли с телег, стреножили и пустили пастись лошадей. Можно было начинать косьбу.
– А ну, Василий, дай-ка я косу твою отобью и направлю!
– Что я, сам, что ли, без рук?
– Да я не в обиду тебе, по-нашенски тебе косу налажу, под нашу зауральскую траву!
– Коли так – спасибо, – протянул ему косу Елпанов.
Никита мигом отбил косы Василию и Пелагее. Потом, широко расставляя ноги в броднях5, легко, как бы играя, пошел первым, ведя широкий – оберук – прокос. За ним встал Василий, потом Пелагея, чуть дальше – Анфиса. Она была на последнем месяце и оберук, как и Анка, старшая дочь, не косила.
– Ты, Нюрка, от кустов заходи, там трава помягче, – подсказал Никита, – а еще лучше сюда иди, здесь твоя косьба, – засмеялся он, показывая дочери густой куст смородины.
Как ни старался Василий держаться за Никитой, но не смог, хотя у него скоро от пота рубаха прилипла к спине.
Собираясь обедать, достали с телеги большое глиняное блюдо, деревянные ложки, Никита нарезал хлеб. Анфиса с Нюркой приготовили чудесную окрошку из огурцов, яиц и лука. Были и сметана, и молоко, и вареное мясо. Елпановы, только недавно проделавшие много тысяч верст на пути из родных мест, успели подзабыть о такой вкусной еде, а дети с жадностью набросились на молоко и сметану.
Василию и Пелагее стало неловко, а Никита все посмеивался:
– Что, ребятки, вкусно? Вот оставайтесь жить у нас в Прядеиной – каждый день будете так кушать!
Напоследок Нюрка достала с телеги свою корзинку, где были репа, морковь, горох, бобы, поставила корзинку в кружок обедающих и стала угощать Васильевых ребят.
После обеда немного отдохнули.
– А что, зверье-то вас шибко долит? – спросила Пелагея. – Вон леса кругом какие, знать, волков видимо-невидимо!
– Всякого зверья хватает! Лоси сохатые, козлы дикие, медведи, рыси… Птицы всякой – пропасть!
– А… волков? – спросила Пелагея, опасливо поглядывая на темные ельники. – Вон леса-то дремучие какие!
Шукшин прыснул от смеха и принялся ее успокаивать:
– Не робей! Сейчас лето; летом всякий зверь сытый… А вот зимой, особенно к весне, на Евдокию, едешь, бывало, один из Ирбитской слободы, так страшновато бывает… Как завоют волки со всех сторон, да если еще лошаденка неважная – всех святых вспомнишь! За мной, как-то было дело, долго гнались, проклятущие. Это ладно, что Гнедко у меня шагистый – быстро от них умотал! Я ведь тут какой год живу, всяко бывало, прямо к избушке и в пригон волки заходили. Думаешь, пальнул бы, да где его, ружье-то, возьмешь. Собак во дворах разрывали у некоторых. Спервоначалу шибко долили, волки самый каверзный зверь…
Солнце уже пошло на полдень, поспела грести кошенина. Гребли уже все, даже Петрунька и тот помогал. Волокушами стаскали сено к месту будущего стога. Никита хотел подсадить Настю на лошадь в седло, но она испугалась (в их деревне не принято было девчонке ездить в седле).
– Ты что это, Настасья Васильевна, верхом не умеешь ездить? Нехорошо, учиться надо. Здесь без разницы, у нас что парнишки, что девчонки – все верхом ездят. Вот смотри, моя Нюрка как умеет. Что бы я без нее делал? Казак настоящий! И в седле, и без седла ездит. Всю весну на гусевой ездила, и пахали мы с ней, и боронили. Верхом чуть ли не с пеленок. Что поделаешь, раз наследника бог не дает. Вот разве на этот раз будет…
Сено сметали, большой стог получился. Работу закончили, как раз когда солнце уже подходило к закату.
По дороге домой Никита остановил своего мерина и кнутовищем показал на березовый колок:
– Третьего дня ночью дождичек пробрызгивал, надо бы поглядеть – первые грузди должны появиться.
И в самом деле – набрали полную корзину груздей.
Василий дальше поехал с Никитой.
– Телега твоя мне понравилась, – пояснил он, подсаживаясь к тому в телегу. – Как она – на ходу легкая?
Шукшин приосанился:
– Как же нелегкая – ведь для себя делал-то, этими вот руками! Ты, как домой приедем, мастерскую мою посмотри. Я ведь не только телегу изладить могу – кадушки, ведра или чашки-ложки из дерева, бересты да глины… Вишь, Василий, каторга-то не только мучит, но и учит! Многому я там научился, всяких умельцев перевидал. Вот есть у меня думка одна: надо бы попытаться самому кирпич делать. Глины по крутоярам у нас – завались. Я пробовал уж ее замешивать – похоже, для кирпича годится. Вместо глинобитной – кирпичную печь с трубой сложить можно. В Ирбитской слободе видел такую у одних хозяев. А печь с трубой – это куда как хорошо! Дыму в избе нет, весь через трубу на волю выходит…