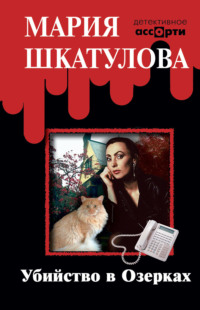Kitobni o'qish: «Убийство в Озерках»
Часть первая
1
В ее жизни был единственный мужчина – кот Вася, которого она подобрала в позапрошлом году в институтском дачном поселке, где она и ее подруга Марго снимали комнату с верандой. Лето было дождливое, и они проводили большую часть времени, валяясь на казенных кроватях, читая привезенные из Москвы старые толстые журналы и поедая кислую черную смородину из больших эмалированных кружек. Смородину Нина не любила и ела только потому, что чувствовала себя виноватой перед Марго, которая рвалась на юг или за границу и которую Нина уговорила провести август в Подмосковье. «Раз уж ты лишила себя и меня возможности нормально отдыхать, ешь хотя бы витамины», – ворчала Марго и зорко следила, чтобы к вечеру Нинина кружка была пуста.
* * *
Кот Вася появился почти сразу после их приезда. Он стоял под крыльцом, мокрый, грязный, голодный, и, когда Нина пошла в кухню за мясом, Марго сказала: «Ты совершаешь ошибку: он привыкнет, и ты не сможешь от него отвязаться».
В конце августа дожди прекратились, но нужно было возвращаться. Нина посадила кота в большую хозяйственную сумку на молнии и привезла в Москву.
Кот Вася был единственным существом, с которым она вела себя как женщина, полностью подчиняющаяся мужской воле. Когда он возвращался домой после ночи, проведенной в обществе окрестных кошек, она бросала свои дела, бросала работу, уборку, интересную книгу, даже телефонный разговор с подругой, и, пробормотав: «Я тебе перезвоню», – бежала в кухню, чтобы покормить его.
Вася шел за ней следом не спеша, с достоинством, не издавая ни звука, в отличие от большинства избалованных домашних кошек, которые мяукают, требуя пищи, и было видно только, как при ходьбе энергично шевелятся его лопатки. Поев, он возвращался в комнату, ложился на ковер и начинал вылизывать шкурку, а когда туалет был закончен, поднимал на Нину сонный взгляд, который, казалось, говорил: «Ну вот, женщина, теперь, когда я сыт, можешь подойти и приласкать меня. А потом я буду спать».
Она жила на первом этаже, и каждый вечер, часов в одиннадцать, Вася уходил через балкон и исчезал в кустах боярышника, росшего вокруг дома. Возвращался он утром и пробирался в квартиру через приоткрытую створку окна.
Он никогда не поддавался слабости и не демонстрировал ей свою любовь открыто, но, возвращаясь зимой, в сильный мороз, усталый и голодный, никогда не позволял себе будить ее, зная, как она любит поспать по выходным. Он сидел за окном, весь заиндевевший, и, ничем не выдавая своего присутствия, терпеливо ждал, пока она проснется и откроет ему.
Она же, уважая его своенравный характер, никогда не позволяла себе взять его на руки, как бы ей этого ни хотелось, и минуты нежности между ними бывали только тогда, когда он сам, по собственной воле, прыгал к ней на колени и сворачивался клубочком, мурлыча и доверчиво прижимаясь к ней.
* * *
Марго (она работала вместе с Ниной на факультете журналистики, где они обе преподавали английский язык) ругала ее: «Что-то ты рано приобретаешь повадки старой девы. Смотри, Нинон, как бы лет через пятнадцать ты не превратилась в сумасшедшую старуху с дюжиной кошек».
Нина не обижалась: она давно свыклась с мыслью, что в любви ей не везет и личное счастье не светит. Замуж она вышла рано, еще студенткой, и до окончания института развелась, так и не успев толком понять, что такое семейная жизнь. Из всего, что судьба посылала ей в последующие годы, в памяти у нее остались три неудавшихся романа.
Первый начался, когда она случайно встретила некоего Вадима, бывшего поклонника своей бывшей сокурсницы Лёли Долецкой. К тому времени, впрочем, это был уже Вадим Петрович, довольно импозантный господин лет сорока, с чувством юмора и некоторым обаянием. Они начали встречаться, ходить на выставки, в кино (в те времена еще ходили в кино) и просто погулять. Один раз были в консерватории, где Нине, правда, показалось, что он в какой-то момент задремал, но после концерта, когда они вышли под мелко моросящий дождь, он сказал несколько умных слов по поводу звучания оркестра и исполнительской манеры солиста, и такой уютной казалась улица Герцена при свете фонарей, и ему так шел шелковый шарф с «огурцами», и было так приятно опираться на мужскую руку. В тот вечер он впервые остался у нее.
Он приходил к ней раз или два в неделю, говорил, что ему хорошо у нее, что она – единственный человек, с которым он чувствует себя в своей тарелке, и очень любил поговорить о себе. Нина (тогда она еще жила в коммуналке у Покровских Ворот) с удовольствием ждала его, готовила что-нибудь вкусное, стелила белую скатерть, ставила свечи в старинных подсвечниках и цветы в маленькой вазочке из прибалтийской керамики и слушала его рассказы, иногда – с улыбкой, иногда – незаметно проглатывая напрашивающийся зевок. Словом, все было хорошо.
В том же году достроился наконец кооперативный дом, в котором она получила однокомнатную квартиру на первом этаже. Они вместе поехали посмотреть, и оказалось, что новая квартира, где рабочие устроили что-то вроде склада строительных материалов, нуждается в ремонте. Вадим предложил помочь.
Сначала она отказывалась, говорила, что не может принять от него такую жертву, что ему придется работать по выходным – а это так утомительно! – и что у нее достаточно денег, чтобы заплатить рабочим. Вадим настаивал. Говорил, что ему вовсе не трудно, что лишние деньги лучше потратить на импортные материалы, что уют в доме надо устраивать самим, что никто никогда не сделает ей ремонт лучше него и что, наконец, разве они не близкие люди? И Нина сдалась.
Они вместе ездили по магазинам в поисках дефицитных югославских обоев, чешской плитки и гэдээровской краски, а в институте, сидя на кафедре в перерывах между занятиями и листая иностранные журналы, Нина рассматривала фотографии интерьеров и мечтала, как они вместе будут вить себе гнездо.
Когда все необходимое было закуплено и Вадим приступил к работе, оказалось, что он действительно умеет делать все: белить потолки, клеить обои, класть кафель и даже менять сантехнику. Нина с удовольствием наблюдала за точными движениями его рук и искренне восхищалась результатами его труда, а он, поощряемый ее восторгами, вдохновенно трудился дальше. Однако вскоре оказалось, что восхищаться надо постоянно, постоянно в буквальном смысле слова: Нина заметила, что он бывал недоволен даже тогда, когда она на несколько минут выходила из комнаты, где он работал, в кухню или коридор, чтобы заняться там каким-нибудь делом, а уж о том, чтобы отпустить ее домой приготовить обед или убраться, не могло быть и речи. Она должна была стоять рядом, чем бы он ни занимался, и восторженно комментировать каждое его движение. Впрочем, он и сам не отказывал себе в комплиментах. «Ну как? – спрашивал он, приклеив к стене полосу обоев. – Ни одной складочки, ни одного перекоса». Или, распылив по потолку немного побелки: «Нет, ты посмотри, какой ровный слой, а? Все-таки вот, скажи, что значит рука мастера, а?» Нина смотрела, всплескивала руками, даже отходила немного в сторону, как делают, когда любуются картиной гениального художника, и говорила: «Потрясающе! Просто потрясающе! Где ты этому научился?»
К концу дня она страшно уставала. Уставала не от работы (работать она не могла, потому что он все время настаивал на ее присутствии возле себя), а как раз от безделья и постоянного напряжения. Она чувствовала себя как плохая актриса, которая ненавидит свое ремесло и у которой к тому же температура или заложен нос, а она должна, несмотря ни на что, ежедневно являться в театр и играть чувствительные сцены в одном и том же надоевшем спектакле.
Она постоянно грызла себя за это, обвиняла в черствости и неблагодарности, оправдывала его: «Ему, в конце концов, приходится намного тяжелее, чем мне. Ведь он работает, и работает хорошо, а я ничего не делаю и только ворчу. И потом, он, наверное, не уверен в себе, у него комплексы, проблемы, ему нужна поддержка, а у меня… просто плохой характер», – вздыхала Нина и тут же, вспоминая подробности прошедшего дня, с ужасом понимала, что ей было бы в сто раз легче самой побелить потолок или наклеить обои, чем целый день стоять возле него и говорить комплименты. «Как же так! Как он может? Ведь он мужчина!»
Ремонт затягивался, потому что работали они только по выходным. Нина стала раздражительной и скучной, сил на комплименты у нее оставалось все меньше, и отношения у них стали портиться.
Однажды в институте, на семинаре по переводу, ее студент принес рассказ одного малоизвестного американского писателя. В рассказе речь шла о человеке, от которого ушла жена. Чтобы как-то заглушить тоску, он решил заняться ремонтом дома и, подыскивая рабочих себе в помощь, прочитал объявление в местной газете, в котором какая-то ремонтная фирма предлагала свои услуги за очень небольшое вознаграждение. Он обратился туда, и на следующий день у него в доме появилась бригада чернокожих рабочих. Работу они делали превосходно, и цены у них были действительно смехотворные. Когда ремонт был закончен, хозяин предложил бригадиру выпить с ним в честь успешного завершения работ и за кружкой пива рассказал о своих личных горестях. Бригадир, сочувственно глядя на него, кивал, а хозяин, рассказав все, почувствовал, что ему стало немного легче. И тут его осенило.
– Послушайте, – сказал он чернокожему, – вы взяли с меня три доллара за покраску забора и пять за ремонт крыши. Что, если я предложу вам прийти ко мне завтра днем посидеть со мной за кружкой пива, пока я буду рассказывать вам о своих неприятностях? Не работать, а просто посидеть и послушать и, разумеется, не бесплатно? Вы бы согласились?
– Почему бы и нет? – ответил рабочий, – Могу и прийти.
– И сколько бы вы, к примеру, за это взяли? Ну, скажем, часа за два?
– Двести долларов, – ответил тот.
«Ну, конечно, конечно, – говорила себе Нина, – освободиться от этого ужасного гнета, любой ценой, любыми средствами. Жить в квартире с недоделанным ремонтом, влезть в долги (денег, чтобы нанять рабочих у нее уже не было) – все что угодно, но быть свободной, свободной, свободной!»
Марго, которой Вадим нравился, как всегда, ругала ее:
– В кои-то веки тебе попался приличный мужик, красивый, интеллигентный, с чувством юмора…
– Да что ты понимаешь! – возмущалась Нина, – Его чувства юмора хватает на все, только не на самого себя, а ведь это главное!
– Ты просто зажралась, – отвечала Марго, которой самой не слишком везло в личной жизни.
Второй роман случился несколько лет спустя, уже в «новые времена», и был очень коротким. Однажды Марго потащила ее на какую-то презентацию, и там к ним подошел слегка подвыпивший господин лет пятидесяти в дорогом костюме. Он принялся опекать их, подливал мартини, давал прикурить, шутил и поглядывал на Нину. О себе сказал, что зовут его Олегом Семеновичем, что работает он в крупной нефтяной компании, что недавно овдовел и теперь скучает, а когда презентация и фуршет закончились, предложил развезти их по домам.
Крыша новенького черного «форда» поблескивала каплями дождя. В машине пахло кожей, хорошим табаком и благополучием. Марго закурила и положила ногу на ногу: вид у нее был такой, будто она всю жизнь только и делала, что разъезжала на дорогих иномарках.
– Я живу в двух шагах отсюда, на Пречистенке, поэтому сначала давайте разберемся со мной, – сказала она.
Выходя из машины, она незаметно ущипнула Нину за ногу, что означало: «Не зевай!»
На следующий день Олег Семенович позвонил Нине и пригласил ее в Большой театр, где гастролировала знаменитая французская балетная труппа. «Почему бы и нет?» – подумала Нина и попросила Марго одолжить ей норковый палантин.
После театра он довез ее до дому, но в гости напрашиваться не стал, что Нине очень понравилось, а только спросил, не согласится ли она сходить с ним как-нибудь пообедать. «Почему бы и нет?» – опять подумала Нина, и в ближайшую субботу они пили настоящее французское шампанское в одном из самых дорогих московских ресторанов. Потом они побывали на модной выставке, потом на концерте американской поп-звезды, потом опять в ресторане, и Нина постоянно ловила на себе его плотоядный взгляд. После каждой встречи Марго с пристрастием допрашивала ее: «Ну как? Он что-нибудь родил наконец? Нет? До сих пор нет? Значит, точно влюбился», – и торжествовала победу.
Нина лениво отбивалась, говоря, что, во-первых, ничего еще не точно, а, во-вторых, ей в этой ситуации гораздо важнее понять, не влюблена ли она сама. «А ты, конечно, не влюблена?» – с сарказмом вопрошала Марго, которая влюблялась часто, быстро и страстно и так же быстро и бурно охладевала к своим избранникам, если не находила в них ответного чувства: «Черт с ним! Что этот болван понимает в женщинах! Не хочет – пусть себе сидит со своей Фефёлой Ивановной! Ему же хуже».
Когда они встретились в очередной раз, Олег Семенович был без машины и предложил погулять, а потом где-нибудь пообедать. Вечером они вышли из ресторана, и Олег Семенович стал ловить такси, но Нина сказала, что до ее дома проще добраться на метро. Олег Семенович рассмеялся: «На метро? Забавно! Сто лет не ездил в метро!»
На лестнице, ведущей к платформе, стояла женщина с двумя детьми и просила подаяние. В руке она держала небольшую картонку, на которой Нина, скосив глаза, издали различила слово «люди», написанное крупными печатными буквами. Олег Семенович, отбросив полу темно-синего кашемирового пальто, остановился возле женщины и, чуть-чуть склонив корпус, начал читать. Нина сделала несколько шагов вниз и неловко остановилась на ступеньках. Она не понимала, для чего он это делает и почему не может дать ей немного мелочи просто так, не читая, но терпеливо ждала.
Однако Олег Семенович, прочитав все до конца и не дав женщине ни копейки, спокойно двинулся вниз, и по его лицу Нина поняла, что он собирается сказать что-то смешное. Она растерялась. Что делать? Вернуться к женщине и дать ей денег? Она бы дала и так, если бы не была уверена, что это собирается сделать ее спутник. Но теперь? Разве это не означало бы обидеть его? Нина почувствовала, что от стыда у нее горит лицо.
Потом она много раз ругала себя за то, что не сделала этого. «Чего я испугалась? Почему ничего не сказала ему? Неужели потому, что он такой солидный господин в дорогом пальто? Или потому, что он старше меня? Или я просто не хотела потерять “перспективного” поклонника? Какая гадость!..»
Больше они не встречались. Он еще звонил ей несколько раз, куда-то приглашал, но Нина, сердясь не столько на него, сколько на самое себя, каждый раз отказывалась, отговариваясь то занятостью, то недомоганием, то чем-нибудь еще. А потом он пропал.
* * *
Потом довольно долго на горизонте ее личной жизни никто не появлялся.
– Ты очень пассивна, – говорила ей Марго с видом знатока. – С твоими внешними данными ты давно бы уже могла подцепить кого угодно…
– Не будем преувеличивать, – лениво отбивалась Нина. – Какие там данные могут быть в моем возрасте?
– Тридцать девять – это не возраст, моя дорогая, и не надо со мной кокетничать, я не мужчина. Как говорится, раньше мы были молодые и красивые, а теперь – просто красивые. Беда, правда, в том, – она вздыхала, – что долго, к сожалению, это не продлится. Еще немного, и тогда уж точно никто не посмотрит в нашу сторону.
– Что ты предлагаешь?
– Прежде всего – не бросаться такими, как этот Олег Семеныч. Чем он плох? Подумаешь, не подал рубль какой-то дуре, которой лень пойти работать и которая мучает своих детей, заставляя их стоять в душном метро на грязной лестнице. Ну и что? Может, у него просто не было мелочи?
– Да нет, – отвечала Нина, поморщившись, – Мелочь тут ни при чем: его проблема совсем в другом…
– Ах ты, боже мой! Скажите, пожалуйста! А где ты видела идеального мужика? Вспомни, например, моего Женечку, который тебе всегда так нравился. Хочешь, я расскажу тебе про него одну историю?
– Какую историю?
Женечка, то есть Евгений Михайлович, бывший Маргаритин муж, а теперь любовник, с которым она то встречалась, то расставалась, то снова встречалась, был не очень удачливым кинокритиком и довольно капризным господином. Нине он не то чтобы нравился, скорее она просто привыкла к нему за долгие годы общения.
– Какую историю? – переспросила Марго. – Историю, о которой я никогда никому не рассказывала, даже тебе. И даже не знаю почему.
Нина недоверчиво взглянула на нее:
– Ты уверена, что хочешь рассказать ее сейчас?
– Да все равно! – вздохнула Марго. – Когда-то меня это волновало, а теперь…
– А что теперь? – спросила Нина и тревожно посмотрела на подругу.
Та поднесла к губам сигарету и, прикурив, выпустила вверх струю голубоватого дыма.
– «Теперь, теперь», – передразнила Марго. – Сперва я расскажу тебе, что было семнадцать лет назад, вскоре после того, как мы познакомились. Помнишь, когда я окончила институт, отец разрешил мне пользоваться его машиной: сам он в это время уже почти не ездил из-за сердца. И еще: помнишь Федоровичей? Они тогда жили на Плющихе, и мы с Женькой часто заезжали к ним по вечерам.
– Конечно, помню! Мы с тобой тоже бывали у них иногда.
– Так вот, мы тогда с Женькой встречались почти каждый день, и почти всегда я была на машине. Мне было приятно повыпендриваться, да и ему это ужасно нравилось, и время от времени он просил у меня разрешения немного порулить. Водить машину он практически не умел, но немного поездить в каком-нибудь безопасном месте, где-нибудь во дворе, я ему, конечно, разрешала. И вот в один прекрасный день, вернее прекрасный вечер (это было в конце лета, кажется в августе), приезжаем мы к Федоровичам: я за рулем, Женька – рядом, въезжаем во двор, и тут-то он мне и говорит: «Ты иди, а я немного поезжу и сам припаркую машину». – «Хорошо, – говорю, – валяй». И поднимаюсь к Федоровичам, у которых, как всегда, шумно и весело, и иду на кухню к Татьяне, помогаю резать какой- то салат. Минут через пятнадцать приходит Женька, какой-то сам не свой. Смотрю, то ли настроение у него испортилось, то ли Федоровичи его своей болтовней раздражают – не знаю, но и ни о чем не спрашиваю. Посидели мы у них меньше обычного, потому что никак ничего не склеивалось из-за его настроения, и решили ехать. Спускаемся. Во дворе темно, машина стоит в неосвещенном углу между гаражом и газоном. Подходим к машине, садимся, выезжаем со двора на улицу, и тут он мне говорит: «Знаешь, Марго, что-то у меня голова болит: отвези- ка ты меня домой». Ладно, думаю, домой так домой. Может, думаю, действительно у мужика так разболелась голова, что ему не до глупостей. Отвезла его домой, вернулась к себе, поставила машину на стоянку рядом с соседской «Волгой», и, когда поднялась в квартиру, было уже, наверное, часа два ночи. На следующий день (не помню, то ли утром, то ли днем) встречаю я в подъезде соседа, хозяина той самой «Волги». «Где это вас так помяли, Маргарита Витальевна?» – спрашивает. Как это, возмущаюсь, помяли? Никто меня не мял. Да не вас, конечно, – представляешь, сукин сын? – а вашу машину. Машину, говорю, тем более. Фару, говорит, придется менять, а крыло ничего, выправят. Бросаюсь во двор, подхожу к машине, вижу: левое крыло около фары действительно помято, фара разбита и ободок погнут. А машина – отцовская. И в субботу мне его на этой машине везти на дачу. И отец, как всегда, машину внимательно осмотрит – собственность все-таки – и, конечно, все увидит. А ты моего отца помнишь и знаешь, следовательно, чем мне все это могло грозить… Ну, думаю, как же это могло произойти? Первым делом заподозрила этого самого соседа: мол, сам стукнул, сам же и дурака теперь валяет. Потом, слава Богу, опомнилась: сообразила, что сделать этого он никак не мог, потому что такой удар можно нанести только спереди или слева, а его машина стоит справа, так что сосед тут явно ни при чем. Что же, думаю, это такое? Выходит, я сама где- то стукнулась и не заметила? Клянусь тебе, я самым серьезным образом обдумывала эту дурацкую гипотезу, так как дать этому событию то единственное объяснение, которое напрашивалось само собой, я не могла.
– То есть ты думаешь, это сделал Женя?
– Да чего тут думать? Я же не могла на самом деле удариться и не заметить этого. Кроме того, незадолго до встречи с Женькой я мыла машину, и если бы что-нибудь было… До того момента, как мы подъехали к Федоровичам, я из машины никуда не выходила и машину нигде не оставляла, значит…
– Но ведь ее могли помять, пока она стояла во дворе у Федоровичей?
– Не могли. Я же говорю, она стояла между гаражом и газоном, и сбоку никакая другая машина подобраться к ней не могла. Я это прекрасно помню, тем более что в тот же день специально приехала во двор к Федоровичам, чтобы исследовать такую возможность, и, к сожалению, вынуждена была эту версию отбросить.
– А Женя?
– Что – Женя? – Марго с удивлением взглянула на нее.
– Что он сказал? Вернее, что ты ему сказала?
– Вот именно, «вернее»… Что сказала? Сказала, что так, мол, и так: вышла во двор, увидела, что машина помята, спросила, не знает ли он, как это могло случиться…
– Ну? А он? Да не тяни же!
Марго усмехнулась.
– Да что ты, в самом деле? Как будто не знаешь, что он сказал?
– Откуда же мне знать! Ты мне никогда об этом не рассказывала! – наивно ответила Нина.
– Господи, Нинон, что тут рассказывать? Неужели непонятно: если он ничего не сказал сразу, значит, не собирался делать этого и впредь.
– Но ты уверена, что…
– Оставь, пожалуйста, – Марго досадливо махнула рукой. – Кто же еще, если не он? Потому-то он и был такой нервный, когда поднялся к Федоровичам. Машину он водить не умеет, во дворе темно, тесно, вот он и стукнулся. Я только потом сообразила: ведь когда мы подъехали к их дому, он был такой веселый, чего-то шутил. И у Федоровичей обычно сидит, разливается соловьем, а тут, видите ли, голова разболелась…
– И все-таки, что он тебе сказал?
– Да ничего. Сказал, что понятия не имеет. Что, наверное, кто-то стукнул. И все.
– А ты? Ты не намекнула ему, что кое о чем догадываешься? – Нина испытующе посмотрела на подругу.
– Псс! – фыркнула Марго. – «Намекнула!» Скажешь тоже! Мы же «интеллигентные» люди, твою мать! Мы боимся ранить, боимся притронуться к больному месту, боимся поставить в неловкое положение – мы носимся с ними как… как…
Нина засмеялась.
– Ты же только что ругала меня именно за то, что я не хочу с этим носиться!
– Брось, пожалуйста… Не знаю, с чего я сейчас так завелась… Вчера мы с ним поругались, вот я и… А так… мужик как мужик. Немного жадный, трусоватый, а в остальном – ничего. Я тебе к тому все это и говорю, что если подходить к ним со слишком высокими мерками, то так и будешь сидеть всю жизнь одна.
– Да я уже и сижу! И ничего, не так уж мне и плохо. И знаешь почему? Потому что то, что ты называешь «немного жадным и трусоватым», – это не мужчина. И меня это не возбуждает. – Нина помолчала. – А почему ты вспомнила сейчас эту историю про Женю?
Марго поморщилась.
– Да так… говорить не хочется.
– И все-таки?
– Да знаешь, лежим мы с ним вчера в постели. Женька превзошел сам себя: был как молодой петушок. Лежим мы с ним, курим, расслабленные такие, счастливые, вспоминаем молодость, как познакомились, как целовались на каком-то чердаке, как он первый раз к моим родителям пришел, как с отцом спорил и так далее. Федоровичей вспомнили, конечно. И тут черт меня дернул сказать: «Женька, ты хоть теперь можешь признаться, что это ты тогда мою машину… того?»
– О, господи, зачем?!
– Зачем, зачем… Я-то, дура, решила, что дело прошлое: мало ли каких глупостей мы не натворили в молодости? А теперь вспоминаем об этом как о чем-то таком, что было не с нами. Я, например, в юности писала стихи и ни за какие коврижки не соглашалась их показывать кому бы то ни было – стеснялась. А теперь – мне совершенно все равно, будто и не я их писала.
– Ах, стихи… – сказала Нина. – Ну хорошо, и что же?
– Ты будешь смеяться, но я была уверена, что он поступит как благородный идальго и скажет: «Прости меня, Марго. Я, конечно, трус, но не настолько. Это сделал я, но тогда я не мог сознаться, потому что боялся твоего папашу, а потом, что ТЫ будешь считать меня трусом. А теперь я так счастлив, что с меня свалилась эта гора…» Ну и так далее. И мы, как водится, сливаемся в экстазе…
Нина улыбнулась.
– А вместо этого?
– Вместо этого он вскочил как ошпаренный и заорал: «Выходит, ты все эти годы считала меня подлецом? И жила со мной? И сейчас продолжаешь считать? Да как ты могла?» И пошел, и пошел…Ты ведь знаешь, какой он зануда? Для него до сих пор важнее, что о нем говорят, чем то, что он такое на самом деле. А ведь ему уже пятьдесят…
– И чем все это кончилось?
– Как – чем? Он ушел. И уж теперь, сама понимаешь, вряд ли вернется. – Марго закурила. – Видишь теперь, к чему приводит принципиальность? А вообще… – Она опять вздохнула. – Еще недавно мне казалось, что у нас снова может что-то получиться, а теперь… Я даже не знаю, хочу я этого или нет?
* * *
Так они обе оказались в одиночестве. Марго, впрочем, не унывала. «Ну что, да здравствует свобода? Или мы с тобой опять – девушки на выданье? А знаешь, Нинон, я ни о чем не жалею… Более того: я знаю, что надо делать, чтобы все устроилось. Вот послушай: если хочешь преуспеть в личной жизни, надо утром вставать, обязательно выспавшись, принимать душ, лучше контрастный, надевать хорошенький халатик… Слышишь? Не какой-нибудь, из советской байки с оторванными пуговицами, а хорошенький стильный халатик! Делать прическу, варить кофе и пить его из маленькой чашечки… непременно из маленькой! У тебя есть маленькая фарфоровая чашечка для кофе?
– Ты же знаешь, Марго, кофе я не пью.
– Ах ну да, я забыла – ты же у нас англоманка. Что ж, пусть будет чай. У тебя есть фарфоровая чашка для чая?
– Для чая – есть.
– Прекрасно! И не надо на меня так смотреть. Так вот: причесываешься, одеваешься и пьешь чай…
– Как? И все это – одна? – спросила Нина, еле сдерживая смех.
– Ну конечно! Ты должна ощущать себя Женщиной. И не просто Женщиной, а красивой и независимой, то есть такой, которая живет в свое удовольствие. И как только ты станешь сама себя так ощущать, это сразу же заметят другие, вот увидишь. А вечером – ты меня слушаешь? – ванна, прическа, макияж, платье, туфли… Заметь, не тапочки, а туфли, и не на босые ноги, а на хорошие дорогие колготки и… украшения. Да, и маникюр. Непременно. Что ты смеешься?
Нина смеялась, потому что на самом деле уже давно научилась жить «для себя». Она не слишком рано вставала, потому что на факультете давно прошли те времена, когда на занятия надо было являться к половине девятого, и для «своих» девочки из деканата составляли вполне гуманное расписание, и не слишком задерживалась на кафедре после занятий. Материально она была вполне обеспечена: правда, ей приходилось давать частные уроки, но двух-трех в неделю ей вполне хватало, а это занимало не слишком много времени. В остальном она жила, что называется, в свое удовольствие: ходила по театрам (иногда с Марго, иногда с кем-нибудь еще), посещала все мало-мальски интересные выставки, часто бывала в консерватории, иногда позволяла себе заглянуть в какой-нибудь бутик и купить понравившуюся шмотку, а на зимние каникулы даже отправиться в какую-нибудь не очень дорогую поездку в Испанию или Италию. Но больше всего, пожалуй (во всяком случае, с тех пор, как в ее жизни появился Вася), любила просто побыть дома.
Квартирка у нее была маленькая, но очень уютная: диван-кровать, довольно старый, но недавно заново перетянутый, кресло, обитое той же тканью, тоже старое, доставшееся ей после смерти матери, когда отец переехал к новой жене под Туапсе; стеллаж с книгами, стоящий углом и вечерами уютно освещенный торшером, и, наконец, ручной работы ковер, небольшой и не новый, но удачно сочетающийся по цвету с мягкой мебелью и шторами. И много цветов.
Год назад ей повезло, и после большого перерыва ей удалось на три месяца съездить в Англию, по обмену. Она жила в Лондоне, на Кенсингтон-роуд, и каждый день через Гайд-парк, по зеленым газонам которого свободно расхаживали птицы, бегала в Summer School, где проходила ее стажировка. Выходные проводила в музеях, а вечерами гуляла по Лондону, пешком доходя до зданий парламента, Биг-Бена, спускалась к Темзе, долго стояла, глядя, как по реке проходят суда, и возвращалась через залитую рекламными огнями Пикадилли.
Денег у нее было немного, но перед самым отъездом она все-таки позволила себе купить на Портобелло-роуд синий фаянсовый кувшин, несколько синих же тарелок и несколько вещиц веджвудского фарфора, потратив на это все, что у нее оставалось.
Вернувшись в Москву, Нина устроила себе уголок в английском стиле: переставила кресло ближе к стеллажу, повесила на стену одну из привезенных синих тарелок и несколько гравюр с изображением псовой охоты – всадники, свора собак, охотничьи рожки, трогательный английский пейзаж – и расставила на полке свой «веджвуд». И очень гордилась этим уголком.
В кухне повесила занавески и ламбрекен из настоящей шотландки, поставила на видное место синий кувшин, в котором летом замечательно смотрелись желтые тюльпаны или ромашки, а зимой – бессмертники, и чуть ли не каждый день начищала маленький медный чайник с деревянной ручкой, сделанный «под старину».
До платья и прически по вечерам дело, конечно, не доходило, но хорошенький халатик и уютные тапочки у нее были, и вечерами, задернув шторы, она включала торшер и устраивалась на диване, чтобы почитать или поболтать по телефону.
– Что делаешь? – спрашивала у нее Марго.
– Ничего. Валяюсь с «Мадам Бовари».
– Ну, это уже извращение, – хохотала Марго. – Я хоть, по крайней мере, валяюсь с «Идиотом».
Раз в неделю, получив газету с телевизионной программой, Нина отмечала в ней любимые передачи, которых, правда, было немного, но все же иногда, особенно зимой, ей нравилось устроиться перед «ящиком» с Васей на коленях или, еще лучше, посмотреть по видео хороший фильм на английском языке, принесенный на кафедру кем-нибудь из коллег.
Засыпая, она всегда думала о чем-нибудь приятном: вспоминала лондонские парки, зеленые газоны, всадников в элегантных костюмах или последнюю поездку в Венецию, гондолы, дворцы, отражающиеся в зеленой воде Большого канала, – и никогда не позволяла себе поддаваться унынию. Словом, у нее все было хорошо.
2
Третий роман, вернее, не роман, а какая-то совершенно нелепая история, приключившаяся по ее собственной глупости, начался годом позже, когда Нина после маленькой вечеринки, устроенной на кафедре в честь европейского Рождества, возвращалась домой.