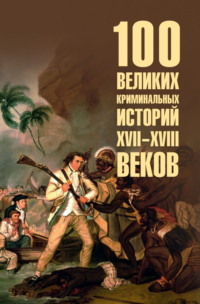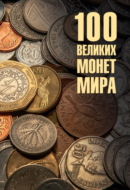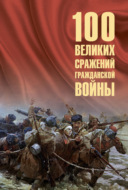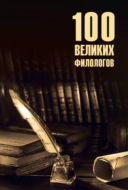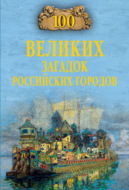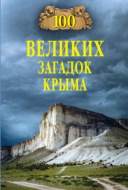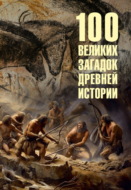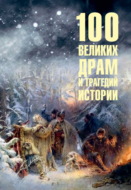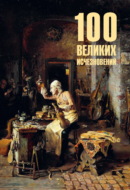Kitobni o'qish: «100 великих криминальных историй XVII-XVIII веков»
Клятвопреступникам, монетчикам фальшивым,
Всем, кто обвешивал, кто подбирал ключи,
Грабителям лесным, кто горло за гроши вам
Полосовал в глухой ночи, —
Всем наступает час неумолимой кары:
Не околпачат суд, не избегут суда, —
Пират, убийца, вор – и молодой и старый —
Все будут брошены сюда.
Виктор Гюго

С 1998 года издательство «Вече» выпускает книги серии «100 великих» – уникальные энциклопедии жизни знаменитых людей и выдающихся творений человеческого гения, самых удивительных явлений и загадок природы, величайших событий истории и культуры.

© Сорвина М.Ю., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Предисловие
Для автора этих строк XVII и XVIII века выглядят как позднее Средневековье, хотя многие историки готовы будут с этим поспорить. Но в те далекие времена еще действовали причудливые, порой совершенно удивительные законы и экспертные заключения, устраивались разбойничьи набеги, гонения на ведьм и колдунов. Существовало множество сословных прав и предрассудков, которые зачастую оправдывались высоким положением и наличием собственных военных подразделений, то есть правом сильного. Криминалистика переживала даже не детский, а скорее младенческий период, поэтому кого-то отправляли на плаху без вины, а кого-то оправдывали за недоказанностью преступления.
Именно этой причудливостью времени объясняется наличие в книге необычных семейных историй, а также – взаимосвязанности и взаимной зависимости многих лиц, так или иначе оказавшихся фигурантами преступлений.
Россия разбойничья
Опасность, кровь, разврат, обман —
Суть узы страшного семейства;
Тот их, кто с каменной душой
Прошел все степени злодейства…
А.С. Пушкин. «Братья разбойники»
Разбираясь в этих покрытых пылью времени историях, в основном частных, глубоко личных, начинаешь понимать, как же мало мы знаем о людях той далекой эпохи. Тогда были иные законы и иные способы дознания. Следователи были такими же дознавателями, но назывались они губными старостами и сидели в губной избе. Тюрьма была такой же избой, откуда нередко бежали при помощи охранников: здесь же все были «свои», и охранники – тоже. Крестьяне часто принимали сторону бандитов. И не потому, что хотели поднять восстание против правящего класса, а просто потому, что боялись и разбойников, и следствия: и те, и другие были опасными врагами – первые отомстят, вторые без вины запытают и засудят. И все это мы можем лишь чайной ложкой вычерпывать из немногочисленных работ историков, статей краеведов, да еще из старинных архивов, где сохранились скупые документы.
Нападение на Божью обитель
Здесь мы вынуждены отмотать нить времени на полстолетия назад от XVII века, чтобы не без некоторого удивления увидеть, что простоватую публику еще в середине XVI века (или уже в середине XVI века – по отношению к воцарению православия на Руси) совершенно не смущала идея ограбления Божьей обители, равно как и убийство игумена.
Мартовской ночью 1551 года в селе Белом Пошехонско-Романовского округа (ныне – это Ярославская область) было неспокойно. То и дело слышались какие-то скрипы, шорохи, шепот. Кто-то крался вдоль забора, кто-то свистнул. И наконец побежали – быстрый топот множества ног.

Руины церкви в селе Белое. Современный вид
Адриан, игумен молодого, десять лет назад построенного монастыря, вздрогнул, когда услышал шаги за дверью, и решил спрятаться в подполе. Но шайка уже заполонила обитель и искала ценности. К несчастью, они знали, где можно спрятаться, и довольно быстро извлекли Адриана из его укрытия, стали допрашивать. Игумен понимал, что сопротивление такому количеству разбойников бесполезно, и отдал им сосуд с 40 рублями – пожертвованиями на строительство церкви. Но им было мало, искали иконы, золото. Игумена убили, а монахов-насельников, захваченных вместе с ним, связали и бросили в подпол. Они сломали затвор одной из церквей, ворвались в алтарь, схватили и начали жестоко пытать трех учеников Адриана, а старца Давида убили сразу же. Тело самого Адриана было спрятано в окрестностях монастыря. Где – неизвестно.
Бандиты разжились книгами, свечным воском, ларцами, медными подсвечниками, кое-какой одеждой – в те времена все это имело материальную ценность. Потом прихватили лошадей и отправились делить добычу.
Дело это приняло совершенно неожиданный оборот, когда Иван Матренин, один из грабителей, прихвативший по-тихому увиденный ларчик, обнаружил в нем вовсе не деньги или золото, а образа и кисти для писания икон. Вот тут-то в нем и сработало внезапное раскаянье: «дерзнух неподобная украдох у своея братии». То есть, став виновником убийства игумена, этот Матренин почему-то грешником себя не считал и несчастному игумену не сочувствовал, а похитив орудия воспроизведения лика Божьего, устыдился до полного отсутствия чувства самосохранения и помчался каяться. Такова была психология: Бога, как авторитета, боялись больше, чем человекогубства.
Но интересно, что каяться Иван побежал не к тому, кто охраняет порядок, а к «авторитету № 2» – местному священнику, известному под именем поп Косарь. Черная ирония этой ситуации заключалась в том, что именно поп Косарь и был главарем шайки, напавшей на монастырь.
Дальше события развивались еще более причудливо. Циничный поп мог бы избавиться от впечатлительного Матренина и затаиться. Однако он тоже почему-то воспринял находку Матренина как дурной знак и собрал своих подельников на сходку. Происходило это в местной церкви Св. Георгия.
«Се же бе на нас полищное, се злое» – примерно так выразился нервный главарь, не подозревая, что его подслушивают.
За бандитами следил церковный служка по прозвищу Баба, которого давно интересовали странные действия попа Косаря. Узнав о делах Косаря, этот Баба не без презрительной насмешки заметил: «Безумен поп невесть, где девати, восхоте разбой творити такожде и душ человеческих побивати, устроих себя от неправды, богатство собирати и красти у сосед своих орудие…» (А.В. Воробьев «От татей к ворам. История организованной преступности в России»).
Примчавшись к губному старосте, служка все рассказал. За бандитами снарядили местных старост – Симеона (очевидно, Семен Александрович Гнездиловский) и Ивана (очевидно, Иван Плюсков) с отрядом.
О дознании того времени в книге историка А.В. Воробьева сказано следующее: «Помимо губных старост и персонала губной избы, рассказчик упоминает о неких «царских прикащиках». Дело в том, что Белое село уже в начале XVI в. по завещанию Ивана III было царской вотчиной, перешедшей по наследству к Василию III, а значит, оно и его жители ведались теми самыми царскими приказчиками.
На взаимоотношения последних с губными старостами проливает свет уставная грамота царским Подклетным селам Переяславского уезда. Согласно ей выборные земские судьи должны были в случае татьбы или разбоя судить вместе с губными старостами по губным грамотам. Подобный механизм действовал в дальнейшем и в других случаях: например, ямской староста также обязан был участвовать в суде с губными старостами подведомственного ему человека. Представляется, что в таких судах роль первой скрипки играли все же губные старосты, но даже в этих случаях у их партнеров по процессу оставалась важная функция «бережения», то есть надзора и контроля за судом. Естественно, в 1550 г., когда земская реформа еще не началась, место выборных судей занимали царские приказчики, и именно поэтому они присутствовали на процессе для защиты интересов своих подопечных» (А.В. Воробьев «От татей к ворам. История организованной преступности в России»).
Во время следствия старосте и приказчикам открылась мрачная картина жизни уезда, в котором давно уже процветали грабежи. Большая банда, в которой состояли более двух десятков человек, была хорошо организована – кто-то «стоял на шухере», кто-то осуществлял «шмон» или пытал свидетелей, кто-то дежурил на повозке, а кто-то сбывал краденое. У попа Косаря старосты быстро нашли все похищенное, которое он не успел сбыть.
Ивана Матренина по обыкновению жестоко пытали, и он быстро рассказал о своих уголовных похождениях и о крестьянах, которые участвовали с ним в налетах. Он же сообщил, «что после убийства они бросили тело Адриана на рубеже двух волостей, а наутро собирались сжечь в костре, но не обнаружили его на оставленном месте» (А.В. Воробьев «От татей к ворам…»).
Что же случилось с телом Адриана? Нет, он, конечно, не воскрес. Однако более семидесяти лет о нем ничего не было известно. Но однажды умирающий старец Иона в предсмертной исповеди отцу Лаврентию признался, что давным-давно, в ночь с 5 на 6 марта 1550 года, его отец Сидор нашел убитого игумена Адриана на рубеже двух волостей, возле их деревни Иванники. Он позвал сына Ивана, ставшего позднее монахом Ионой, и соседей. Все вместе они предали игумена земле без отпевания, потому что боялись обвинений и допросов: «заблюлися выемки от губных старост».
В самом деле: объясняй потом, что это не твое преступление, отправят на дыбу – и не в том признаешься. На это и рассчитывали бандиты – что подумают на соседей. А.В. Воробьев комментирует: «Откровенно непривлекательно выглядит фигура белосельского губного старосты Кирилла Васильевича Хвостова (губной стан переехал в Белое село в первой половине XVII в.), осуждавшего невинных и, несмотря на получение двойных откупов, продолжавшего притеснять обитель».
Крестьяне не любили выносить сор из избы и тем более – сотрудничать со следствием. Разумеется, об участи бандитов никто не сожалел. Это были вовсе не Робин Гуды, а обычные негодяи, которые грабили бедных и беззащитных людей, забирая у них сущую мелочь. Но, справедливости ради, стоит сказать, что все эти разбойники были не какими-то пришлыми каторжанами или неведомыми злодеями из других земель, а вполне обычными местными крестьянами, которых не смущало злодейское ремесло, а жестокость по отношению к жертвам ничем не отличалась от забоя скота.
Из всех разбойников был повешен все тот же Матренин, а остальные отправлены на каторгу. Их имущество распродали, очевидно, выплатив монастырю компенсацию, а 50 рублей достались Разбойному приказу (сегодня его назвали бы «убойным отделом»).
Что же касается игумена Адриана, то он стал преподобномучеником Адрианом Пошехонским. Уже в 1670‑е годы было написано его житие «Страдание преподобного отца нашего игумена Адриана от розбойник», а созданная в его честь Адриановская икона Успения Божией Матери считалась чудотворной.
Пестрая банда
Конец XVI века выдался не менее горячий. Уже в январе 1596 года некий Иван Обоютин вместе со своей бандой ограбил галичских купцов, которые направлялись по Переяславской дороге от Троице-Сергиева монастыря. Обычно банда промышляла на юге Центральной России – возле Каширы, Крапивны и Малоярославца, однако в январе 1596 года, когда и произошло ограбление купцов, разбойники сместились почти на 200 км к северу. Историки приписывают это высокой способности некоторых членов банды ориентироваться в незнакомой местности, а также – хорошей осведомленности о значении этого торгово-промышленного тракта, на котором было чем поживиться (М.И. Давыдов «Погонная память 1596 года из архива Суздальского Покровского монастыря»).
Семеро бандитов во главе с Обоютиным в тот раз сбежали, но четырех удалось поймать. Приметы сбежавших были весьма подробно изложены: «Розбойничья голова Иванко Обоютин, а Киндеев сын он же, а Бедаревым и Коширою назывался он же: ростом середней человек, лицем и волосом беловат, угреват, плоск, бухон, ус маленек. А платия на нем: полукафтанье дорогилной червчатой на бумаге да кафтан синь суконной, нашивка червъчата, однорятка зелена, завяски шелк зелен з белым шелком; да шапка багрова петли серебряны с пухом, под нею лисьи лапки.
Коширенин сын боярской Бориско Тимофеев сын Козюков: ростом высок, тонковат, волосом рус, уса и бороды нет. А платия на нем: кафтан бораней под сукном белым сермяжным, пугвици у него вкалываные; у него шапка лазорева черкаская с лисицею.
Кропивенской казак Ондрюшка Щекуров: ростом невелик, волосом беловат, уса и бороды нет. А платья на нем: кафтан бел сермяжной, завяски на нем ременные, да кафтан бараней наголной; шапка черкаская с пухом.
Михайлов человек Никитича Юрьева Петрушка Стрепков: ростом низмен, кренаст, волосом черн, рожеем смугол, ус немал, бороду сечет. А платия на нем: кафтан теплой мерлущатой под сукном синим настрафилным, нашивка на нем болшая, шелк червъчат.
Гришка Счербинка Ивашков человек Обоютина: ростом невелик, волосом рус, молод, уса и бороды нет. А платия на нем: кафтан синь настрафиль, нашивка на нем частая, шелк рудожелт, полукафтанейце белое наголное.
Сын боярской ярославец Левка Офонасьев: ростом высок, тонок, волосом бел, уса и бороды нет. А живет у Иванка у Обоютина и у Килдеева. А платия на нем: кавтан лазорев зенденной лисей, нашивка болшая, шелк червъчат; шапка вишнева с пухом.
Савка Холмитин гулящей человек: ростом высок, чермен, борода велика. Платия на нем: кафтан лазорев настрафиль, нашивка шелк червъчат, кафтан бораней наголной да сермяга бела, пугвици на ней хамьянные» (М.И. Давыдов «Погонная память 1596 года…»).

Русский разбойник XVI в.
Как мы видим, банда Обоютина была интересна тем, что в нее входили люди самых разных социальных групп – дворяне, холопы, казаки, бродяги: «В составе шайки нашлось место самым разным представителям русского общества: двое дворян, казак, холоп, гулящий человек». «Два городовых сына боярских» – это те служилые и небедные люди, которые по какой-то причине оказались во главе шайки. Именно им, очевидно, принадлежали и оружие, и некоторые знания местности, и профессиональная инициатива, позволявшие бандитам долгое время разбойничать на дорогах.
Своим классовым разнообразием эта пестрая компания напоминает ночлежников из пьесы М. Горького «На дне», только тремя веками раньше. Это свидетельствует о том, что общие меркантильные интересы сближают даже тех, кто принадлежит к разным имущественным группам. Причем, судя по описанию внешнего вида и одежды, некоторые бандиты выглядели весьма ухоженно и небедно: их костюмы из сукна и шелка с красивыми узорами и вышивкой сохранились в описании Разбойной палаты. Едва ли этих господ можно было причислить к нуждающимся. Но, как известно, денег много не бывает.
Российский историк М.И. Давыдов в связи с этим делает вывод о том, что в конце XVI столетия нарастали кризисные явления и противоречия внутри служилого сословия, которые привели к «постепенной криминализации его низов, что наиболее полно проявило себя чуть позже, уже в эпоху Смуты» (М.И. Давыдов «Погонная память 1596 года…»).
Кем был сам Обоютин, установить достаточно трудно, тем более что даже его фамилия была скорее всего вымышленной: в документе перечисляются другие его имена – Бедарев, Кашира, Киндеев. В отличие от большинства главарей подобных банд, он канул в лету и, скорее всего, не понес наказания, так и оставшись в архивных описаниях того времени.
В погоне за Хлопком
Испытания только что наступившего XVII века оказались ничуть не легче тех, которые сопутствовали эпохе правления Ивана Грозного. В частности, трагически сложилась судьба рода Басмановых. Дед и отец – Алексей Данилович и Федор Алексеевич – сполна познали прихотей грозного царя: первый был казнен (или же убит собственным сыном по царскому приказу), второй сделался и царским миньоном, и отцеубийцей, и впоследствии – ссыльным до конца дней. Не повезло и старшему сыну Федора Басманова: Петр Басманов, обидевшись на Годунова за недостаточно высокий пост, перешел на сторону Лжедмитрия и в 1606 году был вместе с ним убит и предан позору. При этом он пережил своего младшего брата Ивана, которому еще относительно «повезло»: он погиб в 1603 году в честном бою и не был опозорен изменой, а значит – считался героем. В сущности, молодого боярина с оружием в любом случае ожидала гибель, оставалось лишь выбрать – какая именно: достойная или недостойная.
Не лучше жилось и крестьянству. В смутные времена холопов просто не кормили – выгоняли из надела на все четыре стороны, и приходилось самим искать пропитания. А где его искать?
Так, крестьяне начали сбиваться в банды и грабить исключительно ради имущества, вещей. Было бы чем поживиться – тогда и выживешь. Голод 1601—1603 годов запомнился надолго.

Воссстание Хлопка Косолапа
Действия банды так называемого Хлопка Косолапа трудно назвать восстанием: в ее набегах не было ничего политического. Хлопок просто собрал вокруг себя таких же голодных, решивших взять свою судьбу в собственные руки. Но территория действий (многочисленные уезды центральной, западной и южной России) и масштаб банды (более полутысячи человек) были столь велики, что на их поимку бросили правительственные войска. А так обычно поступают с восставшими, отсюда и появившееся определение – «восстание».
Во главе войска был Иван Басманов – внук казненного Алексея Даниловича, сын деморализованного Федора Алексеевича и младший брат все еще живого первого царского воеводы Петра Федоровича Басманова. В сентябре 1603 года Иван Федорович отправился ловить Хлопка Косолапа, но посланники Бориса Годунова, которых было не более сотни, угодили в засаду. В этом, кстати, не было ничего удивительного: банду Хлопка поддерживали крестьяне, и о выдвижении царского отряда разбойникам сообщили заранее.
Во время боя Иван Басманов был убит, а его войско сильно порублено. Однако уцелевшим стрельцам удалось все же справиться с подельниками Хлопка, а его самого взять в плен.
Самого Хлопка казнили, его приближенных отправили на каторгу, однако части отряда удалось бежать на юг, чтобы позднее присоединиться к отряду Болотникова.
Ограбление боярина Плясова
3 ноября 1630 года в имение боярина Федора Плясова, расположенное в Воронежском уезде, нагрянули шестеро разбойников. Они захватили в плен жену, дочь и зятя помещика и прижигали их огнем, дабы выпытать, где хранится добро. Им удалось добыть 50 рублей, 40 пудов меда, 4 пуда воска, 18 ульев с пчелами, несколько коробов одежды, две лошади и всякую хозяйственную утварь, вроде телеги, седел, котлов, самопалов, топоров.
Поскольку потерпевших оставили в живых, они смогли дать приметы преступников, а впоследствии опознали всех шестерых, оказавшихся атаманами и их крестьянами Воронежского уезда.
Поскольку следствие и в те времена велось весьма тщательно, показания одних потерпевших нельзя было принять за абсолютные доказательства вины, и губной староста Неустрой Григорьевич Тарарыков вынужден был опросить около трех с половиной сотен человек, живших поблизости.
Были задержаны атаман Богдан Тарасов по прозвищу Пробитый лоб и крестьяне Клеймен Саранча и Лука Чистяк по прозвищу Неделя. А дальше события приняли неожиданный оборот.
Воевода князь Львов был покровителем Тарасова и потребовал его освобождения под предлогом, что разбойничье прошлое Тарасова не доказано и показаний против него мало. И Тарасова отпустили на поруки, что представлялось спорным, поскольку против Тарасова было дано куда больше показаний, нежели зафиксировала Уставная книга Разбойного приказа.
Тут надо заметить, что в ход следствия достаточно часто вмешивались воеводы, и это не было чем-то незаконным: губной староста выступал в роли дознавателя и следователя, а воевода – в роли прокурора, осуществляющего надзор за следствием. И тот, и другой апеллировали к Разбойному приказу – то есть суду. И приходилось ждать, пока государь соизволит ответить. Естественно никакой суд и никакой государь преступника в глаза не видели и оправданий его не слышали, а приговор выносили на основании отчета старосты.
Однако со стороны Львова заступничество по отношению к Тарасову оказалось «медвежьей услугой». Пробитый лоб оправдал свое прозвище: на следующий день Тарасов был убит при загадочных обстоятельствах, а его найденное поблизости тело атаманы доставили в губную избу.
Тут можно выдвинуть две противоположные версии: одна – о «медвежьей услуге» со стороны Львова, который ни о чем таком не помышлял; другая – о том, что самому Львову было чего опасаться, особенно если Тарасов останется в губной избе и у него развяжется язык. Вторая выглядит более убедительной. А почему нет?
Разбойный поп
Через пять месяцев, в марте 1631 года, боярин Плясов отправился выпить пива к одному из воронежских священников. Во дворе у священника Плясов внезапно узнал одного из ограбивших его бандитов. Звали его Антон Рогач. Но почему-то священник остановил гостя, а потом вместе со своим зятем и наемным рабочим убеждали Плясова не сообщать о разбойнике властям. И мало того – хозяин-священник, гостеприимно пригласивший его попить пивка, так запугал Плясова, что тот вынужден был отдать ему 20 рублей, которые у него были при себе.
Это был уже второй грабеж, и помещик тут же пошел жаловаться. В результате зятя задержали, самого священника отпустили на поруки, а бандит Рогач скрылся.

Воевода нередко выступал в роли прокурора, осуществляющего надзор за следствием
Непонятно было, что делать дальше, и местные дознаватели ждали приказа из Москвы. В июле 1631 года была получена грамота, в которой предписывалось вызвать на допрос и пытать тех, кто уже был задержан ранее. Вызвали Чистяка по прозвищу Неделя. Он признался в преступлении и сообщил, что украденный мед они отвезли атаману Кодулину. Задержали Кодулина и посадили в тюрьму, но тому удалось сбежать при помощи стражников, среди которых были атаман И. Борода и его люди. В дальнейшем Кодулина так и не нашли, а его имущество конфисковали и продали, пополнив казну.
Вскоре поймали Антона Рогача, за которого так ратовал воронежский священник, пренебрегший гостеприимством. Но и Рогачу удалось сбежать. Еще одним виновником ограбления был назван атаман Тимофей Лебедянец, находившийся до этого на поруках. Священника, его зятя, их работника оштрафовали, у других конфисковали имущество.