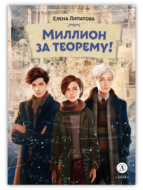Kitobni o'qish: «Лисиный перстенек»
© Латышкевич М. Ю., 2021
© Салтыков М. М., иллюстрации, 2021
© Рыбаков А., оформление серии, 2011
© Макет. АО «Издательство «Детская литература», 2021



О Конкурсе
Первый Конкурс Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков был объявлен в ноябре 2007 года по инициативе Российского Фонда Культуры и Совета по детской книге России. Тогда Конкурс задумывался как разовый проект, как подарок, приуроченный к 95-летию Сергея Михалкова и 40-летию возглавляемой им Российской национальной секции в Международном совете по детской книге. В качестве девиза была выбрана фраза классика: «Просто поговорим о жизни. Я расскажу тебе, что это такое». Сам Михалков стал почетным председателем жюри Конкурса, а возглавила работу жюри известная детская писательница Ирина Токмакова.
В августе 2009 года С. В. Михалков ушел из жизни. В память о нем было решено проводить конкурсы регулярно, что происходит до настоящего времени. Каждые два года жюри рассматривает от 300 до 600 рукописей. В 2009 году, на втором Конкурсе, был выбран и постоянный девиз. Им стало выражение Сергея Михалкова: «Сегодня – дети, завтра – народ».
В 2020 году подведены итоги уже седьмого Конкурса.
Отправить свою рукопись на Конкурс может любой совершеннолетний автор, пишущий для подростков на русском языке. Судят присланные произведения два состава жюри: взрослое и детское, состоящее из 12 подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Лауреатами становятся 13 авторов лучших работ. Три лауреата Конкурса получают денежную премию.
Эти рукописи можно смело назвать показателем современного литературного процесса в его подростковом «секторе». Их отличает актуальность и острота тем (отношения в семье, поиск своего места в жизни, проблемы школы и улицы, человечность и равнодушие взрослых и детей и многие другие), жизнеутверждающие развязки, поддержание традиционных культурных и семейных ценностей. Центральной проблемой многих произведений является нравственный облик современного подростка.
С 2014 года издательство «Детская литература» начало выпуск серии книг «Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова». В ней публикуются произведения, вошедшие в шорт-листы конкурсов. К началу 2021 года в серии уже издано более 50 книг. Выходят в свет повести, романы и стихи лауреатов седьмого Конкурса. Планируется издать в лауреатской серии книги-победители всех конкурсов. Эти книги помогут читателям-подросткам открыть для себя новых современных талантливых авторов.
Книги серии нашли живой читательский отклик. Ими интересуются как подростки, так и родители, библиотекари. В 2015 году издательство «Детская литература» стало победителем ежегодного конкурса ассоциации книгоиздателей «Лучшие книги года 2014» в номинации «Лучшая книга для детей и юношества» именно за эту серию.

Лисиный перстенек

Лисица захаживала раз в неделю, не меньше. Пробиралась каким-то чудом в обход лютых сторожевых псов, с легкостью преодолевая и частокол, и высокие стены, минуя наставленные – от отчаяния – ловушки. Смекалистая оказалась на диво. По следам на влажной земле понятно было, что перед очередным капканом ненадолго останавливалась, изучая, как бы посмеиваясь, а после вприпрыжку бежала вперед, так и не соблазнившись приманкой.
Лучшие матушкины куры-несушки и гуси, которых растили на продажу, интересовали хитрую заразу гораздо больше.
Птичник Котю́бы держали у себя на хуторе, поодаль от деревни, за оврагом, по которому бежал неглубокий ручей. И в глинистой почве хорошо были видны лисиные следы – уверенные оттиски когтистых лап шли туда и обратно. За оврагом проклятая лисица исчезала, даже с собаками отыскать след не получалось – словно в воздухе растворялась. Нора конечно же была где-то неподалеку, только вот выяснить, где устроилась рыжая злодейка, чтобы выкурить ее из окрестностей, не получалось.
Однажды утром, оценив новые убытки и выслушав слезные матушкины жалобы, Галья́ш дал себе твердое слово с изворотливой воровкой разобраться.
Хотя слово Гальяша Котюбы, по большому счету, стоило немного – гораздо меньше, чем лучшая матушкина гусыня, задушенная лисой. В окрестностях – что в родном Рада́стове, что по ближним хуторам, раскиданным среди холмов, даже и в Слободе у княжеского замка – говорили про Гальяша не особенно лестные вещи.
– Это радастовский Котюба-то? У которого две луны в небе?
Дело в том, что язык Гальяша жил как бы сам по себе и часто, будто независимо от владельца, поворачивался самым сумасбродным, невероятным образом. И Гальяш, округляя глаза, словно сам удивляясь тому, что говорит, болтал отчаянные глупости. То будто бы курица в их курятнике снесла яйцо из чистого золота, то будто бы, ночью выйдя до ветру, Гальяш собственными глазами видел сразу две луны над деревней. То будто в ближнем лесу повстречал Гальяш злобного огненного змея, так что едва-едва сумел сбежать. То якобы Гальяш не просто малец с дальнего хуторка, а украденный в нежном младенчестве княжич, младший сын славного Тама́ша Зва́ды, и скоро уж заявятся княжеские рыцари, чтобы вернуть его домой. Со всевозможными почестями, конечно.
Ясное дело, что ни золотых яиц, ни лун, ни огненных змеев, ни тем более княжеских рыцарей не то что не было, но и быть не могло. Люди слушали, посмеивались, после начали раздраженно отмахиваться, и в конце концов за Гальяшем, который все никак не мог справиться с собственным языком, прочно закрепилась слава местного шута. Проще сказать – дурачка. Может, ему простили бы, если бы врал так же, как все добрые люди, – понемногу, разумно, осторожно подправляя, чтобы похоже было на правду, чтобы было – вероятно. А тут – не дитя неразумное все-таки, а парень, которому давно тринадцать лет сравнялось, но несет такую дикую чушь, что и слушать стыдно.
При отце, при покойнике-то, Гальяш чуши порол куда меньше – может, потому, что за такое легко мог получить тумаков от старшего Котюбы, который и сам шутковать был не любитель, и другим не особенно позволял. А вот когда после тяжелой зимы они остались вдвоем с матушкой, тогда из Гальяша, совсем зеленого подростка, посыпалось как из мешка.
Матушка, госпожа Котюба, конечно, не очень-то этому обрадовалась. Народ на ярмарках, правда, охотно собирался вокруг их телеги, но совсем не для того, чтобы покупать товар из их птичника, а чтобы подстегнуть Гальяшика на новые байки. А тот только надувался, будто индюк, и щеки горели болезненными красными пятнами, будто от стыда за собственный бойкой язык. Но, стыдился или нет, Гальяш все равно плел и выдумывал без остановки и без толку, и чем дальше, тем больше.
Матушка Котюба каждый раз и ругалась, и плакала, и пыталась учить сынка розгами, и веником, и вообще всем, что попадалось под руку. Только разве ж его, болвана, научишь? Привычно поплакав, матушка лишь поджимала тонкие губы, когда покупатели, отдавая деньги за яйца, язвительно интересовались, как там сынок и не собирается ли в замок к знатным родителям переезжать.
Своего Гальяшика, каким бы ни был, матушка все-таки любила. Таким, как есть: худым до прозрачности, с блеклыми русыми волосами, со светлыми голубыми, как у нее самой, глазами, с острым птичьим носом. За последнее лето Гальяш сильно вытянулся и сам еще не совсем привык к новым рукам и ногам, поэтому немного путался в них, будто подросший щенок. Перед всегда озабоченной матерью, круглой и белой, с мелко дрожащими щеками, по которым рассыпались бледные веснушки, перед соседями, перед всеми едкими улыбками он всегда немного сутулился, втягивал голову в плечи, словно пытаясь казаться меньше, незначительнее. Плечи, однако, расправлялись, когда Гальяш врал – ведь врал-то он вдохновенно, самозабвенно, но с достоинством, хотя и всегда с тем своим удивленным, немного даже встревоженным выражением лица.
Плечи он расправлял и тогда, когда пытался играть на дудочке – в одиночестве, мрачно поглядывая на мирно пасущихся коз, спрятавшись подальше от неприязненных, насмешливых глаз да любопытных ушей. Только с дудочкой выходило не очень – врать получалось куда легче.
Как бы там ни было, Гальяш дал себе слово с лисой разобраться. И пусть во всей округе – от Радастова до самой Слободы – никто не дал бы за его слово и медного гроша, рассчитаться с рыжей злодейкой Гальяш намеревался вполне серьезно: «Матушке на шапку!»
Сначала наладился, как прежде, смастерить ловчую петлю, но лисица попалась слишком умная, поэтому ловушку надо было устроить похитрее. Гальяш думал добрых полдня, перебирая старые отцовские приспособы в темной кладовой. И додумался-таки.
Вытащил рыболовную сеть, с которой когда-то с отцом ходили на голавлей и красноперок, прикрепил над лисиной тропой к птичнику. Пустил тонкую веревку от сети, с увесистыми железными грузиками, через овраг и густые заросли боярышника, где надумал скрыться сам. И как только вершины ближней дубравы окрасились багровым закатом, Гальяш, прихватив старую отцовскую свитку1 и дубинку, засел в своем укрытии.
Тонкие серые трясогузки, завидев человека, разлетелись с криками. Но после – ведь человек сидел тихо и почти не шевелился – вернулись. Потряхивали длинными хвостиками, оставляли клинопись мелких следов у светлого ручья. Боярышник опустил ветви до самой земли, и из-за темных зубчатых листьев Гальяш, притаившись, видел то стайку желтогрудых синиц, то лоснящуюся спину ужа. Мелькнула, беззвучно скользя меж подкрашенных багрянцем теней, пугливая пятнистая косуля, осторожно спустилась к водопою.

Солнце садилось медленно, понемногу остывал небесный очаг. Ветер становился сильнее, нес холод и сырость. Августовская ночь обещала быть прохладной, и Гальяш кутался в родительскую свитку. Пахло прелым деревом, сырой землей и травой, и от этих густых запахов тяжелела голова. От отцовской свитки веяло чем-то полузабытым, полустертым – табаком, рекой. Примерно так пахло от отца, когда возвращался домой с уловом, и на рукавах этой самой свитки иногда поблескивали серебром налипшие чешуйки. Теплая тяжелая рука ложилась на Гальяшеву светлую голову, ласково трепала по волосам: «В следующий раз вдвоем пойдем, правда, Гальяшик?»
Голос вроде бы прозвучал рядом, и все было хорошо, и мать тогда еще совсем не плакала, и люди не тыкали пальцами, не разевали рты, высмеивая. Гальяш по-детски беспомощно потянулся мыслями к тому, былому и минувшему, полузабытому и невозвратному, и сам не заметил, как уснул, свернувшись в густой траве под пропахшей рекою свиткой. Снилось все то же: ладонь на голове, и голос, и чешуйки на рукаве, – будто застыло одно счастливое мгновение, будто и не было ничего ни до, ни после.
А проснулся в один момент, резко, будто с неизмеримой высоты ударился о землю. Вздрогнул, открыл глаза, чувствуя, как ломит все тело, как дрожь пробегает по коже от ночной сырости, как онемела правая рука. И в глазах почему-то слезы стоят.
Гальяш шевельнулся было, чувствуя, насколько неохотно откликается тело, но тут же опасливо замер. Сообразил-таки, что проснулся не сам по себе, но из-за голоса там, за стеной темной листвы, из-за неяркого, невиданного зеленоватого света, который лился оттуда же. И что-то было во всем этом: в августовской ночи, в шепоте ветра, в жутковатом свете, в этом вот тихом голосе. Что-то было такое, что заставило Гальяша не окликнуть прохожего, но задержать дыхание и внимательно слушать, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть.
Голос на тропе с полуслова вел какой-то разговор или, лучше сказать, гневную отповедь. Говорил так:
– …и всё из-за твоей жадности. Ну правда, как же не стыдно? Небо видит, вот так тебя и оставлю, чтобы знал, и сам будешь утром с человечьими сынами разбираться. И так тебе и надо, между прочим.
При упоминании о «человечьих сынах» Гальяш немного похолодел и едва сдержал вскрик. Так – это уж всем известно – говорят не люди, а те, другие, живущие под курганами. Те, что зимой собираются на ужасную свою охоту, Дикий Гон, и едут, оседлав снежные тучи. И чары плетут, и детей уводят в свои темные подземные залы, и танцуют в каменных кругах в полночь и в полдень, ради всяческих зловещих обрядов.
Сердце забилось чаще, и по спине пробежали мурашки, будто от холода. Гальяш медленно-медленно, стараясь не шуметь и чуть дыша, подполз ближе к трепетной стене листвы. О народе курганов он слышал много страшных баек, и вон даже матушка Котюба не раз и не два на дню сердито сулила ему стать добычей не-людей, когда слишком уж докучал и путался под ногами. Но своими глазами их видеть не доводилось. Старики говорили, будто под Ружи́цей эти, курганные, повывелись, отступили к своему Курганову Полю в северных лесах, за рекой Литбой. И переправа будто бы там заклятая, зачарованными туманами затянутая, так что никому из смертных ее не одолеть.
– Куры и гуси! – тем временем возмущенно продолжал голос. Был он звонкий, подростковый, и, несмотря на праведный гнев, слышалась в нем добродушная насмешка. – Кражи в курятнике! Умником таким себя, что ли, считаешь? Да? А вот человечьи сыны, значит, тебя умнее. Если поймали. Ну? Как тебе такое, умник?
В ответ – Гальяш мог бы поклясться, что именно в ответ, а не просто так, – жалобно затявкала лисица. Отвечала не громкими резкими вскриками, которыми лисы издали переговариваются в лесу, а глуховатым отрывистым бурчанием.
Бурчание было виноватое. Немножечко.
– Ага, – удовлетворенно сказал голос, выслушав, и немного смягчился. – Ну, если стыдно и больше не будешь, тогда другое дело.
«Разговаривает с лисицей, – озадаченно думал Гальяш. – Больше того: лисица-то отвечает. И будто бы стыдно ей, ко всему прочему». Как будто разговор Гальяша с разгневанной матушкой, когда та чихвостит его на все корки и вынуждает просить прощения за все на свете.
Страха сразу стало меньше: больно уж забавным было неожиданное сходство не-человека и сердитой матушки Котюбы. Гальяш аккуратно отодвинул тяжелую ветку, щурясь от зеленоватых бликов. Над ручьем, тихонько позвякивая, покачивались в воздухе зеленые огоньки, которые и рассыпа́ли непривычный тусклый свет. В этом свете хорошо видно было темную сеть и мех лисицы под ней. А рядом опустился на одно колено, наверное пытаясь вызволить хищника, строгий лисиный приятель.
Гальяшу он был виден не особенно хорошо, сбоку и немного сзади, в дрожащем блеске волшебных огней, от которых вокруг стало вдруг светло, будто днем. Только и можно было разобрать, что рыжие, как осенние листья, волосы, необузданными волнистыми прядями разметавшиеся по плечам. В правом ухе, немного заостренном, поблескивала яшмовой каплей небывалая длинная серьга. От яркой вышивки на острых рукавах у Гальяша прямо-таки зарябило в глазах. В свете волшебных огоньков вышитые рябиновые грозди оживали и плыли по темному бархату, то оборачиваясь белыми цветами, то снова огненно вспыхивая ягодами.

Лиса опять затявкала – громче и звонче, как бы с нетерпением.
– …ну уж, знаешь, как могу! – сердито отрезал лисиный приятель, который старательно возился с сетью: острые рукава его камзола так и летали. И почти сразу отдернул руку и тихонько зашипел, осекшись на полуслове, будто обжегся.
– Ж-железо тут, ну да, – немного сдавленно ответил не-человек на обеспокоенное тявканье. – А все ты винова… Что ты сказал?..
Яшмовая серьга мигнула – это лисиный приятель резко обернулся. Смотрел сейчас на темные заросли тревожными глазами, которые мягко светились зеленью на манер волшебных огоньков. Гальяш сейчас видел ясно его всего, даже настороженную складку над темной бровью. Голос не врал: лисиный приятель и в самом деле выглядел мальчиком примерно того же возраста, что и сам Гальяш, а может, и младше немного.
Впрочем, тут же добавил про себя Гальяш, это если глаза в расчет не брать. Глаза у него, пусть и большие, опушенные ресницами и по-детски удивленные, совсем не мальчишеские. Странные, давние, древние – будто смотрит издавна и издалека.
Глаза эти, поблуждав по зарослям, уверенно уперлись в Гальяша и будто подцепили крючком, нанизали на тонкую нить. Нить натянулась, как рыболовная леска, натянулась, дернула… и Гальяш, будто в помрачении, в беспамятстве через голову покатился вперед, вывалился из кустарника боярышника на сырое дно оврага. Поднимался медленно, встряхивая головой, которая все еще гудела от прикосновения чужой и чуждой воли, и слышал – глухо, как из-под воды, – встревоженное лисье тявканье, которое делалось громче и громче. Громко, перекрикивая друг друга, звенели волшебные огни – тоже, наверное, тревожились.
– Человек! – почти беззвучно ахнул лисиный приятель, всем телом испуганно подавшись назад.
Гальяш не столько услышал этот вздох, сколько прочитал по губам и так же опасливо отступил на несколько шагов. Он бы, может, и сбежал, малодушно бросив и отцовскую свитку, и свою неудачную затею с ловушкой для проклятой лисицы, да ноги беспомощно подкашивались.
Оставалось только вжиматься спиной в глинистый склон оврага.
Лисиный приятель, судя по всему, тоже подумывал о бегстве, но, как и Гальяш, остался на месте. Может, не хотел бросать свою шкодливую лисицу, а может, растерялся не меньше Гальяша. Огоньки дрожали, сбившись в кучку, рассыпая по воде и сырой земле колючие зеленые искры. Пленная лисица фыркала почти по-кошачьи, плевалась под сеткой и сердито вскрикивала.
– Да знаю, знаю! – шикнул на нее лисиный приятель.
Кашлянул, заметно смутившись, затем посмотрел на Гальяша своими жуткими глазами. Те, правда, больше не цеплялись за самую душу, светились достаточно мирно, но Гальяш на всякий случай все-таки плотнее прижался спиной к земляной стене овражка.
– У нас тут… небольшая неприятность, че… человечье дитя, – заговорил лисиный приятель, неуверенно переминаясь с ноги на ногу.
Лисица из-под сети добавила несколько собственных возмущенных слов, и не-человек смешно наморщил нос. Но продолжал:
– Может быть… у тебя получится помочь? Там… железо.
Лисиный приятель доверительно показал узкую белую ладонь – на коже краснел, по краям прихваченный чернотой, свежий ожог.
– Так это, значит, твоя лиса? – сипло спросил Гальяш.
Не-человек с удивлением приподнял брови, вопросительно взглянул на пленного зверя, потом опять на Гальяша.
– А! – воскликнул, сообразив-таки. – Совсем нет. Это – мой друг.
– Лиса-то?.. – недоверчиво уточнил Гальяш, скрестив руки на груди.
Волшебные огни, как ему показалось, зазвенели с насмешкой – мол, что за дурачок, не понимает самых очевидных вещей. Гальяш счел нужным оскорбиться и обиженно засопел.
– Ну да, – покивал лисиный приятель. – Так поможешь? По… пожалуйста!
Лисица под сеткой заурчала жалобно, заворочалась, зафыркала. Гальяш потянул носом, посмотрел на рыжую пленницу, на не-человека. Потом, присев на корточки, приподнял увесистую, с железными грузиками сеть и резко отбросил в сторону.
Сразу же с опаской отодвинулся: знал от отца, что лесной зверь в ловушке от отчаяния бесится и может броситься. Лисица и вправду злобно оскалила белые зубы – сама удивительно громадная, с яркими разумными глазами, – и Гальяш, невольно подавшись назад, тяжело сел на сырую глину возле ручья. А лиса пробежала мимо, с урчанием потерлась о ноги своего приятеля, распушив хвост совсем уж на кошачий манер.
– Ох, вот спасибо! – радостно отозвался не-человек, подхватывая лисицу на руки.
Та, дружелюбно фыркая, с рук вскарабкалась приятелю на плечи и улеглась там, вяло помахивая хвостом, – настоящий живой воротник. Любовно покусывая не-человека за ухо, подозрительно косила на Гальяша внимательным глазом. И время от времени показывала острые зубы – видно, чтобы человечий сын не расслаблялся.
– А ты… значит, отсюда? – кашлянув, вежливо поинтересовался не-человек, пока Гальяш с кряхтением поднимался на ноги и отряхивал штаны.
Не-человек вопросительно осматривал темные склоны оврага, заросли да сырой валежник и, похоже, наивно полагал, будто Гальяш прямо в овраге и живет. Может, разве что на ночь под какой-нибудь пень забивается.
– С хутора я, – кривенько улыбнувшись, сказал Гальяш и неопределенно махнул рукой туда, где, по его расчетам, должен был быть родительский дом. – Там птичник у нас и такое все.
– Птичник?.. – переспросил не-человек. Еще раз взглянул на сеть, потом на Гальяша и снова на сеть.
Лисица у него на плечах возмущенно зафырка-ла, явно жалуясь и Гальяша всячески очерняя, но не-человек от нее нетерпеливо отмахнулся.
Гальяш скрестил руки на груди. Лисица холодно взглянула на него и – тут Гальяш готов был голову отдать под заклад – мстительно показала язык.
– Так это он у вас… воровал?..
– Ну… да, – кивнул Гальяш.
Не-человек нахмурился. Лиса у него на плечах взвизгнула тоненько, будто щенок, и спрятала нос в рыжих кудрях.
– Ему стыдно, – объяснил не-человек. – Правда. По крайней мере, сейчас. Так, Чур? И он, конечно, больше не будет. Так? Ну?
Лисица – или, вернее, лис, – все еще пряча нос в волосах приятеля, глухо тявкнула – наверное, и правда обещая исправиться. Гальяш почесал в затылке. Вспомнил, что вроде бы твердо решил: у матери утром будет шкурка на новую шапку. А тут – такое.
Впрочем, разве можно делать шапки из друзей, пусть даже и чужих?
– Может, я могу… как-нибудь… возместить ущерб? – неуверенно спросил не-человек.
Гальяш озадаченно посмотрел на него и снова почесал в затылке. Матушка, госпожа Котюба, ясное дело, тут же подсчитала бы, сколько гусей да курочек утащил проклятущий лис и сколько эти гуси и куры стоили бы в людный день на ярмарке. Однако было как-то неудобно заикаться о деньгах здесь, у волшебных живых огней, рядом с лисом, который понимает человеческую (вернее, не-человеческую) речь, рядом с этим вот невыясненным лисиным приятелем. Гальяшу вообще казалось, что он по-прежнему мирно спит под развесистыми ветвями темного боярышника. Просто спит и во сне видит все это, странное, небывалое, невозможное. А во сне о деньгах, ясное дело, не разговаривают.
– Да… ладно, – сказал Гальяш, прочистив горло, и стал сосредоточенно ковырять носком сапога влажную глинистую почву. – Что там… Пусть. Если он больше не будет…
Дальше Гальяш довольно беспомощно застрял в словах, будто в той глине, но не-человек понял, и лис тоже смекнул – сразу высунул хитрый нос, заговорил, забурчал по-своему, хрипло и уютно.

– Спасибо, человечье дитя, – сказал лисиный приятель.
Гальяш недоверчиво глянул на него исподлобья, но тот улыбался вполне искренне, и даже лис его скалился так, будто улыбался.
– Только… вот что… – Не-человек накрутил на тонкий палец прядь медных волос. – Скверно будет просто воспользоваться добротой. Да?
Он снял с узорчатого пояска небольшой, с собственную ладонь длиною, ножик – Гальяш таких и не видывал никогда: не из металла сделанный, а полностью вырезанный из желтоватой кости. Костяное лезвие прошлось по медной пряди, отсекая, и на пальце у не-человека осталось кольцо собственных волос, поблескивающее чистой медью в зеленоватом свете волшебных огней.
– Держи-ка! – Лисиный приятель, вернув нож на место, стянул медное кольцо с руки и резко бросил Гальяшу.
Тот бездумно подставил ладони и поймал – но не колечко мягких волос, а налитый вещественной тяжестью меди перстенек с желтоватым камешком. Пораженный, Гальяш поднес подарок к глазам и увидел на металле темные черточки, которые складывались в маленькую фигурку лиса.
– Ч-чего?.. – шепотом удивился Гальяш, заметив, как мелко перебирает ножками изображенный – схваченный в движении, на лету – лис. – Это что?
– Считай, благословение, – весело пояснил лисиный приятель. – Как понадобится помощь, приходи к стоячим камням, что на холме за дубравой. Поверни перстенек трижды по солнцу и… позови меня.
И, протянув узкую ладонь, представился:
– Я И́рбен. А мохнатый негодник – Чур.
«Мохнатый негодник» язвительно оскалился и зафыркал – мол, еще большой вопрос, кто здесь негодник. Гальяш, озадаченный, ошеломленный, все еще до конца не уверенный, что не спит, руку Ирбена слегка потряс в своей. Рука была, вопреки ожиданиям, живая и теплая.
– Га… Гальяш, – просипел младший Котюба.
Медный перстенек, зажатый в левом кулаке, казалось, обжигал кожу. И в голове странным образом перемешивалось все: матушкины гусыни, лисы, темная листва боярышника, слабый табачный запах от отцовской свитки, волшебные огни, рябиновая вышивка, которая оживала на рукавах не-человека.
За оврагом, за дубравой вдруг тонко и печально, будто большая ночная птица, запела свирель. Раз, другой, третий, тщательно выпевая один мотив, одни и те же слова. Или слово. А может, имя? Ирбен шевельнулся, настороженно прислушиваясь к этому отдаленному зову, и сверкнула яшмовая серьга, и встрепенулись, озабоченно зашептали, чувствуя его беспокойство, волшебные огни.
– Надо идти, – немного разочарованно сказал лисиный приятель, когда зов свирели за дубравой утих. – Если старшие хватятся, будет… нехорошо.
И, заметив на лице Гальяша безмолвный вопрос, сделал большие глаза и объяснил громким шепотом, как обычный деревенский парнишка, а не жутковатый выходец из-под кургана:
– Попадет же!..
Гальяш, которому от пани Котюбы влетало часто и по самым разным поводам, сразу проникся сочувствием. Ирбен между тем тоненько свистнул, подзывая к себе огоньки. Те, толкаясь и перемигиваясь, ринулись к нему с радостным перезвоном, закружили над растрепанной рыжей головой, над плечами. Один сунулся было чуть ли не в нос Чуру – и тот сердито зафыркал и громко чихнул, так что наглый огонек, испуганно вспыхнув, отлетел в сторону.
Ирбен кивнул, тепло улыбаясь, взмахнул рукой – и вдруг в один миг сделался языками белого огня, вырос до самых звезд, осветив, как молния, весь темный овраг. Гальяш ахнул, отступил, прикрывая глаза рукавом, – но яркий свет опал так же мгновенно, как вспыхнул. Ветер, унося за собой зеленые искры, побежал по воде. И исчез, прошептав что-то в дубовых ветвях на дальнем холме.

В темном овраге, над которым куполом шелкового шатра раскинулось звездное августовское небо, Гальяш сейчас остался один.
Глаза его успели привыкнуть к волшебному свету, поэтому в темноте какое-то время пришлось идти на ощупь, придерживаясь одной рукой за скользкий склон оврага. Ручей лениво плескался рядом, вздыхал и бормотал сонно, и Гальяш вздыхал тоже. Страшновато было: а вдруг сейчас проснешься под отцовской свиткой? Или попробуешь разжать кулак – а там ничего и нет? И ничего, получается, не было – ни курганных чар, ни чудес. Всего лишь дурной сон, самое то для очередной глупой байки на ярмарке.
Впрочем, тяжесть медного перстенька была самой настоящей, и это немного утешало. Гальяш, пробравшись домой, предусмотрительно снял грязные сапоги на крыльце, чтобы не топотать. Потом прокрался в светлицу и упал на кровать в своем уголке. Так, не раздеваясь, скрутившись в клубочек, и уснул, сжимая левый кулак.
Уснул настолько крепко, что матушка не могла его добудиться с утра. А когда около полудня Гальяш проснулся-таки, растрепанный, в мятой грязной одежде, да завел речь о вчерашнем, мать и вовсе обозлилась. Вообще говоря, она не была злой женщиной и сына любила, несмотря ни на что. Но тем утром ей пришлось одной поспевать по хозяйству, а потом еще разносить по соседям кое-какие товары на продажу. И поэтому из крайне сбивчивого и восторженного рассказа Гальяша госпожа Котюба поняла только, что лисица так и не поймана, хотя сынок вчера чуть не всеми богами клялся, будто изобрел способ избавиться от хищницы. Еще ясно было, что Гальяшик ночью таскался невесть где, потерял вполне добротную отцову свитку и весь, поросенок, вывозился в глине, от сапог до рубашки.

Поэтому Гальяшу снова попало по первое число, на этот раз, для разнообразия, – за чистую правду. Гальяш, однако, перенес матушкину карающую длань довольно мужественно, рассудив, что все-таки – немножечко – виноват.
И пока мать, которая, немного устав ругаться, отправила его мести двор, чистить курятник и полоть огород, у Гальяша было предостаточно времени, чтобы осмыслить все, что произошло. Кольцо он спрятал за пазуху и иногда, приостановив работу, потихоньку проверял, на месте ли волшебный подарок.
Перстенек, пусть и явно волшебный, никуда не исчезал, сверкал веселой медью, правда, лис на нем при дневном свете не двигался, как Гальяш ни присматривался, как ни поворачивал перстенек в пальцах. Госпожа Котюба, по-прежнему сердитая, иногда приближалась, придерживая клетчатую юбку, поглядывала зоркими глазами, как там сынок справляется. Тогда Гальяш торопливо прятал свое сокровище и с утроенным рвением принимался за работу.
На закате материнское сердце немного смягчилось, и госпожа Котюба позвала сына домой – подкрепиться и отдохнуть. Там, за молочной похлебкой, правда, не удержалась, заметила не без ехидства: быстро, мол, стемнело. Стало быть, скоро снова проклятая лиса на птичьем дворе появится, снова утащит птицу, и не лишь бы какую, а пожирнее.
– И выбирает же! – возмущалась госпожа Котюба. – Словно замковый кастелян: так и смотрит, чтобы лучшее ухватить. Скоро уж и продать нечего будет!..
Тут матушка, конечно, немного кривила душой: ее птичник, даже с учетом потерь от частых лисиных набегов, был совсем не в таком плачевном состоянии. Однако ей приятно было разбередить свою рану, особенно сейчас, перед непутевым сынком. Госпожа Котюба даже промокнула глаза носовым платком – так разжалобила сама себя.
– Да не утащит он, мне обещали! – уверенно, но немного туманно отвечал непутевый сынок с набитым ртом.
Госпожа Котюба только отмахнулась и, подперев голову рукой, начала скорбно перечислять потери в птичнике, попутно прикидывая, сколько денег могла бы получить, если бы продала всех передавленных лисицей птиц. Хотя бы тому же разборчивому замковому кастеляну – пусть бы их княжеские милости лучше полакомились, чем лиса.
Прибыль – воображаемая, по крайней мере, – получалась прямо-таки неслыханная, и под конец расстроенная госпожа Котюба расплакалась, спрятав круглое лицо в ладонях. Ведь, по ее расчетам, выходило так: если б только удалось продать битую птицу в замок, да еще угадать с продажей под шумное пиршество их княжеских милостей, то можно было бы выручить чуть не столько же, сколько стоил весь птичник, вместе с самыми лучшими несушками и курятником.
Bepul matn qismi tugad.