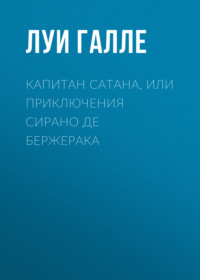Kitobni o'qish: «Капитан Сатана, или Приключения Сирано де Бержерака»
Часть первая
Роковой документ
I
В поздний октябрьский вечер 1651 года из ворот замка в Перигоре выехал всадник, направляясь по дордонской дороге. Порывистый ветер обдавал его своим холодным дыханием, но он, прямой и неподвижный, как рыцарь, закованный в латы, невозмутимо продолжал свой путь. Появление этого одинокого путешественника в такой поздний час, притом на безлюдной дороге, невольно вызывало опасения, уж не был ли он из тех искателей приключений, что живут за счет чужих кошельков.
Однако ничто в его поведении не указывало на принадлежность к столь благородной профессии: всадник спокойно свернул с большой дороги и направился по узкой тропинке, пролегавшей между двумя холмами, покрытыми вереском, дроком.
Медленно двигаясь в этом тесном ущелье, он время от времени лениво сбивал концом хлыста нависшие над его головой полуобнаженные ветки деревьев, окаймлявших тропинку, и вдруг, невыносимо фальшивя, затянул:
И при бедности здоровье
Высшее богатство,
Без здоровья ж и без денег
Бедность – хуже рабства!
Мне чердак чертогом служит,
Сутки круглые плащ греет,
И бедняк ничуть не тужит,
Ложе на досках имея…
Между тем ущелье кончилось, и всадник очутился на берегу реки, через которую был устроен перевоз, как раз против селения Сен-Сернин, расположенного на противоположном берегу.
В это время из-за гарданских холмов показалась луна. При ее свете наш путешественник заметил в нескольких шагах впереди себя какую-то неподвижную фигуру с мушкетом в руке. Однако эта подозрительная встреча, по-видимому, нисколько не обеспокоила всадника, невозмутимо продолжавшего свой путь.
Вдруг незнакомец быстро выскочил вперед и со словами: «Милостыньку, Христа ради, господин!» – загородил ему дорогу.
– Э, друг мой, мне кажется, ты слишком тяжело снаряжен для простого нищего! – проговорил всадник, иронически похлопывая кончиком хлыста по блестящему дулу мушкета.
– Дороги так опасны, барон! – пробормотал тот в свое оправдание.
– Ба, воображаю, как ты много потеряешь!
– Положим… – проговорил бродяга. – Милостыньку, господин! – снова повторил он, на этот раз уже с явной угрозой.
– Черт возьми, – воскликнул всадник, – однако ты, парень, просишь милостыни, словно требуешь – «кошелек или жизнь»!
– А это как вам будет угодно! – уже грубо проговорил нищий, быстро приставляя дуло мушкета к груди незнакомца.
– Ого, какой убедительный довод! Только ты, парень, не торопись! – хладнокровно отвечал всадник, моментально отталкивая оружие от своей груди и быстро соскакивая на землю.
В следующее мгновение нищий почувствовал, как шея его очутилась в сильных руках незнакомца; еще минута – и ослабевшие руки бродяги бессильно опустили мушкет. Подхватив его, всадник хладнокровно взял свой хлыст и, осыпая частыми ударами злосчастного нищего, наставительно проговорил ему:
– Ну, благодари черта, своего патрона, что на этот раз ты так легко отделался, парень, а то, будь я сегодня в плохом настроении, не миновать тебе фужерольской виселицы или просто хорошего удара прикладом. Всмотрись же теперь хорошенько, дуралей, и помни – в другой раз не попадайся мне на глаза. А то несдобровать тебе! Вот тебе мой добрый совет! – закончил всадник, выпуская, наконец, из своих рук избитого нищего.
Стоявший теперь на коленях бродяга поднял свои черные, дышавшие ненавистью глаза на иронически улыбавшееся лицо незнакомца и глухо проговорил:
– Буду век помнить вас, господин, только пустите меня!
При этих словах, сказанных каким-то странным тоном, путешественник пристально взглянул, пользуясь светом луны, в исказившееся от боли и злобы лицо бродяги, затем, пока тот, почесываясь, приподнимался с земли, схватил его мушкет за дуло и, повертев несколько раз над головой, с силой швырнул его в волны Дордоны. После этого, не обращая больше внимания на нищего, он быстро вскочил на лошадь и направился к перевозу, на котором и переправился на другой берег.
Через десять минут он был уже на улице селения Сен-Сернин. Проехав по ней несколько шагов, всадник остановился и, приподнявшись на стременах, окинул пытливым взглядом стоявшие перед ним домики. В одном из них, несомненно, лучшем во всем селении, в окнах весело светился огонек и струйка аппетитно-пахучего дыма невольно вызвала улыбку удовольствия у проголодавшегося путешественника.
Дом этот, так приветливо манивший издали, принадлежал Жаку Лонгепе1. Но человек, носивший это воинственное имя, не имел ничего общего с профессией своих предков: это был просто кюре в Сен-Сернине. Правда, из-под его черной сатиновой рясы резко вырисовывались атлетические формы, а широкое мясистое лицо, обрамленное черной бородкой, выражало энергию и самоуверенность, но в общем это было кроткое и, как дитя, простодушное существо.
В то время как всадник медленно приближался на пароме к берегу, кюре суетился у себя на кухне, то и дело торопя экономку, хлопотавшую у очага.
– Жанна, помилосердствуйте! Ведь уже восемь часов, а у вас еще не готово! Вот увидите, что ваша щука будет сырая. Подумайте, ведь через какие-нибудь четверть часа Савиньян, наверное, будет здесь!
– Ладно, ладно, обождет немного, невелика важность! – бормотала раздраженная кухарка. – Все равно, пока все не будет готово, я не подам ничего!
Чувствуя свое бессилие здесь, священник медленно вышел из кухни в столовую. Стол был уже накрыт, а рядом, на буфете, возвышался целый ряд покрытых мохом бутылок. Не хватало лишь дорогого гостя. Часы пробили уже четверть девятого, вдруг в передней раздался звонок.
– Это он! – вскрикнул кюре, настежь растворяя двери и бросаясь в объятия гостя.
– Твой ужин, дружище, как нельзя более кстати в этакую адскую погоду! – проговорил гость, целуясь с хозяином и входя в комнату. – О, я слышу запах трюфелей и дичи!.. Чертовски приятная штука, я уже заранее предвкушаю райское блаженство!
– Ну, присаживайся, дорогой Савиньян! – проговорил кюре, снимая с него плащ и развешивая его перед камином. Приказав затем Жанне подавать, он уселся со своим гостем у стола.
Весело болтая, друзья принялись за вкусные яства, приготовленные опытной рукой Жанны. Жак и Савиньян были лишь молочные братья, но это не мешало им быть связанными узами настоящей братской любви.
– А ведь я приехал не только поужинать, – у меня есть к тебе важное дело! – проговорил вдруг приезжий, принимаясь за паштет, покрытый толстым слоем перигорских трюфелей.
– В чем же дело? – спросил кюре. – По твоему письму я уже сразу догадался, что, вероятно, что-нибудь случилось! – добавил он, с любопытством глядя на молочного брата.
– Потом поговорим об этом, а теперь подвинь-ка мне, пожалуйста, эту достопочтенную щуку!
– Это триумф Жанны! И в самом деле, щука – на редкость!
– Что ты?! Да разве это какая-нибудь сказочная рыба?
– Нет, но эта восхитительная щука прислана мне в честь твоего приезда аббатом Бурдейлемом из озера Фонта.
– Восхитительно, очаровательно! Откуда бы она ни была, но она великолепна, особенно под этим соусом из шампиньонов с белым вином!
Вскоре веселая трапеза была кончена. Жанна убрала со стола и поставила перед друзьями бутылку арманьякского ликера и две крошечные рюмочки.
Отпив немного ликера, Савиньян облокотился на стол и, устремив глаза на друга, проговорил серьезным тоном:
– Жак, поболтаем теперь о деле!
II
Кюре, также придав своему лицу серьезное выражение, приготовился внимательно слушать.
– Жак, некогда ты поклялся мне, что рад был бы пожертвовать всей своей жизнью ради меня! – начал незнакомец.
– Да, и готов сейчас же подтвердить эту клятву! – ответил кюре, пожимая руку друга.
– Ну и ручка! – пробормотал Савиньян, изящным жестом встряхивая побелевшие пальцы. – Из нее трудновато будет вырвать что-нибудь, раз она взялась охранять!
– А что, разве ты хочешь дать мне что-нибудь на хранение?
– Да, и ты должен, в случае надобности, как дракон защитить этот драгоценный документ!
Глаза священника заблестели и, указывая рукой на висевшую в углу рапиру, он просто проговорил:
– Вот она, память отцов! Я еще не разучился владеть ею!
– Еще бы; я еще до сих пор помню, как во время детских игр ты задавал мне хорошие потасовки вот этой самой, рапирой! Какая досада, право, что ты не солдат! – с жаром воскликнул Савиньян.
– Господь призвал меня к другому! – ответил кюре, подавляя овладевшее им волнение. – Ну, продолжай, Савиньян! – добавил он после небольшой паузы.
– Жак, сначала мне не хотелось поручать тебе этого опасного дела, достойного воина, а не пастыря. Но где мне, однако, найти такую преданную, неподкупную душу, такое мужественное, благонадежное сердце?! Да, где найти человека, который, не рассуждая и не выспрашивая, взял бы на себя эту обязанность? И вот я пришел к тебе за помощью!
– И прекрасно сделал, Савиньян!
– Так слушай же: дело, которое я тебе вверяю, мне поручено другим лицом, и я поклялся ему добиться благоприятного результата. Тебе ведь хорошо известна моя жизнь, полная всевозможных приключений и случайных опасностей. Не сегодня-завтра я могу пасть от шальной пули или удачный удар сабли отомстит мне, наконец, за все те удары, какие я так щедро расточал другим!
– Да простит их тебе Господь! – набожно проговорил кюре.
– Итак, с моей смертью документ, взятый мною на сохранение, попадет в чужие руки, а еще хуже – в руки лиц, заинтересованных в этом деле. Вот чего я боюсь и чего ты поможешь мне избежать благодаря своему уму и силе Возьми их, – и я могу спокойно умереть, зная, что ты выручишь меня!
– Уж не завещание ли свое ты думаешь дать мне на хранение? – спросил кюре, удивленный таким торжественным вступлением.
– Мое завещание?! Какое, к черту, завещание может оставлять человек, который, подобно философу Биасу, все имущество носит на себе? – с улыбкой возразил Савиньян.
– Что же тогда?
– Ведь я же говорил тебе: я поручаю тебе то, что мне вверено!
Жак с недоумением и любопытством взглянул на молочного брата.
Савиньян молча вынул из кармана бумажный пакет, перевязанный зеленым шелковым шнурком и закрепленный еще совсем свежей печатью Не было ни надписи, ни герба. Лишь на печати на гладком фоне, усеянном звездами, затейливо переплетаясь, красовались две буквы: С и Б.
– Таким образом, вид таинственного пакета ничего не объяснил священнику. Между тем Савиньян приблизил к глазам его пакет и, похлопывая пальцем по печати, серьезно проговорил:
– Здесь хранится судьба человека, участь целой семьи, решение тайны жизни и смерти!
– Давай! – решительно проговорил кюре, протягивая руку.
– Теперь, милый Жак, – сказал Савиньян, отдавая документ и вставая из-за стола, – конверт этот ты будешь хранить до тех пор, пока я сам не возьму его у тебя или пока ты не убедишься в моей смерти!
– Ну а в последнем случае?
– Тогда ты взломаешь печать и найдешь там мою собственноручную рукопись, в которой изложены дальнейшие указания относительно документа!
– Какие же указания?
– Такие, что, следуя им, ты исполнишь точно и последовательно все то, что я обещал. Как видишь, пока я обретаюсь в этой юдоли плача и скрежета зубов, твоя роль дракона не особенно трудна!
– Правда!
– Но ты не унывай, тебе предстоит еще довольно приятная обязанность подобрать мои бренные останки, когда какой-нибудь молодчик всадит мне примерно дюймов шесть железа в грудь и оставит валяться где-нибудь на поле!
– Ну, думаю, не родился еще такой молодчик! – сказал кюре успокоительно.
– Как знать?! Во всяком случае, меры предосторожности приняты, и я спокоен! – прибавил Савиньян, выпивая свою рюмку с видом человека, довольного собой.
– Савиньян, позволь задать тебе еще один вопрос, – проговорил кюре. – Мне кажется, в подобном деле лишний вопрос не повредит. Если бы, например, от твоего имени явился ко мне кто-нибудь за этим документом, то как мне поступить тогда?
– Будь то сам папа или сам король, ты расквитаешься с ним, как с обманщиком!
– Ну а если он употребит в дело силу?
– Тогда ты прикончишь его! – мрачно проговорил Савиньян, указывая глазами на рапиру, висевшую в углу.
Не нужно думать, будто эти грозные слова смутили почтенного пастыря: он жил в ту эпоху, когда требник и сабля мирно покоились у изголовья духовных лиц.
Жак молча пожал руку молочного брата, как бы скрепляя их дружеский союз, и Савиньян понял, что ему можно спокойно ехать.
Часы на башне пробили одиннадцать. Савиньян взялся за свой плащ.
– Ты уже покидаешь меня?
– Да!
– Куда ты теперь?
– Туда! – ответил Савиньян, указывая рукой в окно, где на противоположном берегу Дордоны на совершенно ясном небе рельефно вырисовывалась темная масса фужерольского замка.
III
Когда топот лошадиных копыт совершенно стих, кюре молча вернулся в свою комнату и направился к кровати, где у изголовья стоял маленький дубовый шкаф. Спрятав в него пакет и тщательно закрыв тяжелые двери, он благоговейно преклонил перед образом колена, весь погрузившись в горячую молитву за дорогого друга и брата. Добрый священник молил Всевышнего защитить его брата от опасностей, и без того часто встречавшихся на его пути, а теперь и подавно, благодаря таинственному делу, ради которого Савиньян только что приезжал к нему.
Между тем наш путешественник быстро приближался к цели своего путешествия. Пробило двенадцать часов, когда он очутился у ворот фужерольского замка, но, несмотря на такое позднее время, там еще не спали: везде мелькали огни, прислуга сновала вдоль длинных коридоров, о чем-то таинственно перешептываясь и группируясь у дверей, ведущих в барские комнаты.
Въехав в большой двор и бросив поводья подбежавшему конюху, Савиньян быстро направился к лестнице, ведущей на первый этаж, и здесь столкнулся с управляющим поместьем.
– Ну что, как дела, Капре? – спросил он.
– Эх, сударь, скверно, очень скверно! – грустно вздыхая, ответил старик.
Не слушая дальше, Савиньян, шагая через несколько ступенек, вбежал по лестнице и очутился в комнате, переполненной народом. Посередине возвышалась огромная кровать из черного дуба, полузакрытая шелковым шитым пологом; на ней теперь умирал старый граф Раймонд де Лембра, владелец Гардона и Фужероля.
Бескровное, желтое лицо графа покоилось на белоснежных подушках; худые, словно окоченевшие руки сплелись на впалой груди; посиневшие веки полузакрывали потухшие глаза, и только вздрагивавшие синие губы указывали на то, что это изможденное временем и болезнью тело еще дышит, еще не замерло навеки… У ног умирающего замковый капеллан читал отходную, а рядом стоял статный молодой человек высокого роста с гордым выражением красивого лица.
В этих глазах, по временам останавливавшихся то на лице умирающего, то на столпившихся у кровати – молящихся слугах, было что-то холодное, острое. В резко очерченных углах губ, в подвижных, часто хмурившихся бровях выражалась непоколебимая воля и властолюбие. Ни одной мягкой черты, какими так богато было лицо старика, нельзя было заметить в красивом лице его сына и наследника.
Увидав вновь прибывшего, молодой человек быстро направился к Савиньяну.
– Мой отец давно уже ждет вас, дорогой Савиньян! – проговорил он вполголоса.
– Я принужден был отлучиться на несколько часов из Фужероля! Может ли он выслушать меня теперь?
– Да, кажется, хотя его положение сильно ухудшилось!
– В таком случае, прошу вас, Роланд, сообщить ему о моем приходе!
Подойдя к кровати отца, Роланд де Лембра наклонился над ним и тихо произнес имя Савиньяна. Старик быстро открыл глаза и еле заметным жестом подозвал к себе прибывшего.
Савиньян, подойдя к кровати, молча остановился здесь.
Взяв его за руку, умирающий одно мгновение молча смотрел вперед, как бы собираясь с силами для разговора, но, заметив устремленные на него глаза сына, еле слышно проговорил:
– Отойди на минуту, Роланд, и вы тоже, отец мой! – обратился он к священнику.
Густо покраснев и еле сдерживая досаду, граф удалился со священником в глубь комнаты, оставив умирающего наедине с Савиньяном.
– Слушай! – прошептал старик.
Молодой человек низко наклонился над кроватью, так что синие губы графа касались его уха. О чем говорил граф, какие тайны сообщал он своему молодому, другу, этого никто не мог знать или слышать. Только когда Савиньян выпрямился, все могли заметить крупные слезы, блестевшие в потухающих глазах старика.
– Неужели же он будет моим наследником? – прошептал он, грустно глядя на сына. Подняв затем отяжелевшую седую голову и указывая глазами на сына, он слабо прошептал: «Заботься о нем, а главное, не забудь о другом…»
IV
Широкие улицы, проделанные современным Парижем в старых кварталах города, недавно вывели на свет Божий старинное здание, считавшееся совершенно исчезнувшим. В нем-то некогда Корнель и целая плеяда менее известных и совершенно забытых теперь поэтов добивались, как величайшей чести, увидеть воспроизведение своих творений на сцене, помещавшейся в этом здании. Это был бургонский дворец, некогда осаждавшийся отборнейшей публикой, которая спешила насладиться игрой известных актеров, игравших благодаря покровительству Анны Австрийской, управлявшей тогда судьбой Франции.
В описываемый момент в этом сборном пункте сливок военного и гражданского общества шло представление «Агриппины», возбудившей бурную полемику среди тогдашней критики, которая обвиняла автора в антирелигиозных и антимонархических взглядах.
Блестящая, шумная толпа, переполнявшая зрительный зал, была настроена воинственно.
Особенно сильно интересовались ходом пьесы два субъекта, затерявшиеся в одном из уголков партера.
Один из них самым усердным образом свистел в тех местах пьесы, которые ему почему-либо не нравились; другой же, наоборот, с удовольствием улыбался, видимо, одобряя мысли автора, и досадливо пожимал плечами на каждый свисток соседа. Наконец, в третьем акте нетерпеливый сосед, желая с кем-нибудь поделиться своей досадой, обратился к молчаливому незнакомцу:
– Не правда ли, какое жалкое произведение?
– Почему, позвольте спросить? – холодно проговорил незнакомец.
– Как почему?! Я никогда в жизни не слыхал еще так уродливо выраженных нечестивых мыслей!
– Однако вы, как вижу, не особенно лестного мнения об авторе!
– Я не могу быть иного мнения о нечестивом еретике, достойном отлучения от церкви!
– Неужели?
– А разве он не высказывает мыслей, оскорбляющих наши святыни?
– Вероятно, вы плохо слышали. Вот что он говорит, – и незнакомец стал декламировать отрывок из «Агриппины», потом другой, третий, все более и более увлекаясь по мере передачи стихов.
– Но как вы могли запомнить такую массу стихов?
– Ну а что, как нравятся вам эти стихи? Не правда ли, они очень недурны?
– Да, действительно!
– Так почему же вы свистели с таким азартом?
– Взгляните кругом… Многие свистят! – как бы оправдываясь, ответил сосед.
– О, жалкий род людской; довольно какому-нибудь ослу зареветь, чтобы все последовали его примеру!
– Послушайте, ведь это наглость!
– Вы думаете?!
– Не думаю, а уверен!
– Тем хуже для вас. Но… тише, начинается четвертый акт.
– Хорошо, потом мы окончим наш спор должным образом в надлежащем месте.
– Вероятно, вы провинциал? – насмешливо заметил спокойный слушатель.
– Мое имя маркиз Лозероль!
– Это, кажется, древнейший род в Пуату! Извините, я не буду вам мешать слушать. Вот, появляется Сежанус!
Появление актеров невольно прервало ссору, которая велась все время в самом изысканно-вежливом тоне. К концу действия декламатор «Агриппины» жестом подозвал к себе сидевшего невдалеке молодого человека, который поспешно подошел на его зов.
– Граф, могу ли я просить вас быть моим секундантом?
– Как так?
– Я думаю драться!
– Когда, сегодня?
– Сейчас!
– Опять ссора, но ведь вы еще не успели из зала выйти и уже…
– Мне нечего было выходить, мой противник здесь! Маркиз Лозероль отвесил учтивый поклон.
– Какие мотивы?
– Маркиз находит «Агриппину» отвратительной, а по-моему она хороша. Этот повод удовлетворяет вас?
– Вполне!
– Ну, идемте, господа, мне некогда!
Захватив по дороге второго секунданта, противники направились в ближайший переулок, где, не тратя времени и слов напрасно, тотчас же приступили к делу.
– О, да ведь вы порядочно фехтуете! – проговорил маркиз, тщетно стараясь найти незащищенное место у противника.
– Неужели? А ведь это пустейшие, так сказать, провинциальные приемы!
– Положим, в провинции умеют владеть оружием! – ответил маркиз, нанося удар в сердце.
– Тем более в Париже! – возразил противник, легко отстраняя шпагу маркиза и мастерским ударом прокалывая его руку.
Борьба была кончена.
– Поздравляю вас с победой, хотя, признаться, она нисколько не возвысила достоинств «Агриппины». Кстати, позвольте спросить, каким способом вы умудрились запомнить из нее такую массу стихов? – спросил маркиз.
Хладнокровно вложив шпагу в ножны и подойдя к раненому, декламатор проговорил спокойным тоном;
– Очень просто, я – ее автор!
Защитив таким блестящим способом свое произведение и оставив в недоумении раненого маркиза, автор «Агриппины» спокойно взял под руку своего секунданта и скрылся в глубине улицы.
* * *
Этот поэт не совсем незнаком нам, – мы встречали его уже за ужином у Жака Лонгепе и у смертного ложа графа Раймонда де Лембра.
Он обладал, необходимо об этом упомянуть сейчас же, так как это была характерная черта его оригинальной физиономии, огромным, острым носом, почти закрывавшим верхнюю губу, настоящим «богатырским» носом, как называл его один из биографов поэта. Этот нос резко выделялся на красивом лице, освещенном парой чудных черных глаз. Тонкие брови красиво изгибались на высоком лбу, довольно редкие усы оттеняли правильные губы, а редкие черные волосы, небрежно закинутые назад, придавали его лицу открытое и умное выражение.
Притом, кроме своей красивой наружности, наш незнакомец обладал недюжинным умом и уже занимал почетное место среди ученых и писателей. Вообще он, ярко выделялся из среды безумной и безрассудной современной золотой молодежи.
Имя его был Савиньян де Сирано. Но он был более известен под именем Сирано де Бержерака, как называл он себя, в отличие от своих братьев и кузенов.
Это был творец «Агриппины», автор «Путешествия на Луну», «Колких бесед» и целой серии юмористических мелких произведений, а также смелый философ, неустрашимый, непобедимый дуэлист и герой всевозможных перепалок! У него была масса прозвищ. Его называли Неустрашимым, Демоном храбрости, Капитаном Сатаной. Особенно популярно было последнее прозвище – многие величавшие его таким образом и не подозревали об его настоящем имени.
Что касается характера этого оригинального человека, то отличительными чертами его были честность, доброта, самостоятельность, ненависть ко всему глупому и остроумие. Его страшно любили за его остроумие и беззаботность. Поэтому-то в виде редкого исключения из общего правила после его смерти о нем сохранилось дружеское воспоминание и безусловное уважение к его памяти.
* * *
Раскланявшись с раненым маркизом, Сирано удалился под руку с графом.
Титул графа молодой человек получил недавно, в день смерти своего отца Раймонда де Лембра; вместе с титулом к нему перешло и огромное состояние.
Прошел год после смерти старого графа. Роланд быстро и легко пережил эту потерю и теперь весь рвался к бурной, полной удовольствий городской жизни, от которой его удерживал до сих пор отец.
Сирано де Бержерак был опытнее и старше 25-летнего красавца Роланда, и тот, хотя не чувствовал особенной симпатии к поэту (вообще он во многом был прямой противоположностью отца), но, за неимением лучшего проводника и руководителя, обратился к Сирано, прося посвятить его во все тайны парижского света.
«То было время прекрасных итальянских и испанских авантюристок, сладострастных и надменных созданий, одинаково обожавших золото, кровь и духи; время любовных похищений, с балконами, веревочными шелковыми лестницами и прочими необходимыми атрибутами подобных похождений; время балетов, маскарадов, испанского волокитства, то серьезного, то безумного, то преданного до унижения, то пылкого до жестокости; время сонетов, романсов, дуэлей, попоек и безумных игр»2
Таков был водоворот, куда Сирано втолкнул своего молодого друга.
Сам Сирано, несмотря на столь опьяняющую обстановку, вел тихую, мирную жизнь поэта-философа; Роланд же, наоборот, сразу окунулся во все удовольствия и развлечения, какие ему предоставляло его богатство. Он безумно швырял деньгами, устраивал вечера, балы, ослеплял женщин своей щедростью, мужчин покорял удальством и очень быстро опьянел от подобной жизни.
Но скоро появилась и обычная в таких случаях усталость; он почувствовал необходимость отдыха. И здесь на выручку его явился тот же Савиньян. Будучи другом маркиза де Фавентин, мирно жившего в своем старом замке на острове святого Людовика, Савиньян представил Роланда старому маркизу. Тут молодой человек нашел необходимый покой. Вскоре Роланд страстно влюбился в единственную дочь маркиза, 19-летнюю красавицу Жильберту, и, не долго думая, открылся в своих чувствах маркизу.
Тогда, точно так же как и теперь, не особенно охотно женились на бесприданницах, так что маркиз принял предложение графа с величайшей радостью, и через два месяца так называемое «счастье» Жильберты было решено.
Что касается молодой девушки, спрошенной для виду, то, не особенно раздумывая, она дала свое согласие: сердце ее было еще свободно, притом она видела, что этот брак представлял из себя весьма выгодную партию. Необходимые переговоры были очень скоро закончены, и граф де Лембра торжественно был объявлен женихом белокурой красавицы Жильберты.
В эти два месяца Жильберта уже свыклась с мыслью стать графиней.
Она равнодушно ждала этой свадьбы, или, вернее, охотно бы взяла свое слово назад, если бы ее не останавливало неизменное послушание воле родителей, внушенное ей еще с детства.