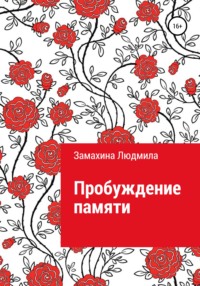Kitobni o'qish: «Пробуждение памяти»
Пролог
Родом я с Алтая, яркого, живописного и богатейшего природного края, раскинувшегося на территории юга Западной Сибири. Красота этих мест способна заворожить каждого, кто побывал здесь хоть раз. Это удивительный край, солнечный и теплый летом, заснеженный и суровый зимой, это край человеческих надежд, счастливых ожиданий. Выросла я в маленьком селе Велижанка. Но вряд ли вы сможете найти его на карте… Там прошли мое детство, юность и отрочество… С годами приходит осознание того, что земная жизнь не бесконечна… Все уходит в небытие: люди, дома, маленькие села и деревеньки… И только память человеческая живет в сердце, и пока оно бьется, пока оно дышит любовью к своему родному краю, к своей малой родине, память будет жить. Порой так и хочется крикнуть: «Не исчезай, мое село! Мое село, село родное…» Память человеческая… Это бесценное чувство для каждого из нас. Память возвращает нас в прошлое… И вот мы, вспоминая, переносимся в годы детства и юности. И сердце переполняется и дышит любовью к окружающему миру, к людям, участвовавших в твоей судьбе, твоем становлении. И приходишь к выводу, что жизнь наша так коротка и быстротечна… Пустая страница истории моей семьи заполнена и стала страницами этой книги. Казалось бы, все. Детская мечта сбылась. Обещание, данное мной в детстве, выполнено. Можно поставить точку. А остановиться не могу, потому что память жива, стоит только немного потревожить ее, и вся жизнь, как на ладони. Мой край Алтайский, мое село родное Велижанка, с ее знаменитым ленточным бором, глубокими прудами и березовыми колками, наша средняя школа, мои школьные учителя, друзья детства и, конечно же, мои корни − моя семья и родственники. Рассказываю о своих поисках деда, о поездке в Германию, об увиденном в другой стране, своих впечатлениях на разных встречах с разными поколениями, начиная от школьников среднего и старшего звена, студенчества и заканчивая ветеранами. Эти встречи носят не только информационный, но и познавательный, патриотический характер. Жизнь быстротечна, как река. И наше прошлое всегда поможет построить наше будущее. Я хочу пожелать вам, не забывайте своих родственников, интересуйтесь их прошлым, ведь прошлое − продолжение будущего. Мы должны, мы обязаны помнить!
1 глава
Реж, 2015-2016
Когда разговор с бабушкой моей касался жизненного и военного пути моего деда, ее глаза мгновенно наполнялись слезами. Сейчас, спустя прошедшие долгие годы, я понимаю, насколько это было сильное и огромное чувство под названием − Любовь. А тогда, обнимая ее, я пообещала бабушке и самой себе, что обязательно найду дедушку. В то время я еще не понимала смысл данного обещания − маленькая была. Но это данное детское обещание я пронесла через всю свою жизнь. Периодически писала письма во многие инстанции, но ответов не было. И вот очередной праздник Победы, 9 мая 2015 года. В каждом доме вновь звучит торжественный голос Юрия Левитана: «Приказ верховного главнокомандующего по войскам красной армии и военно-морскому флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту блестящую победу, тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот! Смотрю трансляцию парада на Красной площади, смотрю, как шагает с портретами своих родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны «Бессмертный полк». И в одном строю с ним идет наш президент Владимир Владимирович Путин с портретом своего отца-воина, не вернувшегося с полей сражений. Я думала и плакала, плакала и думала, глядя на экран телевизора. Сколько же русских солдат покоится на полях сражений той великой войны! И вновь пересматриваю, перечитываю хронику, как и какой ценой досталась нам эта победа: «Победа в Великой Отечественной войне, самый огромный, выстраданный миллионами людей, подвиг! И насколько долгим, и тяжелым был заключительный этап до окончания военных действий. Наступление советских войск в районе Польши и Пруссии пришлось на январь 1945-го. Союзнические войска также не стояли на месте и быстрыми темпами двигались к Берлину. По мнению многих историков и аналитиков, ознаменовало полное поражение Германии самоубийство Гитлера, совершенное 30 апреля 1945 года. Впрочем, это не остановило войска нацисткой Германии. Лишь кровопролитные сражения за Берлин привели к окончательной победе СССР и союзников, но слишком большой ценой. Сотни тысяч убитых с обеих сторон – и 2 мая столица Германии капитулировала. Далее последовала и капитуляция самой Германии. 8 мая в Карлхосте, восточном предместье Берлина, представители Верховного главнокомандования советских Вооруженных Сил и Верховного командования союзных войск приняли безоговорочную капитуляцию Германии от немецкого военного командования. От германского Верховного командования документ подписал начальник штаба Верховного главнокомандования генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель от вермахта, а также представители люфтваффе и кригсмарине, имевшие соответствующие полномочия от гросс-адмирала Дёница (назначенного 30 апреля 1945 года президентом Германии). От имени правительств стран антигитлеровской коалиции Акт подписывали СССР и Великобритания. Со стороны СССР – представитель Верховного главнокомандования, главноначальствующий в советской зоне оккупации Германии и одновременно главнокомандующий советскими оккупационными войсками в Германии маршал СССР Георгий Жуков от Красной Армии. Вторую подпись поставил заместитель Д. Эйзенхауэра британский главный маршал авиации Артур Теддер. Представители Верховного командования Союзных экспедиционных сил в Европе – главнокомандующий армией Франции генерал Ж. де Латтр де Тассиньи и командующий стратегическими ВВС США генерал К. Спаатс – поставили свои подписи в качестве свидетелей. Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан 8 мая в 22:43 по центрально европейскому времени (то есть 9 мая в 0:43 по московскому времени) и вступал в силу с 24:00 по московскому времени. Именно из-за этой естественной разницы во времени во всем мире День Победы отмечается 8 мая, а в Советском Союзе – 9-го. Накануне, 8 мая 1945 года Президиум Верховного Совета Союза ССР издал Указ, в котором 9 мая объявляется Днём Победы над фашистской Германией: «В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая является днём всенародного торжества – праздником Победы.»
Более 70 лет прошло с тех пор. Многие смогли, сумели установить военный путь и подвиги своих родственников. Почему же я не могу этого сделать? Что делаю не так, неправильно? Цель поставлена! Нужно теперь только идти к ней. И 13 мая я поехала в г. Екатеринбург, в аппарат Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, к Татьяне Георгиевне Мерзляковой. Внимательно выслушав меня, она рекомендовала заполнить заявление-анкету об известных мне данных о дедушке. А что я могла написать о нем? Что я знала? Только фамилию, имя и отчество и из какого военкомата он примерно был призван. А это, по моим предположениям, был Панкрушихинский райвоенкомат Алтайского края. Ведь там жила моя семья. И… о, чудо! 20 мая я получаю расширенную информацию о своем деде. Радости моей не было предела. И я начала работать в полную силу в этом направлении. Первая весточка о военном пути моего деда вселяла очень большую надежду в душе, ведь мои поиски только начались. Я хотела знать больше, все подробности жизни своего деда в годы войны. И полетели мои письма. Написала в Центральный архив Министерства обороны РФ г. Подольска, в Консульский Департамент г. Москвы, в Посольство г. Москвы и г. Екатеринбурга, в Посольство РФ в ФРГ, был сделан запрос через наш Режевской военкомат о подтверждении периодов прохождения службы в годы ВОВ, в Управление по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, в Общество Красного креста г. Москвы и г. Екатеринбурга и многие другие инстанции. Достаточно много информации почерпнула на сайтах «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа». Уходили мои письма с Урала и на Алтай во все районные и краевые инстанции, которые могли бы мне дополнить фактами жизни моей семьи и моего деда. В это же самое время, я интенсивно работала с семейными альбомами. Старые черно-белые фотографии помогли увидеть всю жизнь моей семьи, как на ладони. Разглядеть каждую черточку и морщинку на лицах родных и дорогих мне людей. Это бесценный клад, который хранили и передавали из поколения в поколение. Среди всех фотографий мне удалось найти довоенное фото, где бабушка была еще молодая и дедушка рядом с ней, и все их дети. А так же фотографию деда, подписанную моей маме, датированную 22 ноября 1941 года. Из фотографии мне сделали потрет, с которым я, уже 9 мая 2016 года, гордо шагала в строю «Бессмертного полка», в нашем уральском городе Реж. В очередной раз, придя в военкомат нашего города на прием к специалисту Глазковой Марине Иовлевне, я поделилась с ней закравшейся мыслью о том, что хотела бы посетить могилу дедушки в Германии, в Фюрстенберге. А почему бы и нет? И Марина Иовлевна рассказала мне такую историю. В г. Реже во время войны был лагерь военнопленных в районе пятого участка в микрорайоне Быстринский. Кладбище погибших военнопленных существует и по сей день.

В этом лагере военнопленных был из Германии Вилли Шарф. Ему удалось выжить. И вернувшись к себе на родину, в Германию, в Берлин, он написал книгу-мемуары «История моей жизни». Естественно, книга была написана на немецком языке. Один из экземпляров книги привезли в сентябре 2015 года его дочь Сибиль Шарф-Виддер и внук Роман Виддер и подарили Режевскому историческому музею. В настоящее время в музее имеется перевод этой книги на русском языке. Все подробности об этой книге я узнала при дальнейшем сотрудничестве с заместителем директора исторического музея К. О. Савина. Обратившись в музей со своей проблемой поисков, я получила полную поддержку от Кирилла Олеговича. И уже в июне 2016 года я начала вести переписку с внуком Вилли Шарфа, с Романом Виддером, который живет в Берлине.
«… Нас с вами, уважаемый Роман, объединяет память о наших дедушках. И это здорово, что в наших с вами сердцах хранится и живет память о тех страшных, разрывающих душу и сердце днях Мировой войны. Эту войну пережили народы, а деды наши?…» Отправив первое электронное письмо, я честно говоря, не надеялась получить ответ на него. Причин для этого было несколько. Это и другая страна, и другой менталитет, возможно, и другие взгляды на жизненные ситуации, да многое другое. Но удача улыбнулась мне. Роман ответил на мое письмо. И между нами завязалась переписка. Началась техническая подготовка к дальней поездке, приобретение билетов, бронирование отеля, оформление шенгенской визы. Невозможно перечислить всех, участвующих в подготовке к этой очень важной для меня поездке. Могу только низко поклониться всем и сказать: «Огромное спасибо Вам!»
2 глава
Москва − Берлин, 2016
Волнение перед полетом постепенно проходило, услужливые стюардессы начали раздавать напитки пассажирам. Я взяла бокал белого вина и сделала маленький глоток. Моя младшая дочь, Оля, сидела рядом, держа меня за руку. Она нужна была мне здесь и сейчас, именно в этой поездке, такой важной для меня. Муж не мог лететь со мной из-за своего здоровья, старшие дочери, Елена и Светлана не смогли полететь по разным причинам, семейным, рабочим, а Ольга смогла быстро уладить все дела, как только узнала о моих планах поехать в Германию и полетела со мной. Ее поддержка и участие делали меня сильнее и уже не так страшно было лететь так далеко. Я прикрыла глаза. Ну вот и все… мы в самолете, через несколько часов приземлимся в Берлине. Неужели у меня все получилось? Совсем скоро я окажусь на могиле дедушки. Улыбнувшись, мысленно обратилась к своей бабушке: «Нашла я твоего Алешу, мама старенькая…»
Уйдя в свои мысли, я задремала. Мне снилась моя деревня, моя улица, мой родительский дом. Моя улица была крайней и присвоено ей было название Партизанская. Но в памяти моей всплывали и другие названия − первая, вторая, третья улицы. Мой отчий домик изначально был расположен на первой улице, под номером 35. А это как раз в самой серединке ее улицы. Мой отчий дом! Каким он был?! Маленьким, но уютным, теплым, милым, запомнившимся мне на всю жизнь. Захожу в дом, а здесь все такое родное, запах свежего хлеба, треск дров в русской печке, скрип половиц… Сердце сжимается от нахлынувших чувств. Вот сдвоенное окно, глядящее в палисадник. И еще одно окно, это в горнице. Здесь же стоит кровать железная, где спали мы с бабушкой (моей мамой старенькой, как я ласково называла ее!). Перед сдвоенным окном стоит небольшой стол, деревянный. И над ним уголок, закрытый вышитой белой салфеткой. Это святое место, передний угол, на котором стоят иконы − образа святых. А рядом со столом стоит большой сундук (или ящик), накрытый самотканым, но таким красивым ковром. А в этом ящике-сундуке хранились все новые вещи семьи, которые одевались по праздникам. Заглядывали в него не часто, а крайне редко. Но когда его крышка открывалась, для меня, маленькой, увидеть содержимое его было настоящим праздником. А уж что-то надеть − это было сверх того! Вот у стенки еще одна кровать, гораздо меньше и ýже, но тоже железная. На ней спала старшая дочь Фина (моя лёлька, лёлечка, как я называла ее!). Напротив кирпичная печка. Отапливалась она постоянно, кроме лета, березовыми дровами. Дрова трещали, наполняя горницу теплом и уютом. Пол выкрашен в желтый цвет краской «Охрой». Под нашей с бабушкой кроватью вырыт небольшой подпол. Там хранились овощи на зиму со своего огорода. Пол застелен домоткаными половиками, и, заходя в горницу, домашние снимали обувь. Именно с моей кроватью, на которой мы спали с моей «мамой старенькой», связано мое раннее детство.
Утро в деревне начиналось с кормления скотины − коровы, поросят, кур, гусей, уток, а уже потом, затапливали маленькую печь (или грубку!) и русскую печь для выпечки хлебов и приготовления пищи. Завтракали позднее, после того, как была управлена (накормлена) скотина в хлеву. Работы было много, а тут я еще, маленький ребенок! Да дай Бог, если сон одолевал меня в то время, когда нужно утром управлять скотину! А если нет?! Тогда на помощь приходило большое полотенце. Оно обвязывалось вокруг моего пояса и концами привязывалось к козырьку кровати, чтобы не упала детятя с кровати, и не простыла, топая по полу в зимнюю стужу к двери, которая то и дело открывалась и закрывалась, а в руках у бабушки были большие ведра с сывороткой и кормом для скотины. Рядом стояла кружка, железная кружка с намятыми конфетами-подушечками, чтоб не подавилась я, да и заделие, отвлечение было мне. А еще − тряпичная кукла и кружка парного молока, только что от подоенной коровы. Ну это потом, когда будет управлена вся скотина… Вот дверь в избу распахнулась, бабушка снимает фуфайку, развязывает платок-шаль: « Ух!» садится на ящик напротив кровати. Чуть отдохнув от утренней работы по хозяйству, она затапливает маленькую печку-грубку в горнице и большую русскую печь в кухне. Именно с русской печью связана неповторимая пора! Пора моей жизни. Кухонька небольшая, на одно оконце. И русская печка! Забираюсь я по приступке (лавочка, скамейка, ступая на нее, можно забраться на печку) на нее, ложусь вместе с кошкой − и такое блаженство разливается по телу. Оно неповторимо и несравнимо это блаженство ни с чем в жизни. Бабушка начинает готовить хлеба к выпеканию. На столе стоит квашня (сосуд с тестом!), мука, листы для хлеба. А я на печке, сижу и играю с тряпичной куклой. И бесконечные вопросы к бабушке. И тут я спрашиваю:
− А где наш дедушка?
− На войне погиб, однако. Ничего не знаю, не ведаю о нем.
И слезы… Я ни разу не видела дедушку. Но над нашей кроватью всегда висел его портрет в деревянной рамке, где бабушка и дедушка еще совсем молодые и пятеро детей (трое из них − взрослые, а двое подростки). Так что вопрос о дедушке был закономерным, он, наш дед, всегда был рядом с нами, рядом с бабушкой, пусть на фотографии, но всегда они рядом, вместе. Слезла я с печки, приподнялась на цыпочках, обняла ее за плечи и пообещала:
− Ты не плачь, мама старенькая, я вот вырасту большая и обязательно найду своего дедушку!
Сердце защемило от боли. Как бы мне хотелось и сейчас обнять ее крепко, утешить и сказать: «Не плачь и не тоскуй, моя мама старенькая, ты всю жизнь любила и ждала своего любимого, а он защищал всех нас, воевал за Родину, он дал нам надежду на мир и на лучшее будущее, да, погиб… , но не напрасно, за тебя, за детей, за Отчизну. Я нашла его…»
Рука Оли, мягко тронула меня за плечо, стряхнув остатки сна:
− Мам, просыпайся, мы приземлились. Берлин. Прилетели.
Хоть мы и переписывались с Романом Виддером перед поездкой, а последнего ответа я так и не получила. Мы не знали, сможет ли он нас встретить. Но выйдя из аэропорта, увидели молодого человека с табличкой «ЛЮДМИЛА». Сердце ухнуло от волнения. Приехал все-таки, встретил. Роман оказался очень интересным молодым человеком. Пока мы добирались до нашего отеля, я узнала, что Роман закончил Берлинский университет, историко-литературный факультет. Сейчас пишет диссертацию и в перспективе, после ее защиты, хотел бы остаться в университете, работать там. Рассказал, что очень любит Россию, много где побывал, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и у нас, в Реже. Интересовался и моей историей поисков деда. Я ему рассказала все, что могла. Роман так хорошо говорил по-русски, что я не удержалась от любопытства и спросила: «Где Вы так хорошо научились говорить по-русски?» Его ответ был несколько неожиданным для меня: «Сам, по словарям…, да и когда приезжаю в Россию, с друзьями стараюсь говорить по-русски. Они помогают мне. А вот и ваш отель. Ну, а мне пора в библиотеку, диссертация не ждет! Вы звоните». На этом мы и попрощались с ним. Молоденькая девушка-администратор проводила нас в номер. А Ольге уже не терпелось прогуляться по окрестностям:
− Мама, это же Берлин! − воскликнула она, − у нас целый день свободный, встреча завтра, ну пойдем погуляем и пообедаем заодно.
Я чувствовала усталость после перелета. Отдернув тяжелые шторы, дочь обнаружила небольшой балкон-террасу. Солнечные лучи тут же заполнили номер светом. Отодвинув окно-дверь в сторону, Оля вышла на балкон и плюхнулась в плетеное кресло с мягкими подушками.
− Мам, погода отличная, нам повезло! Могу посмотреть в интернете где, мы.
− Хорошо, только я устала немного, − я присела рядом.
Дочь окинула меня внимательным взглядом:
− Давай я спущусь вниз и попрошу приготовить нам чай, а ты пока почитай, где мы, − сунув мне свой телефон, она ушла.
Очки остались в сумочке, а без них было сложно читать. Отложив телефон в сторону, я стала ждать Олю. Она быстро вернулась. Чай возвращал мне силы. Я немного расслабилась, слушая, что нашла дочь в интернете:
− Итак, наш отель находится в Вильмерсдорфе, это юго-запад Берлина. Район Вильмерсдорф считается очень престижным. Так как, около половины жилых домов были разрушены во время второй мировой войны. В районе находятся не только старые шикарные виллы и особняки, но и многоквартирные жилые дома, построенные после войны. Почти всю западную часть района занимает лес и озёра. Можно сказать, что в этом районе встретились две противоположности: природа и бетонный город. В Вильмерсдорфе всегда жили знаменитости: политики, экономисты, деятели науки и культуры. Здесь много посольств и посольских резиденций… Ну что? Как ты? Готова на небольшую прогулку? − спросила она.
Я не могла ей отказать и утвердительно кивнула. Район оказался и впрямь красивым, с чистыми, аккуратными улочками. Мы зашли в первый попавшийся ресторанчик. Пока ждали наш заказ, я вспоминала, как готовила моя бабушка. Оля была в деревне совсем маленькой и не помнила почти ничего. Мне приятно было, что ее любопытство коснулось моей семьи, моего детства… Нам принесли жаркое из картошки с мясом в горшочках… Память вновь вернула меня в мой родной дом. Ни одна деталь не ускользнула от меня… Я на кухне. Напротив, русской печки, висит рукомойник, под ним стоит на табуретке деревянной тазик, а под табуреткой − ведро. Здесь же рядом прибита вешалка для обыденной одежды − для фуфаек, в которых ходили управляться к скотине, во двор, в огород. Около печки − деревянный шкаф для посуды (чайной и столовой). А ниже − лавка, под которой располагались чугуны. Бабушка доставала их из русской печи ухватом или рогачом, наполненными и утомленными в печи деревенской пищей.
− Вкуснее, чем приготовленную картошку с мясом в русской печи мамой старенькой и ее большие пироги, я ничего не ела в своей жизни, − дочь удивленно приподняла бровь, − может быть, потому что в них присутствовал вкус детства моего? Да… так и есть…
Оля, подперев рукой лицо, внимала моим воспоминаниям.
− Знаешь, − я мысленно вновь вернулась в дом, − дальше в доме были неотапливаемые сенцы-сенки. Это небольшое помещение, перегороженное самодельной стенкой из досок и дверью, под названием кладовка. В кладовке хранились ненужные вещи, хозяйственная утварь… А еще в кладовке висели свиные копченые окорока. Они оставались после долгой, суровой сибирской зимы, не съеденные за зиму. С наступлением ранней весны, когда снег темнел, с ранними проталинками заносили в избу, засаливали в деревянных бочках, заливали крутым соленым раствором со специями, недели две вялили, давая им обсохнуть на весеннем солнышке, а потом коптили в бане, которая топилась по-черному. Развешивали их в бане над каменкой и топили баню до готовности окороков. А летом − придут с работы на обед, дядя ли заглянет по пути из МТМ (машинно-тракторная мастерская) или мама прибежит на обед на час (она уже жила постоянно в Велижанке), отрежут кусочек, да картошечку, да горбушку домашнего хлеба, да молочка из ямки, что на улице − вот и сыты!
Официант прервал меня, положив счет на стол. Но мы не спешили уходить. Я продолжила свой рассказ:
− Здесь же, в сенках в летнее время, да, пожалуй, с наступлением весны, разжигали керогаз (керосиновая горелка-печка), подогревая пищу и себе, и скотине. Там же, в кладовке, хранились деревянные бочки с квашеной капустой, которую засаливали и квасили по осени, добавляя туда морковь, помидоры. А еще кадушка с солеными груздями и укропом. Как удавалось моей маме старенькой так делать соленья − до сих пор для меня остается загадкой. Ешь зимой соленые грузди, а они хрустят на зубах, да с горячей рассыпчатой картошечкой! Все соленья делали в деревянных кадушках (бочках). И вкус был отменным. А пирожки с сушеной, летом, клубникой! Да с молоком! Но вот парное молоко очень не любила, но пила по твердому настоянию своей мамы старенькой.
− А я до сих пор не люблю его, молоко … − сморщив нос, сказала дочь.
Я улыбнулась и продолжила:
− Дом наш был огорожен изгородью незамысловатой, досками, как могли, руки женские, натруженные, − так и мастерили. И знаешь, о нашей семье, в основном женщинах (правда и дядя помогал!) говорили в деревне: «Всякая работа горит в руках у Уваровых − что хозяйство держать, что плетень городить…» Да, хозяйственные постройки для домашнего скота тоже соорудили сами. Все животные жили по отдельности друг от друга. Пристроем к кладовке дома был сарайчик для свиней. В хлеву стояла корова Белянка. У кур, гусей и уток был отдельный загон, у каждого вида птиц. Здесь же, во дворе, ямка-погреб. В нем хранились скоропортящиеся продукты в летний период. За курятником и гусятником был огуречник. Здесь сажали в парниках помидоры, капусту. На грядках из навоза росли огурцы, морковь, свекла, а позднее − маленькие, но такие красные и вкусные арбузы-арбузики, под названием «Огонек». Вся мелочь росла в этом маленьком огородике.
− А картошка?
− Тоже была, только в большом огороде. Это участок примерно соток двадцать − двадцать пять, а может быть, и более. Ведь картошка и овощи шли не только в пищу семьи, но и на корм скоту. Бабушка, выходя из избы (так чаще всего звали дом), заслоняясь от солнышка ладошкой, вглядывалась вдаль. В летнее время, может быть, смотрела, не зашли ли куры или гуси в огород. Или какая другая живность. А зимой закрываясь ладошкой от искристого снега, тоже всматривалась в огородную даль. А может быть, так ждала деда с войны? Как теперь узнаешь, какие мысли ее навещали в ту пору?
Расплатившись за обед, мы пошли бродить по улочкам. Оля была задумчива и молчалива. И как-то неожиданно спросила:
− Ты так рассказывала о своем доме… так привязана к нему, ты маленькая хоть уезжала оттуда? Ну, как мы, с сестрами, в пионерский лагерь, например, или, ну не знаю… к другой бабушке в гости или еще куда?
− Так надолго? Нет, − улыбнулась я, − я была очень привязана к моей маме старенькой, к дому… Помню, давным-давно это было. Приехал как-то из другого села, Романово, мой двоюродный дядя − Кукуев дядя Леня на лошади, запряженной в телегу. А на ней пустые фляги с молоком на наш Велижанский маслосырзавод. Ну и заехал к нам. Поиграла я с ним, а он стал просить бабушку отпустить меня с ним в Романово, к бабушкиной сестре, бабе Лене. Долго уговаривал мою бабулю, ну она и отпустила меня. И поехали мы с ним в Романово на лошади. Приехали. Пока он был дома − все нормально. Но ведь дело молодое, вечером надо ему в клуб бежать (на гужовку, как говорили в народе!). А я домой засобиралась в Велижанку. Он мне и говорит: «Вот сейчас поспишь, а завтра с утречка и поедем, домой отвезу тебя». А я ему: «Нет, дядя Леня, ты довези меня до наших огородов, а там я и сама дойду».
− Такой большой огород! А как же справлялись!?
− Пахали огород по весне плугом. За плугом шел пахарь, а в плуг была впряжена лошадь. Борозды были ровные, а перевернутая земля, отдохнувшая за зиму, черная, черная, влажная. В хорошую теплую погоду видно, как над землей, только что вспаханной, поднимается пар. Картошку сажали в ручную. Лопатой делали лунки. А дети от мала до велика с маленькими ведерками, бросали в лунки резаную картошку, сохраняя бережно ее ростки. Ну а потом прополка ее от травы, вручную. Взрослые с тяпкой-мотыгой, боялись срезать вылезающие ростки картофельных кустиков. Играть в огороде было строго запрещено, чтоб не затоптать ряды, не нарушить всходов. Так мы, дети, взрослели в своих огородах. На эти работы уходил не один день, а порой неделя − две. Жара, мошки, комары не давали долго быть на огороде. «Еще не успели руки отдохнуть от мотыги, − говорила моя мама старенькая, − а уже нужно окучивать картошку». И снова наклоняешься к каждому кустику, аккуратно окучивая ее. Эти знания обработки картофеля пришли позднее, лет в двенадцать − тринадцать. Раньше тяпку мне в руки не давали, так как можно было и ноги поранить. Уж больно не хотелось одевать резиновые сапоги в летнюю жару. Босиком бегали! А осенью выбирали погожие деньки для того, чтобы копать выращенный урожай. И уж с огородными работами не побалуешь, не отдохнешь! Делу − время, а потехе − час.
− Мам, а в какие игры вы играли?
− Детские игры были тоже незабываемы. Ребятишек в семьях было много, и мальчишек, и девчонок. И жили, и играли все дружно, не ссорились. Во всяком случае крупных ссор не было. И хотя возраст у всех был разный, примерно 5-12 лет, мы всегда находили общий язык между собой. Играли в прятки, городки, в летнее в время, после дождя, запускали бумажные кораблики. У кого были велосипеды, учили кататься друг друга. Чертили классики на земле, прыгали, боясь наступить на черту. Девчонки скакали на скакалках, а все вместе играли в вышибалы. Когда уставали от подвижных игр, садились на лавочку и играли в глухой телефон, в фанты. Я больше всего любила играть в домики-клетки. Вначале строили дом из досок, у кого красивее и лучше получится, приносили в него старую одежку, игрушки, своих кукол. Вместо посуды были стекляшки. Так формировалось понятие лучшей хозяйки. Лепили из песка разную стряпню. И еще играли в школу. С таким волнением и нетерпением ждала, своей очереди быть учителем. И меня внимательно будут слушать мои «ученики». Брали пошире доску и писали мелом на ней. Да, ходила в кино на детский сеанс, а позднее на школьные вечера по субботам. А еще позднее − в клуб, на танцы. Но прежде, будь добра наносить воды из колодца от Зарезенковых, воды в огуречник, в бочки железные и во фляги для полива мелочи − это в летнее время. Воду из колодца, сделанного в виде журавля, черпали бадьей, деревянной, выливали в ведра и несли на коромысле. В зимнее и весенне-осеннее время возили в корыте навоз в огород и огуречник, разбрасывая его вилами ровными невысокими рядами. Тем самым и огород удобрялся, и животным было свободнее в пригонах. − я вздохнула, − тяжелая работа, но бери столько, сколько сможешь унести, увезти. Работа в деревне − круглый год.
Так жили все, так жила и моя семья, состоявшая из женщин − бабушки, Прасковьи Ивановны, тети моей любимой лёлечки − Уваровой Феоктисты Алексеевны, старшей дочери в семье Уваровых. Мама стала жить в деревне Велижанка гораздо позднее, когда для нее появилась работа в селе. Она бухгалтер по образованию. А до этого жила и работала по деревням района, а то и за пределами его. И я. Воспитание получала от мамы старенькой (бабушки) и лёльки Фины.
Bepul matn qismi tugad.