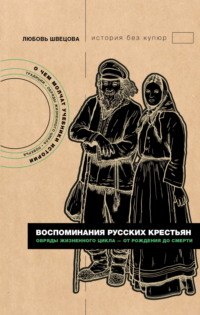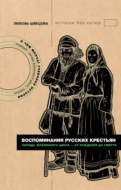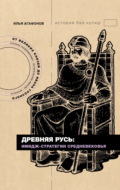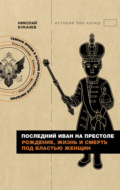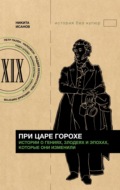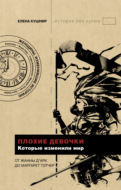Kitobni o'qish: «Воспоминания русских крестьян. Обряды жизненного цикла – от рождения до смерти»
История без купюр

© Любовь Швецова, текст, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Слово автора
Дорогие друзья, здравствуйте!
Перед вами моя новая книга о жизни русской деревни конца XIX – начала XX века. Эта книга уникальна тем, что составлена по подлинным воспоминаниям русских крестьян и очевидцев того времени.
Наверняка, многие из вас зададутся вопросом: «Крестьяне ведь были людьми малограмотными, да и времени на мемуары у них не было. Откуда же взяться воспоминаниям?»
Они есть, и не мало, но мне пришлось вооружиться терпением и настойчивостью, чтобы отыскать их. На составление данного сборника ушел целый год, все это время я по крупицам собирала ценный материал, просматривая электронные архивы и посещая библиотеки. Моими источниками были: материалы этнографического бюро, заметки старинных газет и журналов, труды этнографов, личные записи крестьян и информация, полученная исследователями во время экспедиций.
Интерес к изучению народной культуры возник еще в конце XIX века и не угасал несколько десятилетий. За этот период учеными и этнографами был собран обширный материал. Были разработаны специальные программы для всестороннего исследования жизни и быта крестьян. К наиболее ранним относится программа Русского Географического Общества 1847 года. В 1887 году была опубликована программа Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Значительный вклад в эту отрасль привнесло «Этнографическое бюро», созданное русским фабрикантом и меценатом князем В. Н. Тенишевым. Бюро было основано в 1897 году в Санкт-Петербурге и активно работало до 1901 года. За это время его корреспонденты со слов русских крестьян собрали массу ценнейшей информации.
Интерес к данной теме поддерживался и в XX столетии, когда многие исследователи выезжали в деревни и села, беседовали со стариками – очевидцами жизни дореволюционной России. Итогами этих поездок становились труды, в которых приводились интереснейшие для этнографии сведения.
Отдельно скажу о работе этнолога и этнографа Ольги Христофоровны Агреневой-Славянской, которая записала богатый материал со слов известной народной сказительницы и исполнительницы народных песен Ирины Андреевны Федосовой. Ее книга под названием «Описание празднования русской крестьянской свадьбы с текстом и песнями: обрядовыми, голосильными, причитальными и завывальными…» была издана в 1896 году и стала уникальным источником информации о русской традиционной свадьбе.
Эти и другие материалы были изучены мною и легли в основу данного сборника. Все сведения в нем выстроены в логическом порядке и дополнены моими авторскими комментариями.
В своей книге я затрагиваю тему жизненном пути человека: рождение, крестины, обряды первых лет жизни, взросление, молодежные гуляния, выбор спутника жизни, свадьба, рождение детей, похоронные обряды. Сами очевидцы того далекого времени поведают вам об этих важных этапах. Вся жизнь русского крестьянина из первых уст…
Жизнь! Как много в этом слове. Сегодня мы воспринимаем ее как некий священный путь, по которому движется человек, и с каждым шагом он становится совершеннее, умнее, опытнее.
Наши предки представляли жизнь несколько иначе, чем мы сегодня. Согласно народным поверьям, которые существовали одновременно с православными традициями, человек как бы исчезает, символически «умирает» на одном уровне своего пути и затем вновь «рождается», возникает на другом, но уже в новом качестве, в новом социальном статусе. Так, во время рождения младенец «переходит» границу двух миров: земного и потустороннего. С крещением ребенка в храме начинается его судьба, принятие в семью и мир людей, приближение к Богу.
Первые годы жизни ребенка были насыщены различными обрядовыми действиями, цель которых – наделить его лучшей долей, раскрыть физические и умственные способности, а также закрепить переход из мира потустороннего в мир людей. Многие обряды являлись отголосками древних дохристианских традиций. Они не сохранились до нашего времени, но очень интересны тем, что раскрывают перед нами мир наших предков, их мировоззрение и мироощущение. По народным представлениям ребенок рождался с определенной судьбой и способностями, о которых можно узнать в самом начале его жизни, и при неблагоприятных обстоятельствах постараться изменить их.
Еще один важный этап жизни человека – заключение брака, который, по народным поверьям, не просто менял социальный статус пары, но и воспринимался как символическая «смерть» молодых людей и их последующее «рождение», но в уже новом качестве. Особенно это относилось к девушке, в жизни которой менялось все: статус, семья, дом, одежда и даже прическа.
В народе верили, что в такие моменты «перехода» люди очень уязвимы для воздействия внешних, негативных сил. Поэтому каждый из периодов сопровождался особыми охранительными обрядами.
Все эти представления, поверья, обряды и традиции существовали в жизни русских крестьян еще 100–150 лет назад. О том, как проходил земной путь русского человека, вы узнаете из этой книги.