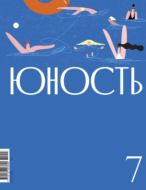Kitobni o'qish: «Журнал «Юность» №08/2024»
Литературно-художественный журнал
Shrift:

© С. Красаускас. 1962 г.
Поэзия
Святослав Югай

Родился в 1999 году. Живет в городе Домодедово.
По образованию инженер-нефтяник. Работает учителем математики. Член Московского областного союза писателей России. Ученик Дмитрия Воденникова.
ПОЛНЫЙ СОСУД С УГЛЕМ
Я хочу вам сказать,
что экссудативный отит —
очень плохой гость.
Он так утомил мое среднее ухо,
что оно вчера решило
собрать слух в чемодан
и по нервам сбежать
на випассана.
Но все обошлось,
и оно не сбежало,
ведь у уха нет ног,
а главное,
нет чемодана.
Когда в ухе переливается жидкость,
вместе с ощущением страшной боли,
я в глухой тишине
слышу райские крики.
Будто младенец родился
и сразу же закричал,
чтобы наполнить свои легкие
болью.
На которой зацикливаюсь.
Беру бокал,
наливаю воды
пью,
наливаю воды,
пью,
не наливаю.
Уснул.
Во сне я оказываюсь посередине
между Марксом и Бродским.
Я в чемодане у среднего уха
лежу рядом с курткой Фернана Леже
и рядом с потерянным слухом.
Мой слух – диссидент,
мое правое ухо завербовало
его и мой редкий сон.
Меня превратили
в каменный уголь.
Теперь я катаюсь
по лицам кумиров,
на пару с запачканной курткой
Фернана Леже-Довлатова.
Нас приютил красный Дедушка,
который хотел стать прадедушкой,
но мы с курткой решить не смогли,
кто из нас будет ему рожать.
Я с чемодана свалил белой девушкой,
куртка осталась на мне,
только нет больше красного дедушки,
и слуха уже нет в стране.
* * *
Вчера осознал, что я сын-одиночка,
без отца и почти без матери.
Мать жива, у нее два сына от отчима,
и живут они в красном доме.
С ним меня ничего не свяжет,
кроме Олега с четвертого,
с которым буду пить водку
впервые в пятнадцать лет.
Про отца меня можно не спрашивать.
Когда он был с моей мамой,
я был еще крохотным эмбрионом.
А когда стал эмбрионом средних размеров,
он меня обнаружил и вышел
из этой нечестной игры,
благо я успел сохраниться.
И выжил.
(Я выжил потому, что бабуля и дедуля
настояли меня рожать.)
Вылез из мамы в рваной рубашке.
Красный и солнечный, с белыми волосами.
С рождения стал по отчеству сыном дедуле,
а по факту сыном бабуле.
* * *
Помню, ты стояла нарядная,
да и я был тоже нарядный.
Только ты, скорее, как новогодняя елка,
а я просто перебрал алкоголя.
Изображая стояние, искрометно пытался
что-то тебе донести,
но мой пьяный язык,
так уставший махать словами,
на никотиновых резцах
засыпал.
Ты меня понять тогда не сумела,
я глаголу лил в тебя на пролетарском.
И ты полилась,
как дождь или слезы,
буквально лилась ниже пояса,
так натурально изображая
живой ко мне интерес,
что и мой живой
к тебе интерес
ниже пояса
изобразился.
Ты сказала, что все случится,
когда выпадет первый снег.
Ты это сказала четырнадцатого октября,
и через полтора часа
четырнадцатого октября
выпал первый снег.
Небо всегда за меня.
Я овладел пятибуквенным именем.
(Уж простите меня за сексизм.)
Четыре года произвола и рабства,
четыре года владенья тобой.
Я твоим сладким именем
стал затыкать пустоту,
суя тебя в черные дыры
моих новорожденных писем,
в которых я откусил
от тебя самый мягкий знак.
Ева взяла из Эдема
(в память о райском саде)
этому миру явить
четырехлистный клевер.
А я просто из Домодедово
(в память о том октябре)
этому миру являю
в стихах
четырехбуквенную Дашу.
А мягкий знак, который я сожрал,
во мне переварился в твердый знак
моей фрейдистской немощной натуры,
который, если верить в зодиак Стрельца,
мне больше, чем всем им, подходит.
Он, как цветок, встает на мне вопросом,
стремясь пробить своим стволом
все натяжные потолки,
которые одел не он, а я,
надел, дебил, без спроса.
Мой твердый знак
моей неведомой любви
рожден на свет,
чтобы познать твои пустоты.
И наконец, когда познаю
все твои изъяны изнутри,
я изыму тебя у матери твоей,
чтоб сделать тебя матерью
наших с тобой цветков.
Наш плод взойдет на свет,
как солнышко восходит на востоке,
ведь ты и есть восторг.
Он выразит все знаки языка
из синтаксиса немощных мычаний.
И в нем мы разглядим с тобою
от тебя откушенные знаки,
перекрещенные с моей
мужской судьбой.
Наш плод цветков взойдет на грудь твою,
как я мечтал взойти на глянцевые скалы,
чтобы в конвульсиях ломиться в цитадель
твоего любящего, ласкового сердца.
В котором бьются наши языки
неправильностью нашей детской речи.
В котором бьется пролетарская глагола,
ту, что я лил в тебя по пьяни в октябре.
Ребенок будет слышать все, что я глаголил
на своем пьяном вечном языке.
* * *
И вот шестнадцать лет смотрел на мир
из-за решетки, сделанной из перекрестных рифм.
Сквозь них прошло мое малюсенькое детство,
сквозь них, как водка в раковину утекала, утекла
моя случившаяся пропитая юность.
И вот теперь, теряя гравитацию,
в свободе форм моих написанных речей,
я сквозь решетку эту испаряюсь
и оседаю в памяти людей.
Которые меня оттуда изымают.
Кладут нагим под свой родной язык.
А я, не в силах отказать, бездумно соглашаюсь,
чтобы родиться вновь
внутри чужой прокуренной исповедальни
в виде настоящего себя.
Однако я жалею рот, порвать боясь,
ныряю в шелковую глотку на гортань.
Хочу на всякий случай своровать
красивый незнакомый голосок.
Оттуда в легкие, на встречу с никотином:
давно не виделись с родимой кислотой.
Заполнился,
и так прикольно.
И выхожу на свет в двадцать четыре года,
немного лишь, но овладев своим шершавым языком.
Я достаю из кожаного чемодана
восемь ослепительных каштанов,
которые я собираюсь полюбить,
кладя в те самые огромные штаны.
Чтоб в них прожить свою, ступающую в жизнь,
мудрую и сдержанную зрелость,
которая мне будет помогать
каштанами заполнить до краев
глубокие бездонные карманы.
И я вам их попозже покажу.
* * *
У красивых детей вместо рук – лебединые крылья.
И мы крыльями машем, пытаясь взлететь повыше,
но нам, к сожаленью, никто не вышил
аэродинамических рукавов с автопилотом.
Чуть только стопа лишена ощущенья Земли,
лишь немного приблизившись к кольцам Сатурна,
мы забываем, как близко
становимся к солнцу,
и близкое солнце нас обжигает нещадно.
Мы теряем баланс в поцелуе со светом,
мы теряем момент, становясь бесхозным пространством,
мы превращаемся в груз из костей и крови́,
ведь сгорели дотла наши врожденные перья.
Мы стопа́ми вгрызаемся в рыхлую землю,
мы целуем остаток птичьей мечты,
и с пыльцой на губах не упавших на Землю комет
мы, как усопшего в лоб на прощанье,
целуем сиреневый прах
наших обугленных крыльев.
Анна Ревякина

Родилась в Донецке в 1983 году. Член Союза писателей России, Союза писателей ДНР и Союза писателей Республики Крым. Стихи переведены на девять языков. Обладатель и финалист множества международных и национальных премий, в том числе Гран-при VIII Международного литературного фестиваля «Чеховская осень», специального приза «Слова на вес золота» еженедельника «Аргументы и факты», Национальной российской премии «Лучшие книги и издательства года – 2018» в номинации «Поэзия», премии «Книга года» (в соавторстве) и др. Автор семи книг.
АНФЕЛЬЦИЯ1
I
Страх
Откуда он берется, этот страх?
Вот белый лист, не рукопись еще.
И по нему на почерка санях
еще мурашки не ползут. И счет
неловко открывать. Сияет ночь.
Какая странная здесь близкая луна.
От берега идет такая мощь,
как будто рядом началась война,
как будто зреет ярости бутон
под толщей вод стерильной белизны.
Для каждой головы здесь свой патрон.
Здесь свой патрон для каждой головы.
II
Беломорье
Драги-драги, драги-драги. Это магия-магия…
По малой воде босая идет Анфельция.
Здесь куда ни посмотришь – лагерь.
Ни одной распахнутой дверцы.
А Анфельция все идет да идет.
Беломорье под стопами ее ластится.
Здесь куда ни посмотришь, все ровно наоборот.
Притирается Россия и ее части.
Папка мой, – говорит, – самый главный косарь.
Косит травушку, косит родненькую.
Он с матёры2 Анфельции привез букварь —
книжечку зеленую тоненькую.
Драги-драги, драги-драги. Это магия-магия…
По малой воде босая идет Анфельция.
Рассказать тебе, как у них тут было на архипелаге?
Так же страшно, как у нас сейчас в Донецке.
III
Митрофанушка Соловецкий
Прадед мой, ну ты как, Митрофанушка Соловецкий.
Я приехала к тебе ровно век спустя.
Я уверена, что ты слыл тут орешком грецким, —
твердая скорлупа.
Закрываю глаза. Я живу тут в комфортном номере,
теплый душ, белые простыни, свет не гашу в ночи.
Мы же даже не знаем, в каком ты году тут помер,
мне показывали кирпичи.
Красные, черные, с отпечатками человских ладоней.
Может быть, что какая-то из них твоя?
Или все же под громадной ногой СЛОНовьей
ничего от тебя
не осталось, никакого следочка малого,
никакого оттиска, не у кого спросить.
Мне о тебе рассказывала твоя внучка, моя мама,
в прошлое нить.
Говорила, что от тебя остались сапоги кожаные добротные
да бабушкины разговоры, полные вдовьих слез.
А дети твои все выросли, Иван стал плотником,
похоронен в городе роз3.
А Настя, счастье твое, родила мою маму почти что в сорок.
Потом моя мама родила меня – ее позднюю умницу.
А сапоги мы твои храним. Они оказались сорок второго,
сын мой хотел в них на улицу.
Для форсу или еще с какой подростковой целью,
да только бабушка заголосила: «Сними, дурак,
не в пору они, не в пору они тебе». Загородила собою двери.
Не в пору, сынок, не в пору.
Да будет так…
IV
Память
Письма неотправленные,
письма отравленные
любовью и болью.
Писались чернилами, потом, слезами, кровью,
почерком кружевным, запятыми да точками бисерными.
За какое-то время до выстрела.
Разреши поделиться мыслями…
А как вышло-то так, что теперь наша память,
этих мест святых наша рана,
принадлежит не нам, а нам лишь магнитики ширпотребные,
принадлежит тем, кто придумал формулу слов «генетическое отребье»?
Как так вышло, что горюшко мое, мою память о прадеде
отобрали и сделали гаденькой-гладенькой,
что тот валун из фундамента каталажки,
чем-то навроде лакмусовой бумажки.
Как так вышло, что то, на чем мы стоим,
вкопанные по животы да по плечи,
превратилось не в светлый дым
от поминальной свечки,
а в браваду, в расковыривание гвоздем,
в шрам людоедства, в критический пост.
Мой прадедушка стал для этой земли золотым зерном
и теперь он во весь свой рост
встал и требует: «Говори!
Говори и память не отдавай».
Ему было то ли сорок два, то ли сорок три,
когда он из ада попал в рай.
V
Секирка4
Сидели они на жердочках, словно птицы.
Росли у них на спинах голубиные крылья.
Были кирпичного цвета их немолодые лица.
И пахло страхом. Страх пахнет гнилью.
Тут сколько ни пересказывай, все равно мало,
тут сколько ни поминай, все равно всех не помянешь.
Прадед мой явился прям там, во храме,
ровесник мне, моложавый поджарый старец.
Я писала записочки, разделяя живых и мертвых.
«А у Господа живы все», – сказал иронично-колко.
А потом поэта процитировал – про статус жертвы.
И еще показал мне синюю крошечную наколку.
VI
Народ
Мой прапрадед – купец первой гильдии —
никогда не видел свою правнучку Лилию,
но она получила от него больше,
чем изумрудную брошку,
спрятанную за подкладкой.
Он передал ей хватку.
Мой прадед умер в концлагере Соловецком,
не оставил вовсе никакого наследства,
но вся семья после его кончины
находила причины
никому ничего не рассказывать.
Говорили только, что поняли с одного раза.
Мой дед прошел две войны, был ранен трижды.
За двором у него росли три крученых вишни.
Его первая женщина загуляла с немцами.
Вторая была примерной. Со второй они не были венчаны,
но прожили полвека, а может, и больше, со счета сбились,
в бедности, которой тогда гордились.
Мой отец был физиком с идеальным почерком.
Я была его младшей любимой дочерью.
Неудавшейся пианисткой – кисти-циркули.
Мы с ним вместе читали романы Пикуля.
И как будто бы даже были счастливы в девяностые,
а потом я стала взрослой.
Мой сын смешанной крови еврейско-русской,
мало говорит, много чувствует.
И на его долю тоже уже выпало всякого.
У него и моего прапрадеда характеры одинаковые.
Девятнадцатый август разменял недавно
купца первой гильдии прапраправнук.
Говорят, человек живет в памяти трех поколений после,
затем исчезает, память о нем выкуривается папиросой.
И кажется, что человека никогда и не было.
И кажется, все с листа начинается белого.
Но это не так, поверь мне, я не помню, откуда знаю,
что все они присматривают за нами из рая.
Затертое слово «народ». О чем оно? Это слово.
О том, что прапрадед мой в моем сыне родился снова.
О том, что у каждого русского за спиною невидимый ранец,
в котором прапрадед купец и дед, что был трижды ранен,
отец с идеальным почерком и прадед с наколкой синей.
Затертое слово «народ» на контурной карте России.
VII
Родинки
Думаешь, это я брежу, сошла с ума от горя,
нет, то море Белое выступает порами,
потом точек на бумагу каплет, кляксами рифм,
в которых и дiм, и дым, и Крым, и прадедушка Митрофан.
Обещал мне прийти под утро,
красивым, отмытым, реабилитированным.
В куртке с надписью Don Аbibass.
Сижу на втором этаже с сердцем заминированным.
Пришел! Пришел, но чумаз,
а все равно красивый, как Боженька,
ясный, как свет соловецкого маяка.
Принес в дар ложку, обычную ложку,
три картофелины, два буряка,
половину моркови, лаврушку да лист капустный.
Вскипятил воду, чего-то там наварганил, разлил по тарелкам.
Зачерпнула, а в ложке пусто.
Зачерпнула, и снова пусто…
Длинная стрелка
застряла на
без
четверть смерть.
«Сколько той жизни, – хохотнул в кулак, —
но самое главное в ней
с рóдными набыться и посмотреть,
хоть одним глазком посмотреть,
как родинки моей драгоценной жонки
станут носить потомки».
* * *
Вот тебе, Анфельция, лагерная моя ложка.
Запомни, Анфельция, русский народ – матрешка.
Из большой достаешь среднюю, из средней еще усредней.
Десятки, сотни, тыщи, муллионы людей.
Сижу внутри глубоко-глубоченько-глыбоко.
Маленькая такая матрешечка для брелока.
А вынь меня, и большая станет пуста-пустехонька.
Будет тебе охать.
Будет тебе причитать, Анфельция, об ушедшем.
Поздравляю тебя, Анфельция, со всем прошедшим.
На часах меж тем без десяти кончина.
Береги мужчину, Анфельция, береги своего мужчину.
Вы, бабы, структуры воловьей,
мед уст со звериной кровью,
а мы – шеи широкие да ноги глиняные,
с мамкой-землею связаны пуповиной,
потому и живем коротко
между молотом и Молотовым5,
между молотом и молохом.
VIII
Счастье
– А было ль счастье?
– Было, Анфельция, было,
твоя прабабушка сильно меня любила,
да так любила, что каждому говорила.
А я ее как любил, до последнего вдоха-выдоха.
До самой двери в бессмертье – из ада выхода.
Я и сейчас люблю. И ее, и все наше потомство.
Когда средь осенних туч, сквозь дощ, луч солнца
чертит в твоем блокноте еще одну линию,
то это мы на тебя смотрим с небес с Фотинией,
и радуемся, и кланяемся, и передаем приветы.
С некоторой задержкой, но к нам приходит и «Литгазета»,
и все те книги, над которыми с блохоловкой ночами
ты сидишь в своем городе – граде новой русской печали.
* * *
Человек человеку – приговор и расстрел.
Человек человеку – очередной обстрел.
Нас везли во тьме
в еще большую тьму
на теплоходе Глеб Бокий
учить актуальные исторические уроки.
Теперь другие уроки, не менее исторические.
Мамка моя покойная была из-под Геническа.
Папку из-под Киева занесло за каким-то…
Родословное древо у нас, что макет лабиринта.
Это еще без предков моей Фотинии драгоценной.
Знаешь, я мечтал, что выживу и куплю ей платье концертное.
Синее в пол с белым воротничком, кружевной нижней юбкой.
В мясорубке
несправедливости
я мечтал, что моя голубка
выйдет на сцену снова, все еще тонкая, но уже беременная нашим третьим,
и споет стихи про любовь.
Любовь, навечно повенчанную с лихолетьем.
IX
Сердце
под нагрузкою
под разгрузкою
бьется сердце
бьется русское
сердце атомное
сердце точное
стук да стук
сердце-молоточек
дзынь да дзынь
сердце-колокольчик
бьется сердце
и добивается
роза красная
в мире сером
ты прислушайся к сердцу русскому
под нагрузкою под разгрузкою
от рождения до бессмертия
милосердия милосердия
стон предсердий
X
Чрево
И не знаю, рассказывать ли, а может, смолчать,
наблюденье мое не из самых точных.
Сорок недель носит ребеночка в чреве мать,
растит ему сердце, легкие, головушку, позвоночник.
Из себя растит, расстается с плотью и частью души,
а он, скрюченный, в чреве ее – свет нездешний.
Ты, Анфельция, то, что говорю тебе, наверное, запиши.
А может, и не записывай, так безгрешней.
Носит маменька крошку хлеба внутри, но еще не хлеб.
Носит за тонкой стеночкой дитятко ненаглядное.
Ждет, чтобы сыне ее подрос и окреп,
молится перед неугасимой лампадою.
Богородице молится: пусть выживет, доживет,
приведет невесту, родит семерых и больше.
Ходит мамка туда-сюда, гладит рукой живот,
и чем ближе к родам, тем стеночка между мирами тоньше.
Он, конечно, вырастет, поживет свое, а в конце пути,
когда ходики на стене остановятся без пяти…
Где ты видел ходики на стене в карцере под Маяком?
Я не видел, но мне казалось. Так ли, тик ли… Чудовищным молотком
по затылку баба щербатая, самая некрасивая баба в мире,
трахнет прямого аки горбатого на краю могилы.
Общей могилы, что потом и не разберешь, где чей
сыне рожениц страны несчастной моей.
И лежат спящие вечным сном, снова младенчики
в чреве земли-матушки мальчики наши, кузнечики.
Руки за спинами связаны, в головах ветер.
Будет ли кто в ответе за них? Никто не будет за нас в ответе.
XI
Иов
Это будет повторяться снова, снова и снова —
история многострадального Иова.
Слово в слово.
Вон он жил —
светлоголовый Иов —
не жалел слов,
славил Господа
почитал,
считал овец, складывал, вычитал.
А потом весь его капитал
поделил на нуль
диавольский поцелуй.
Прямо в лоб целовал диавол каждого из детей:
троих дочерей, семерых сыновей.
Никого не осталось, чтобы отца обнять,
только их мать
выла, рвала волосы:
«Отрекись, Иов,
как дурак сидишь,
струпья скребешь черепком глиняным.
Страданье безвинное —
то значит, что нет Бога, нет Его промысла.
Ох, Иов, Иов, ничего не осталось от тебя, кроме голоса,
вот и скажи, прокляни».
Со. Лов. Ки.
* * *
Ни в одной книге об этом не сказано,
никому не пришло на ум.
То сам диавол, завладевший человским разумом,
забирался на высокий валун
и глядел на море,
губитель да рукоблуд,
говорил «я велик», а был все равно маленьким,
что кожный струп
на теле Иова,
на теле страны моей буйноголовой.
А как звали? Ногтев, Эйхманс или Бухбанд6.
Не так и важно.
Вот скажи мне, откуда в человеке талант?
От Господа, – скажешь.
Мол, целовал Отец
перед выходом,
и родился младенец.
Вдохнул, выдохнул,
заорал, присосался к груди,
не изувер совсем, новенький человечек.
А потом диавола в себе разбудил
и как давай калечить,
губить,
катовать.
К несчастiю рукою железною загонять.
Не плачь, Анфельция, их никого уж нету,
лежат костьми изнутри планеты,
А диавол? Диавол вечен.
Присматривается к человечине.
Присматривается к человеку
в любом веке.
* * *
Святцы. Библия. Стиры7.
Как думаешь, Фотиния меня простила?
По-бабьи ответь, вот ты бы простила покойного?
А конвойного?
А стукача?
А палача?
Простила.
Простила.
Тебя бы простила.
А этих бы ненавидела люто до самой смерти.
Со всей огромной бабьей воловьей силой.
Один из новозамученных все сожалел, что черти
не каются и от этого больно ему, почти умерщвленному.
Ему от этого было больно, а черти все рыготали, хвостами били.
Палачи, стукачи, надзиратели и конвойные —
нераскаянные. Штабелями легли в могилу.
Полетели головы буйные – лысые курчавые рыжие.
Полетели головы. Полетели.
А ты, дед, выжил. Погиб, но выжил,
и в девяносто умер в своей постели
в кругу семьи, под лепет правнука новорожденного,
подержал напоследок его пяточки курносейные.
И небо синее бездонное бескордонное
открылось – звездами соловецкими все усеяно.
XII
Рай
Самые жаркие да кровавые
битвы всегда за рай.
Избави нас, Господи, от лукавого.
Избави нас, детей твоих грешных.
Рождаемся бессловесными,
растем картавыми,
держимся что есть силы за край
мамкиной юбки. За ней начинается тьма кромешная.
И ничто не зорко: ни глаз, ни кончики пальцев, ни сердце.
Все тьма, все бельма, все беспросветно.
Кроме островов этих – Соловецько8.
Где и рай, и ад – всё одни, возведенные человеком стены.
На разрыв помни об этом, до последней капли кровушки русской,
и тогда есть шанс, что и сегодняшний ад станет раем звенящим.
Береги это чувство, слышишь, убереги это чувство,
меня помяни. Всех нас помяни. И живи. Живи, моя хорошая, настоящим.
* * *
То прошло все, о чем болит,
о чем стонут соловецкие стены.
О чем помнит Голгофо-Распятский скит9.
Жизнь – мгновенье, и смерть мгновенна.
Хоть и тянется день порой, что резиновый,
хоть и длится ночь бессонная, словно лагерная.
Закрой глаза мои /для покоя вечного/, Анфельция, светло-синие.
Закрой глаза свои /для сна предрассветного/, Анфельция, орехово-карие.
Что ты видишь? Свет, Анфельция, только свет,
тусклый огонек свечечки поминальной.
Это и есть мой ответ, Анфельция, на все вопросы твои ответ.
А о пустяках в другой раз как-нибудь погутарим.
* * *
А наутро разбудит тебя, Анфельция, колокол-благовест.
И пойдешь ты в старухи статные из вчерашних невест.
Так летит эта жизнь, коротенькая и злющая,
словно стрела в небо пущенная.
Целься в небо, всегда только в него, родная.
Я теперь все вижу – от рая и до самого края.
Гидра
«С историей надо жить честно и мирно,
история – гидра.
Отрубишь одну башку,
поднесешь очередному божку,
а на месте ее вырастут две.
Еще страшней.
Ну, бывай, Анфельция!
Передавай привет внучку.
Да. И если вдруг на балкон в ноябре
прилетит к тебе парочка голубей,
не прогоняй.
Шепни им, чего хошь.
А чего ты вообще по жизни хошь?
* * *
Нет, с этим не помогу.
Это уже по вашим мозгам.
А по мелочи передам».
Соловки – Москва, сентябрь – ноябрь 2023 года
1.Публикуется в сокращении.
2.Матёра – материк.
3.Город роз – Донецк.
4.Секирка – мужской штрафной изолятор в Вознесенском храме на Секирной горе.
5.«Я оправдываю репрессии, хоть там и были крупные ошибки…» – В. М. Молотов.
6.В разные годы начальники Соловецкого лагеря особого назначения.
7.Самодельные игральные карты (тюремный жаргон).
8.Соловецкие острова (поморский говор).
9.18 июня 1712 года совершилось чудесное событие. Преподобному Иову в тонком сне явилась Пресвятая Богородица с преподобным Елеазаром и сказала, что «сия гора нарекается Голгофою. На ней же имать быти великая церковь Распятия Господня на верху горы и скитом Распятским назовется».
Janrlar va teglar
Yosh cheklamasi:
16+Litresda chiqarilgan sana:
02 sentyabr 2024Yozilgan sana:
2024Hajm:
251 Sahifa 53 illyustratsiayalarMualliflik huquqi egasi:
Редакция журнала «Юность»Sakkizinchi seriyadagi kitob "Журнал «Юность» 2024"