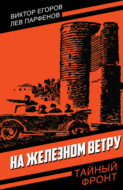Kitobni o'qish: «Новые записки следователя»
© Шейнин Л. Р., 2023
© Чертопруд С. В., ред. – состав., 2023
© ООО «Издательство Родина», 2023
* * *
Дебют
1
Осенью 1931 года, когда я был старшим следователем Ленинградской областной прокуратуры, меня вызвал однажды прокурор области.
– Звонил товарищ Крыленко, – сказал он. – Вызывает вас к себе. Не знаете, в чём дело?
– Понятия не имею, – ответил я, действительно не понимая, зачем меня вызывает «сам Крыленко», которого все мы очень любили и немного побаивались, зная его крутой характер. – Вы не спросили?
– Спросил. Но он ответил, что окончательное решение примет после разговора с вами. Одним словом, выезжайте.
И в ту же ночь я выехал в Москву, так и не догадываясь, почему меня вызывает нарком юстиции и о каком загадочном «окончательном решении» после разговора со мной может идти речь. В те годы прокуратура входила в систему Наркомата юстиции, а прокурор республики был заместителем наркома. Таким образом, Крыленко являлся самым высшим моим начальством. Мне приходилось несколько раз докладывать ему дела, и я всегда поражался его способности мгновенно схватывать суть дела и выбирать очень прицельно и точно самое важное из множества обстоятельств, показаний и улик. Близко я его не знал и был уверен, что он вообще не помнит ни меня, ни дел, которые я ему докладывал.
Теперь, в вагоне ночного экспресса, со свистом и грохотом мчавшегося сквозь ночь в столицу, я вспоминал всё, что знал о человеке, с которым мне предстоит разговор.
Я знал, что Крыленко (партийная кличка «Абрам») член партии с 1904 года, что он участник Бернской конференции и один из сподвижников Ленина, что он окончил два факультета – юридический и историко-филологический, что он профессиональный революционер.
Через пять дней после Октября, 12 ноября 1917 года, уже известный всей стране «прапорщик Крыленко» был назначен но инициативе Владимира Ильича Главковерхом и членом только что образованного Совета Народных Комиссаров.
Этот первый советский Главковерх, а затем прокурор республики, был невысоким, коренастым, крепко сшитым человеком с упрямым подбородком, бритой головой и светлыми, очень прямо глядящими на мир и людей глазами. Был он добродушен и вспыльчив, азартен и настойчив, добр и крут, страстно увлекался альпинизмом, охотой и шахматами.
Суровый на первый взгляд человек, он очень любил жизнь и людей, был столь же смешлив, как и вспыльчив, и так же быстро «отходил», как и приходил в ярость.
Альпинистом он был отличным. Охотником хорошим. Шахматистом плохим. Оратором незабываемым.
2
– Сколько вам лет, молодой человек? – спросил он, когда я вошёл в его кабинет и доложил, что явился по его вызову.
– Двадцать пять, Николай Васильевич, – ответил я, всё ещё не понимая, зачем я ему понадобился.
– Гм… Не густо… Давно работаете следователем?
– Восемь лет.
– Раненько начали. Какие предпочитаете дела? Я слыхал – убийства?
– Да, пожалуй. – Может, это чисто возрастное? – усмехнулся Крыленко. – И с годами пройдёт? Но, помнится, вы расследовали и должностные дела. Например, дело фининспекторов, которое вы мне докладывали.
– Да, – коротко подтвердил я, зная, что Крыленко любит ясные и короткие ответы.
– В шахматы играете? – неожиданно спросил он.
– Пока не научился.
– Напрасно, – поморщился он. – Отличная гимнастика для мозга! Впрочем, у вас ещё есть время лично в этом убедиться. Так вот, милый друг, возникла этакая… гм… в общем, возникла озорная, с вашего позволения, идейка назначить вас следователем по важнейшим делам. Как вы полагаете, не рановато?
– Мне трудно судить, Николай Васильевич, ведь это идейка не моя.
Он снова усмехнулся, встал, зачем-то обошёл меня кругом, весело и пристально меня разглядывая, потом открыл дверь в приёмную и крикнул:
– Соня, зайди!
Вошла его секретарша, невысокая, быстроглазая, очень живая. Крыленко потянул носом воздух и сделал страдальческое лицо.
– Создатель, опять чесноку наелась!.. О господи, как только тебя муж терпит!..
– И он тоже ест, – быстро ответила секретарша. – А когда оба едят – ничего не чувствуют и оба довольны…
– Ироды! – простонал Крыленко. – Хорошо вам ничего не чувствовать. А мне каково, сатаны!.. Скажите, молодой человек, вы тоже лопаете чеснок? И тоже его любите?
– Не очень. Если не считать колбасы с чесноком.
– Колбасы? – оживился Крыленко. – Так це зовсем друго дело, как говорят поляки. Колбаса без чеснока – какая же это колбаса?! Это чёрт знает что, а не колбаса!.. После утренней зорьки, у костра, вскипятить крепкого чая с дымком и съесть кусок ржаного хлеба с такой колбасой!.. Превосходно!..
Он засмеялся, а потом добавил:
– Соня, скажи, чтобы подготовили приказ о назначении этого старца следователем по важнейшим делам. Дать ему месяц на ликвидацию ленинградских дел и переезд в Москву И обеспечить жильём.
Через месяц я переехал в Москву и приступил к своим новым обязанностям.
А вскоре после этого, рано утром, меня вызвал Крыленко. Я застал его сидящим за шахматным столиком в обществе одного прокурора, считающегося хорошим игроком. В наркомате знали, что Крыленко часто приезжает до начала работы, чтобы поиграть в шахматы.
Посмотрев на Крыленко, я заметил его мрачный вид и понял, что он проигрывает.
– Послушайте, Шейнин, – сказал он, – сегодня же выезжайте в Смоленск. Там вскрыты крупные хищения и самое нахальное мошенничество. Местная прокуратура сама не справится. Дело сложное. Правда, там ещё никого не убили, что вас, вероятно, больше бы устроило, но ехать надо. И постарайтесь не задерживаться – предстоит другая командировка. Привет!..
Вечером того же дня я выехал в Смоленск и приступил там к выполнению задания. Дело действительно оказалось довольно сложным, и работать пришлось с большим напряжением. Впрочем, как часто бывает по делам о хищениях и взяточничестве, обвиняемые так рьяно топили друг друга и так сваливали вину один на другого, что в конце концов удалось распутать весь это клубок. Через три недели, объявив обвиняемым об окончании следствия, я выехал в Москву, захватив с собой дело, состоявшее из трёх томов.
Случилось так, что из Смоленска я выехал далеко за полночь поездом, следовавшим в Москву с тогдашней границы. Мне повезло – в этом поезде нашлось свободное место в спальном вагоне, и я занял его, предвкушая приятную возможность хорошо выспаться до Москвы.
Удобно устроившись в уютном двухместном купе, я разделся и мгновенно уснул, положив толстый портфель с делом под подушку.
3
Меня разбудил противный скрип качавшейся на петлях двери моего купе, почему-то оказавшейся открытой. Кроме того, мне было неудобно лежать – изголовье вдруг оказалось чересчур низким. За окнами купе тревожно мелькали тени железнодорожных столбов. На горизонте, с трудом пробиваясь сквозь грязную вату облаков, уже серел рассвет.
Спросонок я не сразу сообразил, что именно меня разбудило. Потом, похолодев от страшного предчувствия, я сунул руку под подушку. Портфеля не было. На полу его тоже не оказалось.
Я бросился в служебное купе, разбудил спящего проводника, но он, разумеется, ничем не мог мне помочь и ничего не мог объяснить.
Понятно, что до самой Москвы я уже не смыкал глаз, предвидя неизбежные последствия свалившейся на меня беды.
В том, что я буду арестован и предан суду, сомнений не было. Теперь я размышлял о том, по какой статье меня привлекут: будет ли мне предъявлено обвинение в преступной халатности или что-нибудь похуже.
Ужасал меня позор случившегося. И то, что мне нечего, решительно нечего сказать в своё оправдание! Положение усугублялось тем, что, по правилам, я должен был отправить следственное дело фельдсвязью, то есть специальной почтой, а не брать его с собой в вагон. Я нарушил эти правила потому, что хотел как можно скорее написать обвинительное заключение, не ожидая, пока оно придёт в Москву фельдсвязью. Но ведь именно это нарушение правил обязывало меня к особой бдительности!..
А я просто «проспал» дело в самом позорном смысле этого слова! Хорошенький дебют для следователя по важнейшим делам!..
И хорош криминалист, который сам оказывается обворованным и у которого вдобавок выкрадывают не что иное, как им же законченное дело о хищениях!..
Когда поезд прибыл в Москву, уже приближался полдень. Я решил по пути в наркомат заехать к сестре, чтобы рассказать ей о беде и предупредить, что я, скорее всего, домой уже не вернусь.
Конечно, не обошлось без слёз, и бедная моя сестра проводила меня до наркома с опухшими глазами и таким лицом, что на нас оборачивались прохожие.
– Что с вами? – спросила меня секретарша Крыленко, сразу заметив мой удручённый вид.
– Ничего… Мне срочно нужно к наркому…
– Лучше зайдите позже, – посоветовала секретарша.
– Мне нужно немедленно, понимаете – немедленно! – воскликнул я таким тоном, что она сразу прошла в кабинет Крыленко и, вернувшись оттуда, шепнула:
– Идите. Учтите только, что барометр с утра показывает грозу…
Это значит, что Крыленко утром проиграл в шахматы. Было известно, что он испытывает органическое отвращение к проигрышам в шахматы и что в таких случаях нет смысла задерживаться в его кабинете. Судьба явно подбрасывала мне неприятность за неприятностью.
Когда я вошёл в кабинет, Крыленко сидел за столом, уткнувшись в какое-то дело. Он кивнул мне головой и спросил:
– Ну, как эти смоленские жулики? Закончили следствие?
– Закончил, – пролепетал я. – Только… Видите ли…
– Ну ладно, – перебил он меня. – Обвинительное заключение готово? Или сначала хотите доложить дело?
– Нечего мне докладывать, нечего! – с отчаянием воскликнул я. – Дело украли!..
– Что?! – Крыленко вскочил с места и выпрямился. – Как это так – украли?! Что за идиотские шуточки!..
– Это не шуточки… К несчастью, не шуточки… – с трудом выдавил я из себя. – Действительно, украли…
– Где? Когда? Кто? – загрохотал Крыленко. – Да говорите толком.
– В поезде… На обратном пути… Портфель… Под подушкой… Я заснул… – довольно бессвязно стал я объяснять.
Он слушал не садясь и не сводя с меня сердитых глаз. Я еле стоял на ногах. Потом он сделал несколько шагов по кабинету, что-то бормоча про себя, а затем подошёл ко мне и взял меня за плечо.
– Но дело восстановить можно? – спросил он.
– Трудно. В одном из томов подшиты подлинные документы. Их не восстановишь…
– А-а, чёр-рт! – Он яростно махнул рукой. – Какого дьявола вы взяли дело с собой, а не отправили фельдсвязью?!
– Я хотел поскорее выполнить задание. И чтобы не терять времени…
– Зато вы потеряли дело, мальчишка!.. – закричал Крыленко и снова зашагал по кабинету, потом опять подошёл ко мне.
– Да, дур-рацкая истор-рия! – протянул он. – Особенно, так сказать, для дебюта, молодой человек… Кстати, вы кому-нибудь сказали о случившемся?
– Только вам и своей сестре.
– Гм… Между прочим, сестре сообщать было необязательно… А у нас никому?
– Никому.
– Уже неплохо, – озорно усмехнулся Крыленко, и глаза его потеплели. – Так вот, маэстро, пусть это всё пока останется между нами… Пока это наш с вами секрет, молодой и не слишком везучий человек… Доходит? Нет, вижу по вашей физиономии, что не дошло… Так слушайте внимательно: любители позлорадствовать найдутся всюду. Вот уж продукт совсем не дефицитный! К сожалению. А подкузьмить молодого выдвиженца – просто подарок для таких любителей, чёрт бы их побрал!.. Теперь дошло?
– Дошло, Николай Васильевич, – ответил я, постепенно приходя в себя и уже догадываясь, что предсказания барометра, как почти всегда, не подтвердятся.
Он снова усмехнулся, подошёл к правительственному телефону и набрал номер начальника транспортного управления ОГПУ.
– Привет. Говорит Крыленко. Почему вы так распустили железнодорожных воров?.. На какой линии? Да на всех линиях, как я полагаю. Вчера на перегоне Смоленск – Москва обокрали нашего следователя по важнейшим делам… Да-да, и портфель с делом… Почему не отправил дело фельдсвязью? А вот это уж не ваше дело! Я ему приказал так поступить, к вашему сведению, я!.. Начните розыск, а не задавайте неуместных вопросов! Тем более что они не относятся к вашей компетенции.
Он положил трубку и посмотрел на меня.
– Будут искать. А вы извольте взять себя в руки и не ходите с видом потерянного. В жизни всякое случается, даже со следователями по важнейшим делам. И помните – никому ни слова!.. Это приказ, а не рекомендация. Извольте выполнять!.. Личные документы тоже спёрли?
– Да. Служебное удостоверение.
– А партбилет?
– К счастью, я оставил его в своём служебном сейфе.
Крыленко обрадовался.
– Именно к счастью! – сказал он. – А то пришлось бы заявить в партком. С партией не секретничают. Теперь возьмите мою машину и отправляйтесь домой. Вам надо прийти в себя. И не вешайте носа на квинту.
Я поблагодарил его и пошёл к дверям. На пороге он меня окликнул:
– Минутку! А ну, скажите мне, дружок, что вы думали, идя ко мне с этой милой новостью?
– Я думал… Я ждал ареста…
– Ареста?! – Он всплеснул руками. – Ах, как легко, как постыдно легко у нас иногда относятся к этому слову! Как вы могли подумать это?! Как вам не стыдно?!
– Но ведь у меня украли дело… Я отвечаю за него головой, – стал я оправдываться, – и потом… Мало ли что могли подумать…
– Вы с ума сошли! Что подумать?
– Ну, не знаю… Мало ли что может прийти в голову в таких случаях… Для подозрения нет ни правил, ни границ…
Горькая гримаса перечеркнула его лицо.
– Как вы сказали? – тихо произнёс он. – «Для подозрений нет ни правил, ни границ…» Да, к несчастью, нет!..
Несмотря на своё волнение, я заметил, с какой горечью он говорил об этом. Но, признаться, всё значение его слов я понял куда как позже…
4
На следующий день, когда я пришёл на работу, секретарша протянула мне телеграмму:
– Вот только что поступила, – сказала она. – Из Вязьмы.
– Откуда? – удивился я, потому что в Вязьме у меня никогда не было ни близких, ни знакомых, ни дел.
– Из Вязьмы, – повторила секретарша и была права, так как телеграмма действительно была из Вязьмы и в ней значилось:
«Москва Прокуратура Республики Следователю по важнейшим делам Шейнину Получите главном почтамте до востребования ваше имя срочную посылку тчк Подробности письме тчк Привет».
Я ещё больше удивился. Какая Вязьма, какая посылка, какое письмо? Кто автор этой анонимной телеграммы?
Позвонив на главный почтамт, я выяснил, что посылка из Вязьмы, адресованная мне, действительно поступила. Пришлось поехать на почтамт.
Когда я вышел из подъезда наркомата, то столкнулся с Крыленко, только что выведшим из вестибюля свой велосипед, на котором он обычно приезжал на работу и ездил в Кремль на заседания.
– Ну, как дела, Нат Пинкертон? – спросил он и, не дожидаясь ответа, хлопнул меня по спине, вскочил на велосипед и помчался к Спасским воротам.
На главном почтамте мне вручили объёмистую посылку, обшитую суровым полотном. Я вскрыл полотно и чуть не закричал от счастья – это был мой портфель и в нём все три тома дела. Восемьдесят рублей, оставшиеся у меня после командировочных расходов, портрет любимой и все мои личные документы были целы и невредимы.
Сверху лежало письмо, написанное почти каллиграфическим почерком, но с изрядным количеством орфографических ошибок. Привожу его текст:
«Гражданин следователь Шейнин!
Ваш портфель шарахнули по чистому недоразумению. Мы приняли вас за одного из тех фраеров, что ездят в международных вагонах. Не обижайтесь, ошибки всегда возможны при нашей кипучей работе, когда вечно приходится спешить как на пожар. Дело мы прочли коллективно. Смоленские ворюги так нахально капали друг на друга, что возвращаем дело для направления по подсудности согласно УПК. Ваша девушка нам понравилась, передайте ей привет. А также кланяйтесь от нашей поездной бригады гражданину Крыленко, который, по слухам, есть справедливая личность, хотя лучше с ним дела не иметь. Один из нашей артели слыхал его на митинге в Питере, ещё в восемнадцатом году, и говорит, что Крыленко такой оратор, что аж зажигает сердца и вышибает слезу.
С приветом и пожеланиями, а письмо не подписываем по причине – на то и щука в море, чтоб карась не дремал.
С приветом, Караси».
Прочитав это письмо, я помчался в наркомат, но Крыленко ещё не вернулся. Уже в конце дня я доложил ему о посылке и показал письмо. Прочитав его, он начал так смеяться, что слёзы появились у него на глазах.
– Ой, не могу, уморили, положительно уморили, – стонал он, задыхаясь от смеха. – «Справедливая личность, хотя лучше-де с ним дела не иметь», ха-ха-ха… Ах, черти драповые! Как бы мне хотелось, дружок, повидаться с этой «поездной бригадой» и побеседовать с этими плутами, если б вы только знали. Особенно с тем, который слышал меня в Питере, на митинге…
Крыленко вдруг замолчал, погрустнел и тихо добавил:
– Да, Питер, восемнадцатый год. Смольный, митинги, Владимир Ильич… Как всё это близко и как уже далеко!.. Как рано, как трагически рано он от нас ушёл!.. И как его всем нам не хватает, мой мальчик!
Он опять замолчал, а потом ещё тише, как бы размышляя вслух, произнёс:
– Был бы он жив, и всё было бы не так, совсем-совсем не так.
– В каком отношении, Николай Васильевич? – спросил я, почувствовав за этими словами боль и какой-то большой, хотя ещё и непонятный мне смысл.
Он как бы очнулся, посмотрел на меня долгим, полным горечи взглядом, которого я никогда не забуду, и медленно протянул:
– Ах, как вы ещё молоды!.. В каком отношении – вы спрашиваете? Да во всех отношениях, во всех! Да во всех отношениях и решительно для всех нас, для всех! Для вас, для меня, вот для тех прохожих на улице и даже для авторов этого письма!..
Волчья стая
В начале 1928 года, в ту пору, когда я был переведен в Ленинград, там была довольно значительная преступность, и ленинградские следователи были завалены всевозможными делами. В городе неистовствовал нэп. Он отличался от московского нэпа прежде всего самими нэпманами, которые здесь в большинстве своем были представителями дореволюционной коммерческой знати и были тесно связаны с еще сохранившимися обломками столичной аристократии. Ленинградские нэпманы охотно женились на невестах с княжескими и графскими титулами и в своем образе жизни и манерах всячески подражали старому петербургскому «свету».
Нэпманы нередко обманывали руководителей государственных трестов и предприятий, с которыми они заключали всевозможные договоры и соглашения. Стремясь разложить тех советских работников, с которыми они имели дело, нэпманы старались пробудить в них стремления к «легкой жизни», действуя подкупом и всякого рода мелкими услугами, угощениями и «подарками». А соблазнов было много.
В знаменитом Владимирском клубе, занимавшем роскошный дом с колоннами на проспекте Нахимсона, функционировало фешенебельное казино с лощеными крупье в смокингах и дорогими кокотками. Знаменитый до революции ресторатор Федоров, великан с лицом, напоминавшим выставочную тыкву, вновь открыл свой ресторан и демонстрировал в нем чудеса кулинарии. С ним конкурировали всевозможные «Сан-Суси», «Италия», «Слон», «Палермо», «Квисисана», «Забвение» и «Услада».
По вечерам открывался в огромных подвалах «Европейской гостиницы» и бушевал до рассвета знаменитый «Бар», с его трехэтажным, лишенным внутренних перекрытий залом, тремя оркестрами и уймой столиков, за которыми сидели, пили, пели, ели, смеялись, ссорились и объяснялись в любви проститутки и сутенеры, художники и нэпманы, налетчики и карманники, бывшие князья и княгини, румяные моряки и студенты. Между столиков сновали ошалевшие от криков, музыки и пестроты лиц, красок и костюмов официанты в белых кителях и хорошенькие, кокетливые цветочницы, готовые, впрочем, торговать не только фиалками.
«Короли» ленинградского нэпа – всякого рода Кюны, Магиды, Симановы, Сальманы, Крафты, Федоровы обычно кутили в дорогих ресторанах – «Первом товариществе» на Садовой, Федоровском, «Астории» или на «Крыше» «Европейской гостиницы». Летом славился ресторан курзала Сестрорецкого курорта с его огромной открытой, выходящей на море террасой и только входившим тогда в моду джазом. Сюда любили приезжать на машинах ночью, после премьер в «Свободном театре» Утесова, или в мюзик-холле, или в театре комедии, арендованном в порядке частной антрепризы Надеждиным и Грановской – очень талантливыми комедийными актерами, любимцами города.
Здесь, за роскошно сервированными столиками на прохладной от ночного залива мягко освещенной террасе, под тихий рокот прибоя, «короли» завершали миллионные сделки, торговались, вступали в соглашения и коммерческие альянсы и тщательно обсуждали «общую ситуацию», которая, по их мнению, в 1928 году складывалась весьма тревожно.
Самые дальновидные из них начинали понимать, что «временное отступление» подходит к концу и что молодая, но уже окрепшая за эти годы государственная промышленность, кооперация и торговля начинают наступать на частный сектор. Нэпманов особенно беспокоила система налогового обложения их доходов, и они наперебой проклинали начальника налогового управления ленинградского облфинотдела Сергея Степановича Тер-Аванесова, руководившего работой фининспекторов и известного тем, что к нему «подобрать ключи невозможно».
Правда, в самом конце 1927 года прополз слушок, что лакокрасочник Николай Артурович Кюн и шоколадник Альберт Карлович Крафт сумели каким-то загадочным путем добиться благосклонности Тер-Аванесова, но они сами в ответ на вопросы своих знакомых «королей» так горячо и искренне уверяли, что эти слухи сущий вздор, что им в конце концов поверили.
И вдруг в начале 1928 года начались грозные события: были арестованы в течение одной ночи и Тер-Аванесов, и более десятка фининспекторов, и многие крупные нэпманы, в том числе Крафт и Сальман, Магид и Федоров, и многие, многие другие. По городу поползли слухи, что следственные органы вскрыли многочисленные факты дачи нэпманами взяток фининспекторам за снижение налогов.
Знаменитый Кюн сбежал в неизвестном направлении. На его фабрику лакокрасок был наложен арест. Чуть ли не в одну ночь с Кюном сбежал и крупный нэпман мебельщик Янаки, грек из Одессы, в руках которого была сосредоточена чуть ли не вся торговля антикварной мебелью.
Вместо арестованных фининспекторов были назначены другие, и подступиться к ним уже было абсолютно невозможно.
«Вечерняя Красная газета», имевшая в те годы широкую подписку в связи с тем, что в качестве приложения к ней печатался сенсационный «дневник фрейлины Вырубовой» – любимицы императрицы и подруги Гришки Распутина, – поместила довольно глухую, но весьма зловещую заметку о том, что следствие по делу группы фининспекторов, незаконно снижавших нэпманам налоги, успешно разворачивается и выясняются все новые лица, причастные к этим преступлениям.
Ночные поездки в Сестрорецк и кутежи в «Астории» и на «Крыше» прекратились. Начали закрываться многие частные магазины и товарищества. Лихачи и владельцы машин с желтым кругом на борту, обозначавшим, что эта машина работает на прокате, простаивали без дела на стоянках – пассажиров почти не было.
«Линия фронта» была явно прорвана во многих направлениях.
Большое групповое дело фининспекторов и нэпманов, получавших и дававших взятки, поступило в мое производство. В этом многотомном деле были десятки эпизодов, тысячи всякого рода документов, много экспертиз. Работать приходилось очень напряженно, и областной прокурор, наблюдавший за следствием, торопил с его окончанием, так как дело привлекало большой общественный интерес.
Существует мнение, столь же распространенное, сколь и ошибочное, что по так называемым хозяйственным и должностным делам следователю редко приходится встречаться с человеческими драмами, психологическими конфликтами и большими чувствами. Это далеко не так. Конечно, по делам о преступлениях бытовых, вроде убийств на почве ревности, доведения до самоубийства, понуждения к сожительству и т. п., сама «фабула» дела выдвигает перед следователем прежде всего вопросы психологические, связанные с любовью, ревностью, местью, коварством, обманом, насилием над чужой волей и прочим. По таким делам невозможно закончить следствие, не выяснив до конца всей суммы этих вопросов, имеющих. первостепенное значение хотя бы потому, что они освещают мотивы совершенного преступления, причины и обстоятельства возникновения преступного умысла и подготовку к его осуществлению.
Конечно, в деле о даче и получении взятки эти вопросы иногда вообще не всплывают, и следствие, прежде всего выяснив самый факт взяточничества, должно ответить на вопрос, за что была дана и получена взятка. Как и в каждом уголовном деле, здесь нельзя ограничиваться признанием обвиняемых, давших и получивших взятку, ибо ставка на признание обвиняемых – как «царицу всех доказательств» – всегда свидетельствует либо о юридической и психологической тупости следователя, либо о его нежелании или неумении справиться со своими обязанностями. В деле фининспекторов и нэпманов почти все обвиняемые признались. Но это признание надо было объективно проверить и подтвердить документами, фактами, точно установленными цифрами, поскольку речь шла о незаконном снижении налогов.
Поэтому буквально по каждому из многочисленных эпизодов дела я считал своим долгом точно установить факт и размеры незаконного снижения налога, как результата данной и полученной взятки.
С другой стороны, меня не меньше занимал вопрос, имевший, как я был убежден, и социально-психологическое значение: как могло случиться, что значительная группа людей, в том числе и коммунистов, поставленных на ответственные участки нашего финансового фронта, встала по существу на путь измены, оказавшись в одних случаях перебежчиками, в других – лазутчиками врага?
Я старался найти ответ на этот вопрос в биографии, характере, условиях жизни каждого из фининспекторов, привлеченных по этому делу. Постепенно выяснилась и эта сторона дела, и вскрылись разные причины, мотивы и обстоятельства – пьянство и моральная неустойчивость, неизбежное сползание на дно на почве бесхарактерности и беспринципности, жадность и стремление к. легкой жизни, очень последовательное и тонкое обволакивание со стороны нэпманов. Один становился взяточником потому, что никогда не имел за душой ни искренних убеждений, ни твердых взглядов, ни веры в дело, которому должен был служить. Другой начал пьянствовать и постепенно, незаметно для самого себя, стал алкоголиком и пропил и свою честь и свою судьбу. Третий, будучи раньше человеком честным, подпал под влияние дурной среды и, начав с мелких подношений и одолжений, которые он принимал от нэпманов, сумевших к нему подойти, потом уже стал матерым взяточником, махнувшим на все рукой по известной формуле «пропади все пропадом». Четвертый, подпав под влияние жены – цепкой и жадной бабенки, неустанно укоряющей за то, что «все люди как люди живут, а я одна, несчастная, мучаюсь – даже котиковой шубки себе справить не могу», – принимал в конце концов эту котиковую шубку от налогоплательщика и уже оказывался у черта в лапах.
Мне запомнился любопытный эпизод по этому делу, когда нэпман Гире, человек очень ловкий и вкрадчивый, сумев всучить котиковую шубку фининспектору Платонову, без ума влюбленному в свою молоденькую, хорошенькую и очень требовательную жену, – потом стал из этого Платонова веревки вить до такой степени, что начал от его имени получать взятки у нэпманов и, присваивая львиную долю себе, заставлял Платонова делать все, что он требовал. Платонов – молодой белокурый голубоглазый человек с добродушным лицом и полногубым, мягко очерченным ртом чувственного и бесхарактерного человека, пытался пару раз взбунтоваться, но Гире, уже считая себя полновластным хозяином этого человека, только выразительно поднимал брови и произносил своим скрипучим голосом неизменную фразу: «Вы, кажется, милейший, начинаете забывать, чем мне обязаны».
Это произносилось в таком открыто угрожающем тоне и сопровождалось таким злым и холодным взглядом, что Платонов начинал что-то лепетать и извиняться, проклиная в глубине души и этого дьявола, и свою хорошенькую жену, и ту страшную котиковую шубку, которая превратила его в раба…
Я хорошо помню, что тогда, как и в последующие годы своей следственной работы, сталкиваясь со многими фактами подчинения слабохарактерных, малоустойчивых, хотя в прошлом и неплохих людей чужой злой и преступной воле, я всегда жалел этих несчастных, хотя они и заслуживали презрения за свою тупую, какую-то скотскую, недостойную человека безропотность, превращавшую их в белых рабов. Безволие – сестра преступления, и как часто мне приходилось наблюдать это зловещее родство!..