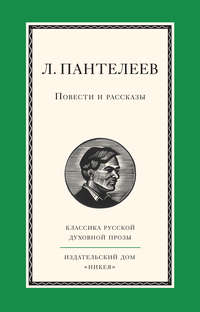Kitobni o'qish: «Повести и рассказы»
Предисловие
«Всю жизнь исповедуя христианство, я был плохим христианином. Конечно, догадаться об этом нетрудно было бы и раньше, но, может быть, впервые я понял это со всей грустной очевидностью лишь в тот день, когда от кого-то услышал или где-то прочел слова Н. Огарева о том, что невысказанные убеждения – не есть убеждения. А ведь я почти весь век свой (исключая годы раннего детства) должен был таить свои взгляды». Этими словами начинается повесть Л. Пантелеева «Верую». Покаянная книга-исповедь, увидевшая свет (как и завещал автор) спустя три года после его смерти, взбудоражила литературный мир того времени. Тот самый Леонид Пантелеев, автор известной всем книги «Республика Шкид»! Автор, которым гордилась советская литература: вчерашний беспризорник, ставший известным писателем. Им гордились, на него равнялись, его приводили в пример! «Такой» человек – и вдруг христианин. Это стало неожиданностью для всех, кроме разве что людей из самого близкого круга писателя. Всю жизнь Пантелеев скрывал свою веру, и это, как можно увидеть из книги «Я верую», очень угнетало его. Что же в таком случае заставляло писателя молчать? На этот вопрос не сложно ответить, если вспомнить, в какое время ему довелось жить.
Алексей Еремеев (настоящие имя и фамилия писателя) родился в 1908 году. Отец его, вопреки сложившемуся мнению, не погиб в Первую мировую войну. Эта версия гибели отца известна нам из произведений Пантелеева, который не мог в советское время написать правду о его смерти. Отец писателя был офицером царской армии, участником Русско-японской войны. За хорошую службу царь наградил его орденом Святого Владимира, дававшим офицеру статус потомственного дворянина. В воспоминаниях об отце Пантелеев замечал, что тот хоть и верил в Божий Промысел, крестился перед сном, перед едой и после еды, носил нательный крест, ходил к исповеди и причастию, но не был глубоко религиозным человеком. Зато мать Алеши, по словам писателя, была его «первым другом и наставником в вере». Она с благоговением относилась к церковной службе и эту любовь к богослужению передала сыну. «Это она, мама, учила меня христианству – живому, деятельному, активному и, я бы сказал, веселому, почитающему за грех всякое уныние». Мама всегда брала с собой в церковь маленького Алешу, а дома рассказывала ему разные библейские истории. «Но даже, пожалуй, не этими урочными беседами учила и воспитывала нас прежде всего мама. Учила она каждый день и каждый час, добрым примером, собственными поступками, всем, что делала и о чем говорила», – вспоминал Пантелеев.
В 1916 году Алексей поступил во Второе Петроградское реальное училище, окончить которое ему было не суждено. В 1919 году ЧК арестовала отца Еремеева. Он содержался в холмогорском изоляторе и там, по всей видимости, был расстрелян. Мать Алексея вывезла троих своих детей из Петрограда в Ярославскую губернию. Семья жила очень бедно, впроголодь. От этой серой, беспросветной, унылой и голодной жизни подросток просто сбежал. Бродяжничая, в поисках быстрого заработка научился подворовывать. Впоследствии со жгучим стыдом он будет вспоминать свою первую кражу – у монахинь.
Неудивительно, что в конце концов он привлек внимание следственных органов и оказался – при живой матери – в колонии для сирот-беспризорников. Это была Школа социально-индивидуального воспитания имени Достоевского для трудновоспитуемых, сокращенно «Шкид». Именно в эти годы и появилась кличка, ставшая впоследствии основой псевдонима писателя, – Ленька Пантелеев. Так, сравнивая с известным питерским налетчиком, Алексея прозвали сверстники. Надо сказать, что в 20-е годы носить фамилию бандита было куда безопаснее, чем открыть, что отец у тебя – казачий офицер, а мать – из купеческой семьи. Воспоминания о тех временах позднее найдут отражение во многих произведениях писателя, таких как «Ленька Пантелеев», «Часы» и др.
Именно в Шкиде Еремеев-Пантелеев познакомился с Гришей Белых, будущим соавтором знаменитой «Республики Шкид». Позднее вместе они написали еще несколько произведений. Теплые отношения друзья сохранили на всю жизнь.
В 1936 году Григория Белых арестовали по доносу мужа его сестры. Белых задолжал ему за квартиру, и родственник решил наказать должника: передал тетрадь с его стихами в НКВД. В то время решение бытовых вопросов таким образом не было такой уж редкостью. Белых посадили на три года. У него остались жена и двухлетняя дочка. Пантелеев долго, но, к сожалению, безуспешно хлопотал за товарища, даже писал телеграммы самому Сталину. Посылал в тюрьму деньги и передачи. Друзья переписывались все три года заключения Белых. Но встретиться больше не смогли: Григорий умер в тюрьме. Его так и не оправдали, и в последующие годы Алексей Иванович не мог переиздать «Республику Шкид», написанную вместе с «врагом народа». Ему много раз предлагали переиздать книгу без имени соавтора, но он неизменно отказывался. Из-за этого его имя тоже больше нигде не упоминалось в течение долгого времени.
После периода «неистового, воинствующего безбожия», через который, поддавшись настроению времени, прошел Пантелеев в юности, в его душу снова вернулась вера. Но быть христианином в те годы не только считалось постыдным, это было просто опасно. Нательный крестик, замеченный бдительным оком «сознательных товарищей», мог стать основанием для строгого выговора, увольнения и даже вызова в органы. А уж поход в церковь! «Выходишь из притвора в церковь, – вспоминал Пантелеев, – и глаза уже сами собой начинают косить: направо – налево. Кто здесь оттуда? И вдруг становится стыдно. Осеняешь себя крестом, опускаешься на колени. И тут уже нисходит на тебя благодать, и ты думаешь (или почти не думаешь) о тех, кто рядом или за спиной. Ты молишься, ты с Богом, и тебе все равно, что будет: вызовут, сообщат, посадят… Много раз замечал я, что и на меня с опаской косится какой-нибудь дядька. Но вот и ему становится невмоготу. Не желая знать о моем присутствии, он опускается на колени, молится…»
За ним следили, подсылали провокаторов, он ждал, как и многие в те годы, ночного телефонного звонка или стука в дверь, боялся однажды увидеть в газете заголовок вроде «Детский писатель в рясе». Но почему-то так и не трогали, возможно, потому, что, как писал в своей книге-исповеди Пантелеев, он «не ставил свечу на подсвечник; молился, но слова Божьего не проповедовал». Особенно тяжелым испытанием для христиан стала перепись 1937 года, когда в опросные листы включили графу «Вероисповедание». «Если уж честно, то не только волновался, но и трусил. Как волновались и трусили миллионы других советских людей. Но громко, и даже, пожалуй, с излишней развязностью, ответил: православный». Волновались, как впоследствии оказалось, не напрасно: после этого опроса в лагеря были отправлены десятки тысяч верующих.
В литературу Алексей Иванович вернулся только в 1941 году. Редактор журнала «Костер» попросил его написать рассказ «на моральную тему»: о честности. «Я было подумал, – писал потом Еремеев, – что ничего путного не придумается и не напишется. Но в тот же день или даже час, по пути домой стало что-то мерещиться: широкий приземистый купол Покровской церкви в петербургской Коломне, садик за этой церковью… Вспомнилось, как мальчиком я гулял с нянькой в этом саду и как подбежали ко мне мальчики старше меня и предложили играть с ними «в войну». Сказали, что я – часовой, поставили на пост около какой-то сторожки, взяли слово, что я не уйду, а сами ушли и забыли обо мне. А часовой продолжал стоять, потому что дал «честное слово». Стоял, и плакал, и мучился, пока перепуганная нянька не разыскала его и не увела домой». Многим знако́м сюжет рожденного из этих воспоминаний рассказа «Честное слово». Произведение встретили настороженно: блюстителям коммунистической морали показалось, что герой в своих представлениях о том, что такое хорошо и что такое плохо, опирается на собственное понимание чести и честности, а не на то, как они истолкованы в коммунистической идеологии. Рассказ в итоге все же напечатали, но подозрения эти были не случайны. Пантелеев, опасаясь вслух заявлять о своих убеждениях, нашел возможность выразить то, что было у него в душе, используя эзопов язык. Это был его способ, пусть и не явно, за ширмой, «поставить свечу на подсвечник». Во многих его рассказах и повестях, опубликованных в советскую пору, просматривались христианские мотивы. Правда, заметить это могли только те, кто исповедовал ту же веру.
Оставшись в блокадном Ленинграде, Пантелеев едва не погиб. Неоднократно он оказывался на краю смерти, и каждый раз, когда ситуация виделась совсем безнадежной, его спасала молитва. Однажды его задержал на улице человек «из органов» и повел в участок, а потом, заведя за угол, внезапно отпустил. В другой раз, когда он от голода не мог пошевелиться и с огромным трудом выбрался из квартиры на лестничную клетку, вдруг на помощь пришла незнакомая женщина. Таких случаев немало в воспоминаниях Пантелеева.
В одной из его «блокадных» записей 1941 года есть такие строки: «Кажется, впервые в истории Русской Православной Церкви этой зимой в Ленинграде не служили литургии – за неимением муки для просфор. Служили «обеденку». Что это такое – не знаю». Судя по этой записи, писатель, едва стоящий от голода на ногах, находил в себе силы, чтобы ходить в храм. Что в это время и в этом месте само по себе было настоящим христианским подвигом.
Сам писатель Пантелеев считал себя плохим христианином, укорял себя в том, что не несет в мир свет веры. Но разве сама его жизнь не является свидетельством обратного? Пройдя, подобно первым христианам, гонимым и преследуемым, вынужденным скрываться и опознавать друг друга по тайным знакам, трудный, полный испытаний путь, он выстоял. Не отступил, не уклонился, не свернул, выбирая более легкую и безопасную дорогу. Отказываясь предать память друга, чтобы снять с себя подозрения; продолжая носить нательный крестик, что было само по себе приговором в то время; осознавая опасность дерзкого слова «православный» в графе «вероисповедание», – он, так же как и маленький часовой из его рассказа, оставался на своем посту. Потому что дал слово.
Татьяна Клапчук
Верую
Главы из повести
Всю жизнь исповедуя христианство, я был плохим христианином. Конечно, догадаться об этом нетрудно было бы и раньше, но, может быть, впервые я понял это со всей грустной очевидностью лишь в тот день, когда от кого-то услышал или где-то прочел слова Н. Огарева о том, что невысказанные убеждения – не есть убеждения. А ведь я почти весь век свой (исключая годы раннего детства) должен был таить свои взгляды. Впрочем, не знаю, то ли я слово употребил: должен. По Огареву, НЕ должен. Знаю только, что так поступать вынужден был не я один, а тысячи и даже тысячи тысяч моих единомышленников и сограждан. Потому что многих из тех, кто НЕ таил, давно уже нет с нами. Не всех этих людей мы знаем, не все они и в будущем будут разысканы (не они, конечно, а могилы их), не все будут названы по именам, но и не названные да святятся до скончания века их великие – все до единого великие – имена!..
Сейчас, когда, подводя итоги, я надумал писать свою исповедную повесть, я еще раз вспомнил слова Николая Огарева, взвесил их, задумался над ними и – показалось мне, что, может быть, все-таки не всегда и не ко всему приложима эта огаревская максима.
Ведь делом, а не словом подкрепляются и утверждаются убеждения. Вера без дел мертва есть1. Без дел, а не без слов… Но нет – все это я себе в оправдание и в утешение пишу. Ведь в той же великой книге сказано, что, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме2.
И вот именно потому прежде всего и называю я себя дурным христианином, что редко, слишком редко ставил я свечу на подсвечнике, и если и светила она когда-нибудь кому-нибудь, то очень слабым, отраженным светом. Этот грех, вместе со многими другими, десятки лет камнем лежит на моей душе.
И все-таки я не могу не считать себя человеком счастливым. Да, жизнь моя пришлась на годы самого дикого, самого злого, жестокого и разнузданного безбожия, всю жизнь меня окружали неверующие люди, атеисты, в юности было несколько лет, когда я и на себе испытал черный холод безверия, а между тем я считаю, что мне всю жизнь самым чудесным образом везло: я знал очень много людей духовно глубоких, верующих, ведающих или хотя бы ищущих Бога, а с некоторыми из этих людей даже был связан близкой дружбой.
«Чудесным образом» я сказал не случайно, не красного словца ради, а потому что ни я не искал этих людей, ни они меня не искали, а просто так получалось, будто сам Господь Бог посылал нас друг другу навстречу.
Ну как же иначе объяснишь и растолкуешь такое вот явление.
Весной 1926 года пришел за чем-то в ленинградский Дом книги, в детский отдел Госиздата (где готовилась тогда к печати «Республика Шкид»), стою где-то в полутемном коридоре, покуриваю, отдыхаю от редакционного шума, от лихорадочно-вдохновенного голоса Маршака, от ослепительных шуток Олейникова, Шварца, Андроникова3, просто от многолюдья. Вдруг распахнулась дверь, и в коридоре появляется мой редактор Евгений Львович Шварц – молодой, стройный, красивый и такой возбужденный, распаренный, как будто он только что танцевал или в снежки играл. Через плечо у него перекинуты длинные типографские гранки, он направляется в корректорскую. Но прежде чем открыть дверь, он делает шаг в мою сторону, прямо и весело взглядывает на меня большими радостными глазами и спрашивает:
– Ты в Бога веришь?
Отвечаю без малейшего стеснения, не задумываясь:
– Да. Верю.
– Я – тоже, – говорит он. И, с той же веселой, счастливой, совсем еще юношеской улыбкой сжав мою руку, слегка тряхнув ее, он бежит со своими бумажными лентами к дверям корректорской.
Что же – этот коротенький разговор получил какое-нибудь развитие, был продолжен? Нет, никогда он не был продолжен. Почему нет? А думаю, прежде всего потому, что оба мы (особенно Шварц) пуще смерти боялись громких слов, велеречия, ханжества, оба мы хороший юмор почитали за четвертую христианскую добродетель, а можно ли с юмором говорить о Боге?! Весело – да, не только можно, но, пожалуй, и нужно, а с юмором – разве что кощунствовать впору.
И вот все долгие тридцать пять лет нашей дружбы мы довольствовались тем, что знали друг о друге самое значительное, что может узнать один человек о другом, понимали, что мы единомышленники, братья, дети одного Отца… А говорить об этом не говорили. Как никогда, кстати, не говорили мы и о нашей дружбе. Кажется, только один раз Шварц произнес это слово, и мне больно вспомнить, при каких обстоятельствах оно было сказано. По легкомыслию ли, по небрежности, по лености я не прочел за ночь рукопись его пьесы, которую он мне принес вечером, и, осерчав, покраснев, даже задрожав, он сказал мне:
– Так друзья не поступают!..
…Бывал ли он в церкви? Думаю, что только при случае – на венчании, на панихидах, на крестинах. Молиться же в церковь на моей памяти не ходил. Но не только без усмешки, а с большим уважением рассказывал о людях богомольных, – например, о Владимире Ивановиче Смирнове, о нашем прославленном математике, академике, – о том, как тот каждую субботу ездит из Комарова в Никольский Морской собор ко всенощной. И с еще большим почтением (даже с некоторым трепетом) отзывался Евгений Львович (да и он ли один?) об архиепископе Крымском и Симферопольском Луке4 – об этом удивительном человеке, который в юные годы учился на медицинском факультете университета, работал врачом, хирургом, в трудные для Церкви двадцатые годы, не оставляя врачебной деятельности, принял сан священника, овдовев, постригся в монахи, был хиротонисан во епископы, был арестован, без малого двадцать лет провел в заключении и в ссылке, а когда в годы войны его освободили, он сана не снял, до самой смерти возглавлял Крымскую епархию, продолжая одновременно научную, врачебную и преподавательскую работу. В 1946 году преосвященный Лука (в миру проф. В. Ф. Войно-Ясенецкий) получил Сталинскую премию первой степени за научные труды «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов». Архиепископ Лука – это один из тех немногих, кто не только не таил своих высоких убеждений и не ставил свечу под сосудом, но, претерпев все гонения, все испытания жестокого века, до последнего дня служил Богу и словом и делом… В доме Шварцев я познакомился с сыном преосвященного Луки – М. В. Войно-Ясенецким, известным патологоанатомом. Евгений Львович любил его.
Но был в жизни Шварца другой православный князь церкви – архиепископ Сан-Францисский Иоанн, еженедельные проповеди которого Евгений Львович слушал в передачах «Голоса Америки». Этого архиерея Шварц почему-то терпеть не мог.
– Даже голоса его не могу слышать, – говорил он с раздражением и довольно зло пародировал религиозно-нравственные декламации заокеанского владыки.
Частым гостем в доме Шварцев (особенно в комаровские времена) был тезка американо-русского архипастыря – о. Иоанн Чакой5, или Иван Иванович, как чаще называл его Шварц. О. Иоанн служил последние годы в кафедральном Никольском соборе. Познакомились с ним Шварцы через его дочь, артистку акимовского Театра комедии Татьяну Ивановну Чакой. Сам я знал о. Иоанна еще в юности: несколько лет мы жили в одном доме. Много раз видел я его и на служении в храме, но встречаться у Шварцев нам почему-то не приходилось. Помню только некоторые рассказы о нем Евгения Львовича.
Вот гуляем зимним погожим днем по комаровским заснеженным улицам, и Евгений Львович, посмеиваясь, рассказывает:
– Вчера опять были Иван Иванович с Таней. Заговорили о Толстом. Иван Иванович слова о нем спокойно сказать не может. И до чего же, ты знаешь, похоже то, что он говорит, на то, что говорят о Толстом марксисты!.. Ну, буквально те же слова – как будто из Ленина или из Плеханова выписал: «Художник великий, не спорю, а как мыслитель – полное ничтожество, ни малейшей критики не выдерживает!»
…А вот вспомнился почему-то другой рассказ Евгения Львовича – еще об одном Иоанне, об Иване Петровиче Павлове, академике.
Каким-то образом Шварц и Олейников были знакомы с известным хирургом, профессором Грековым, бывали у него дома. Были они и на похоронах Грекова, а перед этим на гражданской панихиде в Обуховской больнице.
– Никогда не забуду это явление, – говорил Евгений Львович. – Идет обычное надгробное славословие… Звучат слова знакомые, скучные, казенные… От месткома, от парткома. И вдруг откуда-то возникает и становится в изглавии гроба невысокий, с сократовским лбом и вообще чем-то похожий на Сократа – Павлов. Подошел, постоял, кашлянул и громким профессорским голосом начал: «Великий Учитель человечества Иисус Христос однажды сказал…»
– А ты знаешь этот анекдот о Павлове? – перебивает самого себя Шварц.
– Какой? С красноармейцем?
– Да. Знаешь?
Да, этот анекдот я много раз слышал. Академик Павлов выходит из Знаменской церкви, крестится. Мимо идет красноармеец. Усмехнулся, покачал головой:
– Эх, серость!..
…Евгений Львович, как известно, меньше всего был отшельником. Всю жизнь – и в молодости, в зрелые годы, и до последних дней – он был окружен друзьями и приятелями. Но многим ли из этих людей было известно, что Шварц человек религиозный? С уверенностью могу назвать пять-шесть имен. Подчеркиваю – с уверенностью. На большее той уверенности не хватит. Откуда же она могла возникнуть, эта уверенность, в мире, где даже с друзьями, даже с близкими по крови мы не всегда решались на полную откровенность!..
Уже много лет спустя после смерти Евгения Львовича как-то в Комарове спросил у меня друг его юности – М. О. Янковский6:
– Женя ведь был верующий, правда?
…Над могилой Шварца на Богословском кладбище стоит высокий белый мраморный крест. Когда в моем присутствии у Екатерины Ивановны спрашивали: почему крест? – она излишне громко, а иногда даже излишне сердито отвечала:
– Потому что Женя был верующий!..
* * *
Когда я задумал писать эту книгу, я хотел прежде всего последовательно рассказать о всех тех духовно близких мне людях, которых мне суждено было повстречать, – о тех, кто украсил, согрел, осветил, сделал веселее, осмысленнее, счастливее мою жизнь. Но потом подумал: а не вернее ли будет начать не с других, а с себя самого, чтобы понятнее стало, почему же эти встречи были для меня всегда такой большой радостью, праздником, озарением?
И вот я решил: отойду, – может быть, и надолго, – в сторону, попробую рассказать о себе. И при этом начну не «с самого начала», а запишу то, что вспомнится в первую очередь.
Вспомнился почему-то летний вечер 1929 года, когда шел я с двумя приятелями по Невскому и на углу улицы Рубинштейна встретил Ивана Ивановича Соллертинского, блистательного театрального деятеля, музыковеда, и от него, вихрем налетевшего на меня («Пантелеев, здравствуйте, вам известно, слыхали?»), узнал, что несколько дней назад в Москве в городской больнице умер от детской болезни скарлатины Жоржик Ионин, мой товарищ по школе имени Достоевского (в повести «Республика Шкид» он выведен под кличкой Японец)… Конечно, мы были потрясены этой новостью. Ведь кроме всего для каждого из нас это была первая смерть сверстника, одногодка: Ионин (талантливейший человек, театральный режиссер, драматург, автор либретто к опере «Нос» Шостаковича) умер, не дожив до двадцати лет! Один из моих тогдашних спутников, милый друг мой Костя Лихтенштейн (тоже рано ушедший, тоже из Шкиды – в повести он Кобчик, Костя Финкельштейн), расплакался. Был знаком с Иониным и третий из нас – Ися Рахтанов7.
Будь я тогда один – как бы я поступил, что бы сделал? Зашел бы, надо думать, в первую действующую церковь, в Казанский или к Спасу на Сенной, и поставил бы свечу «на канун» за упокой души раба Божия Георгия. А тут, с товарищами, мне и в голову такое не пришло, – и вот, по моему же, кажется, предложению и по глупому русскому стародавнему обычаю, мы зашли помянуть Жоржика Японца не в церковь, а – в бар под «Европейской» гостиницей.
Спутники мои были оба совершенно непьющие, оба евреи, один из них – Рахтанов – к тому же еще и вегетарианец. Запомнилось мне, что из салата оливье, который мы заказали на закуску, он выуживал только кусочки огурца, морковку, петрушку и еще какую-то декоративную зелень. Ничего другого память моя об этом вечере не сохранила. Трезвенником я не был, пил, но пить не умел, хмелел быстро и, охмелев, ничего уже после этого не помнил. Всё, что было дальше, знаю по рассказам моих трезвых собутыльников. Пробыли мы в ресторане всего совсем недолго, и, когда выходили, я с кем-то повздорил. У выхода сидела за столиком какая-то пьяная шпанистая компания. Я шел сильно пошатываясь и, ничего не видя, налетел на одного из этих парней, сдвинул его стул. Он выругал меня. Я попросил его «вести себя, если можно, вежливей»… Парни быстро рассчитались с официантом и вышли на улицу. Там они – шесть или семь человек – накинулись на меня и стали бить. Били основательно, в этой драке я потерял два зуба. Конечно, я не стоял, закрыв руками лицо, – я отбивался, и отбивался яростно. Не увидев милиционера, который явился нас разнимать, – ударил и милиционера. Тот оказался человеком мелким, обидчивым, плохим стражем закона. Вместо того чтобы отконвоировать меня и моих обидчиков в милицию, он счел виновным меня одного и доставить меня в отделение поручил дворнику и той же ораве хулиганов, которая меня била. Нещадно избивали они меня и по пути в милицию – и на Невском, и на улице Желябова. Защищать меня пытался Костя – ему тоже досталось. Больной, полупарализованный Рахтанов при всем желании прийти мне на помощь не мог – он следовал в отдалении и «ужасался тому, что происходило».
Утром я проснулся на полу в милицейской камере. Как я себя чувствовал, говорить не надо. На теле и на лице не было, что называется, живого места. Через полчаса меня отвели к дежурному.
– Получите ваши вещи, – сказал тот.
Из железного ящика-сейфа он достал и передал мне бумажный сверток. В старую газету были завернуты мой брючный ремешок, бумажник с деньгами, серебряная мелочь и – отдельно, в носовом платке – золотой крест на золотой цепочке. С удивлением вспоминаю, что по поводу креста не было произнесено ни одного слова. Даже когда я при милиционерах надевал через голову крест, никто ничего не сказал, не усмехнулся даже.
Через полчаса я был уже в уголовном розыске, где меня встретили как старого знакомого…
Впрочем, чувствую, что сильно затянул этот рассказ. Попробую рассказывать короче.
Встретили меня в розыске, как я уже сказал, грубо, заполняя анкету, обращались на «ты». Я отвечать отказался. Три раза меня отводили в общую камеру и три раза вызывали снова.
– Отвечать будешь? – спрашивал мальчишка-следователь моего приблизительно возраста.
– На «ты» не буду, – отвечал я и снова шел в камеру.
И вдруг тот же следователь вызывает меня еще раз:
– Садитесь. Я сел.
– А впрочем – идемте.
– Куда?
– К заместителю начальника.
Сам этот юный садист (как говорили в камере сведущие люди – бывший уголовник, карманник) ведет меня к замначу УР’а, тот поднимается навстречу, с удивлением оглядывает меня и говорит:
– Вы Пантелеев?
– Да.
– Писатель?
– Писатель, – с трудом выжевываю я пересохшими губами.
– Так вот, товарищ Пантелеев, берем с вас подписку о невыезде, и – можете считать себя свободным.
И, заметив на моем лице недоумение, объясняет:
– Только что звонил, ходатайствовал за вас Максим Горький.
На площади Урицкого у подъезда уголовного розыска меня ждал верный друг мой Костя Лихтенштейн. При моем появлении он заметным образом содрогнулся. Но и на Костином лице тоже было немало следов вчерашнего побоища, – достаточно сказать, что нижняя Костина губа была надорвана и заклеена черным пластырем.
– Чтобы не забыть, – невнятно сказал Костя. – Тебя просил зайти к нему в «Европейскую» гостиницу Горький.
– Когда зайти?
– Сейчас же. Сию минуту.
– То есть как сию минуту?
– Да. Велел – не заходя домой.
И пока мы шли с ним по Дворцовой площади к Невскому проспекту, Костя рассказал мне, как все получилось. Чуть свет он прибежал к моей маме и сказал, чтобы она не беспокоилась, что я жив, только попал в несколько затруднительное положение. От мамы он узнал адрес С. Я. Маршака и побежал – через весь город – к нему. Денег ни на трамвай, ни на телефон-автомат у Кости не оказалось. Когда он появился на улице Пестеля у Маршаков, Самуил Яковлевич принимал ванну. Ему через дверь сообщили, что с Пантелеевым что-то случилось (снова что-то случилось!)… Самуила Яковлевича – как это часто бывало в его жизни – осенило. Задав себе вопрос: «Что можно сделать?» – он тут же вспомнил: «В Ленинграде Горький!» И, мокрый, голый, в накинутой на плечи махровой простыне, стал дозваниваться к Горькому в «Европейскую» гостиницу. Оказалось, что Алексей Максимович болен, гриппует. Крючков8 все-таки согласился доложить ему. Алексей Максимович стал звонить в розыск. А дозвонившись, просил Крючкова сообщить о результатах Маршаку и попросил передать, чтобы я сразу же, не заходя домой, шел к нему.