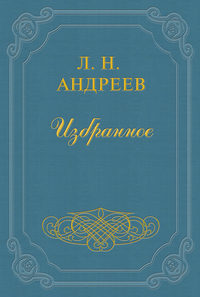Kitobni o'qish: «Савва (Ignis sanat)»
Действующие лица:
Егор Иванович Тропинин, содержатель трактира в монастырском посаде. Старик лет под шестьдесят; держится важно, говорит внушительно и строго.
Его дети:
Антон (Тюха). Лет 35–38, грузный, одутловатый, с одышкой. Лицо бескровное, мрачное, сонное, с редкой растительностью. Говорит медленно и трудно; никогда не смеется.
Олимпиада. 28 лет. Довольно красивая, белая; есть что-то монастырское в одежде.
Савва. 24 лет. Большой, широкоплечий, немного мужиковатый. Ходит слегка сгорбившись, плечом вперед, носки внутрь. Жесты рук округленные, красивые, ладонью вверх – точно держит что-то. Черты лица крупные, рубленые; вместо бороды и усов – мягкий светлый пушок. Когда волнуется или сердится, становится весь серый, как пыль; движения делаются легкие, быстрые, сутулость исчезает, – точно распахивается весь. Одет в блузу и сапоги, как рабочий.
Пелагея, жена Тюхи, веснушчатая, бесцветная женщина лет 30. Одета по-мещански, грязно, неряшливо.
Сперанский, Григорий Петрович, бывший семинарист. Высокого роста, очень худой, лицо продолговатое, бледное, с пучком черных волос на подбородке. Длинные гладкие волосы, двумя прядями свисающие вдоль лица. Одет или в длинное черное пальто, или в такой же сюртук.
Кондратий. Послушник, 42 лет, невзрачный, узкогрудый человек с подпухшими живыми глазками.
Молодой послушник Вася. Крепкий, сильный юноша лет 20. Круглое, веселое, улыбающееся лицо, волнистые светлые волосы.
Царь Ирод. Лет 50. Странник. Лицо сухое, изможденное, черное от загара и придорожной пыли; косматые седые волосы, такая же борода, что придает ему дикий вид. Одна только рука, левая; другая по плечо отрезана. Росту высокого, как и Савва.
Толстый монах.
Седой монах.
Человек в чуйке.
Монахи, богомольцы, странники, калеки и убогие, слепцы, уроды.
Действие происходит в начале XX столетия, в богатом монастыре, известном чудотворною иконою Спасителя. Между первым и последним актами проходит около двух недель.
Действие первое
Внутренность мещанского жилища в монастырском посаде. Две комнаты, третья в перспективе. Все кривое, старое, загаженное. Первая комната – нечто вроде столовой, большая, грязная, с низким потолком, с дешевыми запятнанными обоями, кое-где отставшими от стен. Три маленькие окна выходят во двор; видны навесы, телега, какая-то рухлядь. Деревянная дешевая мебель, большой непокрытый стол; на стенах засиженные мухами виды монастыря и портреты монахов. Вторая комната для гостей, почище; на окнах кисейные занавески, два горшка с засохшей геранью; диван, круглый стол со скатертью, горка с посудой. Из первой комнаты дверь налево ведет в трактир: когда дверь открывается, из трактира доносится чье-то заунывное, монотонное пение.
Летний жаркий полдень, тишина; изредка под окном прокудахчет курица; через каждые полчаса на монастырской колокольне бьют часы: перед тем как ударить, они долго и непонятно вызванивают что-то. Пелагея, беременная, моет полы.
Пелагея (у нее кружится голова; шатаясь, она опирается на стену и так стоит некоторое время, бессмысленно глядя перед собой). Ох, Господи! (Моет.)
Липа (входит, изнемогая от жары). Духота какая! Не знаю, куда деваться. Голова как дурманом налита. (Садится.) Поля, а Поля?
Пелагея. Что?
Липа. Поля, а папаша где?
Пелагея. Спит.
Липа. Ох, не могу! (Открывает окна, потом, бесцельно пройдясь по комнате, заглядывает в трактир.) Тюха тоже за стойкой спит. Искупаться бы пойти, да жарко, не дойдешь до реки. Поля, ты хоть бы сказала что-нибудь.
Пелагея. Что?
Липа. Все моешь?
Пелагея. Мою.
Липа. А через день опять грязные будут. Охота тебе!
Пелагея. Надо.
Липа. Посмотрела я сейчас на улицу, так даже жутко: ни человека, ни собаки. Точно умерло все… И монастырь такой странный: как будто он висит в воздухе. Дунуть на него, и он заколышется и улетит. Что же ты молчишь, Поля? А Савва где? Не видала?
Пелагея. На выгоне с ребятами в ладыжки играет.
Липа. Какой смешной!
Пелагея. Что же тут смешного? Ему работать надо, а он игры играет, как маленький. Не люблю я вашего Савки!
Липа (лениво). Нет, он хороший.
Пелагея. Да! Пожаловалась я ему, как хорошему, что трудно мне, а он говорит: что ж, хочешь быть лошадью, так вези. Зачем только приходил сюда? Где был, там бы и оставался.
Липа. Родных повидать. Десять лет, Поля, не видал, как хочешь. Ведь он еще мальчиком ушел отсюда.
Пелагея. Очень ему нужны родные! То-то Егор Иванович не знает, как от него отделаться. Соседи и те удивляются: одет как рабочий, а держится по-господски. Ни с кем не хочет говорить, а только ворочает глазами, как идол. Я глаз его боюся.
Липа. Какие пустяки! У него красивые глаза.
Пелагея. Разве он не видит, как мне трудно: одна на весь дом работаю. А он что? Давеча волоку я кадку, надрываюсь, а он прошел мимо, «здравствуй» не сказал. Много я людей перевидала, а ни один не был мне так противен.
Липа. У меня от жары круги перед глазами. А ты если не хочешь, Поля, так и не работай, – никто тебя не заставляет.
Пелагея. А если не я, так кто же будет работать? Не ты ли?
Липа. И я не стану. Работницу наймем.
Пелагея. То-то денег у вас много.
Липа. А на что их беречь?
Пелагея. Вот умру я скоро, тогда и нанимайте. Моего веку немного осталось. Скинула одного ребенка, а на другом и сама Богу душу отдам. Что же! Лучше, чем такая жизнь. Ох! (Хватается за поясницу.)
Липа. Да кто же заставляет тебя? Господи! Ну брось, не мой.
Пелагея. Да, брось. А потом сами будете говорить, отчего грязно.
Липа (маясь от жары и от речей Пелагеи). Господи, тоска какая!
Пелагея. А мне не тоска? Ты что, ты ведь барыня. У тебя одно дело: Богу молиться да книжки читать. А мне и помолиться некогда: так с подоткнутым подолом на тот свет и вляпаюсь, – здравствуйте!
Липа. Ты и на том свете полы будешь мыть.
Пелагея. Нет, это ты будешь там полы мыть, а я буду барыней сидеть. На том свете мы первые будем. А тебя и твоего Савку за гордость и жестокосердие твое…
Липа. Ах, Поля! Да разве же я тебя не жалею?
Егор Иванович (входит; сильно заспанный, борода на сторону, ворот рубахи расстегнут, дышит тяжело). Фу-ты… Полька, принеси-ка квасу. Поживее!
Пауза.
Егор Иванович. Кто окна открыл?
Липа. Я.
Егор Иванович. А зачем?
Липа. Жарко. Тут от печки от трактирной продохнуть нельзя.
Егор Иванович. Ну и закрой. Закрой, говорю! А если жарко, так на погреб ступай.
Липа. Да зачем это?
Егор Иванович. А затем! Ну, закрывай, закрывай. Сказано, чего ждешь?
Липа, пожимая плечами, закрывает; хочет уходить.
Егор Иванович. Куда? Как отец пришел, так бежать. Посиди.
Липа. Да ведь я вам не нужна.
Егор Иванович. Нужна – не нужна, а посиди. Не умрешь. Ох, Господи! (Зевает и крестится.) А Савка где?
Липа. Не знаю.
Егор Иванович. Скажи ему, выгоню его.
Липа. Сами скажите.
Егор Иванович. Дура! (Зевает и крестится.) Господи Иисусе Христе, помилуй нас грешных. Что это я нынче во сне видел?
Липа. Не знаю.
Егор Иванович. Тебя и не спрашивают. Дура, как же ты можешь знать, что я во сне видел, а? Вот голова!
Пелагея (подает квас). Нате!
Егор Иванович. Нате! Поставь, а не нате. (Берет кружку и пьет.) О чем я говорил-то?
Пелагея домывает полы, Липа смотрит в окно.
Егор Иванович. Да, отец игумен… Ловкий человек, поискать таких. Новый гроб на место старого поставил. Старый-то весь богомольцы изгрызли, так он новый поставил. Новый поставил, да. На место старого. И этот изгрызут дураки. Им что ни поставь. Дураки! Ты слышишь или нет?
Липа. Слышу. Что же тут хорошего? Обман, больше ничего.
Егор Иванович. А то и хорошего, что у тебя не спросился. Старый-то весь изгрызли, так он новый поставил, такой же. Да, как раз такой, в каком преподобный лежал, помяни ты нас во царствии твоем небесном. (Крестится и зевает.) И зубы от него тоже проходят. Старый-то они весь изгрызли. Куда? Посиди.
Липа. Я не могу, тут так жарко…
Егор Иванович. А я могу? Посиди, не растаешь.
Пауза.
Старый-то они сгрызли, так он новый поставил. А Савка где?
Пелагея. С ребятами в ладыжки играет.
Егор Иванович. Тебя не спрашивают. Который час?
Пелагея. Два пробило.
Егор Иванович. Ты ему скажи, что я его выгоню. Я этого не потерплю.
Липа. Да чего? Вы скажите толком.
Егор Иванович. Того. Кто он такой? Как обедать, так его и нету, а потом придет и жрет один, как собака. По ночам шатается, калитку не запирает. Вчера выхожу, а калитка настежь. Обокрадут, кто тогда отвечать будет?
Липа. Ну, какие у нас воры?
Егор Иванович. Такие, всякие. Люди спят, а он шатается: где это видано?
Липа. Да если ему спать не хочется, Господи!
Егор Иванович. Ну, ты тоже. Не хочется, так полежи: заснешь. Никому спать не хочется, а как полежал, так и заснул. Не хочется! Знаю я его. Пришел – кто звал? Делал там бумажки, так и делал бы, а сюда чего?
Липа. Какие еще бумажки?
Егор Иванович. Какие? Не настоящие же: за настоящие ничего не бывает. Фальшивые, вот какие. За это, брат, по головке не погладят, теперь строго. А я возьму – становому приставу и скажу: так и так, пощупайте-ка его.
Липа. Какие глупости!
Пелагея. Это ты одна не знаешь, все знают.
Липа. О Господи!
Егор Иванович. Ну, Бога-то мы знаем получше твоего, нечего взывать. А ты ему скажи. Я его не боюсь, не на таковского напал. Возьму и выгоню: ступай, откуда пришел. Ты грабить будешь, а я за тебя отвечать, где это видано?
Липа. Вы еще не проснулись как следует, папаша.
Егор Иванович. Я-то проснулся давно, а ты-то вот проснулась ли. Смотри, Олимпиада, не было бы тебе того же.
Липа. Чего?
Егор Иванович. Того… (Зевает и крестится.) Поднялась бы из гроба покойница, посмотрела бы – то-то бы похвалила: хороши детки! Вскормил я вас, взлелеял, а вышли настоящие прохвосты. Тюха вот скоро тоже запьет, по харе вижу. Где это видано? Скоро на праздник народ попрет, а я один за всех работай. Полька, подыми спичку, вон. Да не там, дура слепая! Вот, дура!
Пелагея (ищет). Да не вижу я.
Егор Иванович. Вот огрею я тебя по затылку, так сразу увидишь. Да вот она, черт!
Липа (в изнеможении). Господи, жарища какая!
Егор Иванович. Да вот она! Куда лезешь? Под стулом. Вот анафема!
Входит Савва, очень веселый, в подоле ладыжки.
Савва. Шесть пар с лашкой выиграл!
Егор Иванович. Скажите пожалуйста.
Савва. Мишку, подлеца, насилу доконал. Ты что бурчишь там?
Егор Иванович. Ничего. Только бы лучше ты мне «вы» говорил.
Савва (не обращая на него внимания). Липа, я шесть пар выиграл.
Липа. Как ты можешь в такую жару!..
Савва. Погоди, я сейчас ладыжки отнесу. Теперь у меня восемнадцать пар. Ну и подлец Мишка: здорово играет.
Уходит.
Егор Иванович (поднимается). Больше я не желаю его видеть. А ты ему скажи.
Липа. Хорошо, скажу.
Егор Иванович. Ты – не «хорошо», а делай, что тебе отец приказывает. Народил прохвостов, нечего сказать. (Уходит.) То-то бы покойница поглядела!..
Пелагея. Тоже о покойнице вспоминает, а кто ее в гроб вогнал? До смерти заговорил, зуда проклятая. Говорит-говорит, зудит-зудит, а чего ему надо – и сам не знает.
Липа. Да тут с вами… точно в железные обручи завинчивают голову.
Пелагея. Так и уходила бы со своим Савкой, чего ждешь?
Липа. Вот ты. За что ты на меня злишься?
Пелагея. Я не злюсь; я правду говорю. Замуж не хочешь, женихами брезгуешь, так шла бы в монастырь.
Липа. В монастырь я не пойду, а уйти, должно быть, скоро уйду.
Пелагея. Ну и уходи: скатертью дорога.
Липа. Ах, Поля, ты вот все сердишься, злишься, а не знаешь ты, о чем я по ночам думаю. Лежу и думаю. И о тебе, Поля, думаю, и обо всех несчастных, обо всех.
Пелагея. Обо мне нечего думать, о себе лучше думай.
Липа. И никто об этом не знает… Ну, да что говорить: ты все равно не поймешь. Мне жаль тебя, Поля!
Пелагея смеется.
Что ты?
Пелагея. А жаль, так вот возьми-ка ведро, вынеси. Я брюхатая, мне тяжелое подымать не годится, так потрудись ты за меня. Христа ради.
Липа (хмурится, потом лицо ее проясняется, и с улыбкой она берет ведро). Давай. (Хочет нести.)
Пелагея (со злостью). Фокусница! Пусти, куда тебе. (Уносит ведро, потом возвращается за тряпками.)
Входит Савва.
Савва (сестре). Ты что это такая красная?
Липа. Жарко.
Пелагея смеется.
Савва. Послушай, Пелагея, Кондратий меня не спрашивал?
Пелагея. Какой еще Кондратий?
Савва. Отец Кондратий, послушник; так, вроде воробья.
Пелагея. Никакого Кондратия я не видала. Воробей! Тоже скажут!..
Савва. Позови-ка сюда Тюху.
Пелагея. Сам позови.
Савва. Ну!
Пелагея (сперва кричит в дверь, потом идет в трактир). Антон Егорыч, вас зовут!
Липа. Зачем он тебе?
Савва. Что у вас здесь у всех за привычка спрашивать: куда, кто, зачем, почему?
Липа (немного обиженно). Не хочешь, так не говори.
Тюха (входит, говорит медленно и трудно). Ну, кто там зовет?
Савва. Я. Придет сюда послушник Кондратий – знаешь? – так пошли его сюда.
Тюха. А ты кто такой?
Савва. И водки пришли, полбутылки, слышишь?
Тюха. Может, слышу, а может, и нет. Может, пришлю водки, а может, и нет. Кто знает?
Савва. Какой скептик! Ты одурел, Тюха?
Липа. Оставь его, Савва. Это он у семинариста, у Сперанского, научился. У него и так в голове…
Тюха (садится). Меня никто не учил, я сам все понимаю. У меня кровь в сердце запеклась.
Савва. Это у тебя от пьянства, Тюха. Брось пить.
Тюха. У меня кровь в сердце запеклась. Ты думаешь, я не понимаю, почему это такое? Вдруг не было тебя, и вдруг пришел. Нет, я все понимаю. У меня видения бывают.
Савва. Что же ты видишь? Бога?
Тюха. Никакого Бога нет.
Савва. Вот как!
Тюха. И дьявола нет. Ничего нет. И людей тоже нет. И зверей тоже нет. Ничего нет.
Савва. Что же есть?
Тюха. Рожи одни есть. Множество рож. Все рожи, рожи, рожи. Очень смешные рожи, я всегда смеюсь. Я сижу, а они мимо меня так и скачут, так и плывут. У тебя тоже, Савка, очень смешная рожа. (Мрачно.) Можно умереть со смеху.
Савва (весело смеется). Ну-у? Какая же у меня рожа?
Тюха. Такая… (Тычет пальцем.) И у нее рожа, и у нее рожа. И у папаши тоже рожа. И, кроме того, другие рожи. Множество рож. Я в трактире сижу и все вижу; меня нельзя обмануть. Какая рожа большая, какая маленькая, и все они так и плавают, так и плавают. Какие далеко, какие совсем близко, как будто хочет поцеловать или за нос укусить. У них зубы.
Савва. Ну, ладно, Тюха, ступай; потом о рожах поговорим. У тебя у самого очень занятная рожа.
Тюха. Ну да, а то как же? И у меня рожа.
Савва. Ладно, ладно. Ступай, да водки тогда пришли, не забудь.
Тюха. Какие днем, какие ночью… Множество рож. (С порога.) А водки, может, пришлю, а может, и нет. Не знаю еще.
Савва (Липе). Давно он такой?
Липа. Не знаю, давно уже, кажется. Он сильно пьет.
Пелагея. С вами нехотя запьешь. (Уходит.) Идолы!
Липа. Жара какая… куда деваться, не знаю. Савва, отчего ты так плохо относишься к Поле? Она такая несчастная, жалкая.
Савва. Рабья душа, кривая. Она на трехногий стул похожа.
Липа. Она не виновата, что она такая.
Савва (равнодушно). Да и я не виноват.
Липа. Ах, Савва, если бы ты знал, какая у нас здесь ужасная жизнь. Мужчины пьянствуют, бьют жен, а жены…
Савва. Знаю.
Липа. Как ты равнодушно говоришь это. А мне так хотелось поговорить с тобою…
Савва. Что же, говори.
Липа. Ты скоро, вероятно, опять уйдешь отсюда?
Савва. Да, скоро.
Липа. Ну вот… так, пожалуй, и не удастся поговорить. Дома ты бываешь редко… Сегодня чуть ли не в первый раз… Да, Савва, и охота же тебе играть с ребятами, со стороны смешно смотреть. Такой ты большой, как медведь…
Савва (весело). Нет, Липа, они хорошо играют. Мишка – хорошо, и мне с ним трудно справиться. Вчера я ему три пары проиграл.
Липа. Да ведь ему десять лет!
Савва. Ну так что же? Да и народу здесь нет, кроме них. Самый умный народ.
Липа (с улыбкой). А я?
Савва (смотрит на нее). А ты? Что же, и ты – как другие.
Пауза. Липа обижена, и вялость ее несколько исчезает.
Липа. Может, тебе скучно со мной?
Савва. Нет, все равно. Я никогда не скучаю.
Липа (принужденно смеется). Что же, и на том спасибо. Ты был сегодня в монастыре? Ты туда часто, кажется, ходишь?
Савва. Был, а что?
Липа. Ты, вероятно, совсем его не помнишь? А я так его люблю. Он у нас такой красивый, такой задумчивый иногда. Мне нравится, что он такой старый: от этого в нем есть какая-то важность, строгое спокойствие, отчужденность.
Савва. Ты много книг читаешь?
Липа (краснея). Прежде много читала… Я ведь четыре зимы в Москве жила, у тети Глаши. Ты почему спрашиваешь?
Савва. Так… продолжай.
Липа. Тебе смешно, что я так говорю?
Савва. Нет, ничего… говори.
Липа. Но ведь монастырь, правда, такой удивительный. Там, знаешь, есть хорошие уголки, где никто не бывает, – так, где-нибудь между глухими стенами, где только трава да упавший кирпич, да какой-то старый-старый сор. Я люблю бывать там, особенно в сумерки или вот в такой жаркий, сонный день. Стоишь, закрывши глаза, и кажется, что видишь что-то далекое-далекое. Тех, кто первые его строили, кто первые в нем молились. Вот идут они по мосткам, несут кирпичи и что-то поют – так тихо, далеко. (Закрывает глаза.) Так тихо, тихо…
Савва. Я не люблю старого. И строили его, конечно, крепостные, и когда таскали кирпичи, то не пели, а ругались. И кто-нибудь как раз на этом месте сломал себе шею. Так будет вернее.
Липа (открывая глаза). А у меня такие мечты… Я ведь здесь одна, Савва… мне и поговорить не с кем. Послушай, ты не будешь сердиться? Скажи мне, мне одной, зачем ты пришел сюда к нам? Ведь не молиться же, не на праздник: ты не похож на богомольца.
Савва (хмуро). Что это, любопытство? Не люблю я этого.
Липа. Как ты можешь думать это? Разве я похожа на любопытную? Ведь две недели ты видишь меня и должен понимать, что я одинока здесь. Одинока, Савва. И тебе я рада, как манне небесной: ведь ты первый живой человек оттуда, из настоящей жизни. В Москве я жила так тихо, только книги читала, а тут… Ты видел наших, какие они.
Савва. А в других местах, ты думаешь, лучше?
Липа. Не знаю. Вот я и хочу узнать от тебя. Ты так много видел, ты был даже за границей…
Савва. Недолго.
Липа. Все равно. Ты видел много людей, образованных, умных, интересных, ты жил с ними, – ну как они живут, ну какие они? Расскажи мне все.
Савва. Дрянной народ.
Липа. Да?.. Что ты говоришь?
Савва. А живут они, как и вы здесь живете: глупо, бестолково, и только слова у них другие. Но это еще хуже. Скоту оправданием служит отсутствие речи, а когда скот начинает говорить, защищаться, мечтать, получается совсем мерзко. И жилье у них другое, это правда, но и то неважное. Я был, Липа, в одном городе, где живет сто тысяч человек, и во всех домах окна маленькие. Все любят свет, а никто не догадается, что нужно сделать большие окна. И когда строят новый дом, то окна делают по-старому – такие же маленькие.
Липа. Вот как, не думала я этого. Но ведь не все же такие, ведь видел же ты, наверное, хороших людей, которые умеют жить.
Савва. Как тебе сказать? Пожалуй, и видел, если не совсем хороших, то… Вот те, с которыми я жил последнее время, – народ ничего себе. Стараются брать жизнь не готовую, а делать ее по своей мерке. Но…
Липа. Кто же они? Студенты?
Савва. Нет. Ты, того, как насчет языка – не из болтливых?
Липа. Савва! Ну как тебе не стыдно!
Савва. Ладно. Так вот: ты читала про людей, которые бомбочки делают – бомбочки, понимаешь?.. Ну, и если кто-нибудь мешает жить, так они его, того, убирают. Называются они террористами. Но это не совсем верно. (Пренебрежительно.) Какие они террористы!
Липа (отодвигаясь, пораженная). Что ты говоришь? Неужели это правда? И ты тоже? Все так просто, и ты вдруг… Мне даже холодно стало.
За окном кричит петух, нашедший зерно и сзывающий кур.
Савва. Ну вот, испугалась. То расскажи, а то…
Липа. Нет, ничего, я так. Очень неожиданно, Савва. Я думала, что таких людей нет в действительности, что это только сочиняют. И вдруг мой брат… Ты не шутишь, Савва? Посмотри на меня!
Савва. Да чего ты испугалась? Они вовсе не такие страшные. Скорее даже они смирный народ, рассудительный. Долго собираются, рассуждают, а потом бац! – глядь, какого-нибудь воробья и прикончили. А через минуту, глядь, на этой же ветке другой воробей скачет. Что ты смотришь на мои руки?
Липа. Так. Дай мне твою руку… нет, правую.
Савва. На.
Липа. Какая она тяжелая. Ты слышишь, какие у меня холодные руки? Ну говори, говори – как это интересно!
Савва. Да что говорить! Люди они храбрые, это верно, но храбрость у них больше не в голове, а в руках. А голова у них старая, с перегородочками, и все они опасаются, как бы не сделать чего лишнего, как бы не повредить. Ну можно ли вырубить здоровенный лесище, рубя по одному дереву, скажи на милость! А они так и делают: с одного конца рубят, а на другом подрастает. Пустое получается занятие. Предложил я им как-то одно дельце, пообширнее, да они, того, испугались. Слабоваты. Ну, я и ушел от них: пусть себе упражняются в добродетели. Узкий народ: широты взгляда у них нет.
Липа. Ты говоришь это так спокойно, как будто шутишь.
Савва. Нет, я не шучу.
Липа. А ты – неужели ты ничего не боишься?
Савва. Я-то? Пока ничего – да и впереди не ожидаю. Страшнее того, Липа, что человек раз уже родился, ничего быть не может. Это все равно, что утопленника спросить: а что, дядя, промокнуть не боишься? (Смеется.)
Липа. Так вот ты какой!..
Савва. Одному я у них научился: уважению к динамиту. Сильная вещь, с большой способностью убеждать.
Липа. Тебе двадцать четыре только года. У тебя еще ни усов, ни бороды нет.
Савва (ощупывая лицо). Растительность дрянная, это верно. Но только что из этого следует?
Липа. Страх еще придет.
Савва. Нет. Если уже я до сих пор не испугался, когда жизнь увидел, так уж больше испугаться нечего. Жизнь, да. Вот обнимаю я глазами землю, всю ее, весь этот шарик, и нет на ней ничего страшнее человека и человеческой жизни. А человека я не боюсь.
Липа (почти не слушая его, восторженно). Да. Вот настоящие слова, вот! Савва, милый, я тоже не боюсь страданий тела. Я знаю, начни жечь меня на медленном огне, разрежь меня на части, я не вскрикну, – смеяться буду. Но я другого боюсь: я боюсь страдания людей, их неизбывного горя. Когда я подумаю ночью, в тишине, когда только колокол на часах, подумаю, сколько вокруг нас страданий, бесцельных, никому не нужных, даже никому не известных, – я холодею от ужаса. Я становлюсь на колени и молюсь, молюсь и говорю Богу: если нужна жертва, так возьми меня, но дай людям радость, дай им покой, дай им наконец забвение. Господи! Быть таким всемогущим!..
Савва. Да.
Липа. Я читала про человека, которого клевал орел, и мясо за ночь у него вырастало. Если бы мое тело могло стать хлебом и радостью для людей, я согласилась бы жить вечно и вечно в страданиях кормить им несчастных. Здесь в монастыре скоро будет праздник…
Савва. Знаю.
Липа. Тут есть икона Спасителя с трогательною надписью: «Приидите ко мне все труждающиися и обремененныи…»
Савва. «…И Аз упокою вы». Знаю.
Липа. Она считается чудотворною, и ты пойди тогда посмотри. Точно река притекает к монастырю, точно море подходит к его стенам – и все это море из одних человеческих слез, страданий, горя. Какие уроды, какие калеки! Я потом хожу как сумасшедшая, я во сне их вижу. Есть такие лица, с такою глубиною страдания, что их никогда не забудешь, сколько ни живи. Ведь я прежде была веселая, Савва, пока не увидела всего этого. Здесь каждый год бывает один, по прозвищу царь Ирод…
Савва. Он уже здесь. Я видел его.
Липа. Да, видел?
Савва. Да. Лицо трагическое.
Липа. Он давно, в молодости еще, убил как-то нечаянно своего ребенка и с тех пор все ходит. У него ужасное лицо. И все они ждут чуда…
Савва. Да. Есть кое-что похуже неизбывных человеческих страданий.
Липа. Что?
Савва (небрежно). Неизбывная человеческая глупость.
Липа. Не знаю.
Савва. А я знаю. Ты здесь видишь только клочок жизни, а если бы ты увидела, услышала ее всю… Первое время, когда я читал их газеты, я смеялся и думал, что это нарочно, что это издается в каком-нибудь сумасшедшем доме, для сумасшедших. Но нет, это серьезно. Это серьезно, Липа! И тогда моей мысли стало больно – невыносимо больно. (Прижимает пальцы ко лбу.)