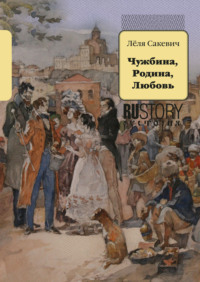Kitobni o'qish: «Чужбина. Родина. Любовь»
© Издательство «РуДа», 2023
© Л. Сакевич, текст, 2021
© В. М. Пингачёв, иллюстраци, 2022
© Н. В. Мельгунова, художественное оформление, 2020
* * *
Жан хрустальный
Все было иначе, но так вполне могло быть
Милейший человек —
и старый грешник,
скупец напоказ.
Чарльз Диккенс «Скряга Скрудж. Рождественские рассказы»

Часть 1
Осколки ожиданий
А впрочем, он дойдет до
степеней известных,
Ведь нынче любят
бессловесных.
Грибоедов, «Горе от ума»
Апрель 1820 г., Рим
– Лови ее, держи!
– Быстрее, вон она, вон там!
Звонкие детские крики отражались от древних колонн и поднимались к небу. Сонное марево не по-весеннему жаркого полудня ползло над римским Форумом. Лениво каркала ворона, голоса резвых мальчишек то затихали, то вновь звенели в воздухе. Пара белокурых девушек, еще совсем юных, почти девочек, уютно устроилась на обломке колонны. Вдвоем они писали акварельный пейзаж. Неподалеку в тени сладко посапывала гувернантка из местных – даже весьма доходное место у богатых русских не избавляло итальянцев от любви к сиесте.
Пятнадцатилетняя Софи вертела на плече зонтик-парасоль и менторским тоном доказывала двенадцатилетней Натали, что тени не могут падать на землю подобно плоскому жирному блину. Они непременно должны изламываться в зависимости от объекта, от которого падают, а также от угла падения светового луча. Натали поставила кляксу в центр рисунка, с досадой отбросила кисточку и пробормотала:
– Сколько можно… Софи, сколько можно делать вид, будто ничего не происходит? Мы с тобой, будто два примерных ангела, маемся тут акварелью, Жан с местными бедняками по развалинам бегает, разбойником себя возомнил… А папа, папа тот и вовсе вечно пьян… Мы все будто не замечаем ничего! Софи, ведь так нельзя! Мы же не можем ждать этого?!
Софи совсем по-взрослому вздохнула, посмотрела в промежуток между колоннами – тринадцатилетний брат Иван собрал местную чернь, забрался повыше на какие-то руины и что-то восторженно доказывал мальчишкам. Те, открыв рты, внимали ему, словно пророку.
– Именно так, сестрица… Мы все именно ждем… Нам ничего боле не остается. Врачи бессильны, и мы все должны делать вид, что счастливы, дабы маменька меньше страдала…
Натали захныкала:
– Мне надоела эта Италия! Я хочу домой, в Москву… Когда все это кончится?..
Софья встала, строго сдвинула брови:
– Сама знаешь, когда. И грех в твоем случае желать скорейшего отъезда из Рима! Все, нагулялись. Мы идем домой, – повернувшись к мальчишкам, она крикнула по-русски: – Иван! Жан, мы идем домой!
Мальчик подбежал к барышням. Невысокий, худощавый, с живыми серыми глазами и буйными белыми кудрями, он казался бы похожим на ангела, если бы не разбитые колени и недавний синяк на скуле – след благородной дуэли в итальянском стиле – дуэли на кулаках.
– Наша Натали снова хнычет? Не плачь, сестрица, гляди сюда! – Жан протянул сложенные лодочкой ладони: – Ведь это же настоящее волшебство! Это хрусталь, истинный хрусталь с изумрудами!
В его грязных детских ладонях сидела крупная стрекоза с выпуклыми зелеными глазами и прозрачными, действительно очень похожими на хрустальные, крылышками. Затейливый рисунок прожилок на тонких пластинах крыльев отливал всеми цветами радуги. Неземное создание грациозно покачало длинным тельцем и легко взлетело в небо. Крылья стрекозы издавали чарующий хрустальный звон.
По возвращении домой девочки побежали в покои матери, а Жан, увидев семилетнего брата сидящим с книжкой прямо на полу, присел рядом.
Ему нравилось наблюдать за малышом. Маленький Сережа всегда был предельно сдержан, молчалив, необщителен. Его толстые щечки вечно оказывались обиженно надуты, брови сосредоточенно сдвинуты. Он был умником. Уже в пять лет ребенок уверял всех, что станет философом, к семи же годам умерил желания, выбрав себе будущее университетского профессора, но обязательно планировал открыть что-нибудь очень важное. С помощью учителей Жана он легко освоил латинский язык и теперь читал труды древних мудрецов взахлеб, с упоением, будто то были поэмы модного нынче Вальтера Скотта.
Жан вздохнул, приобнял брата.
– Боюсь идти к маман… Софи и Натали храбрые, а я боюсь. Как там отец?..
– Jactantius maerent, quae minus doelent.
– Прекрати, Сержик, ты же знаешь, я пока не освоил твоего латинского!
– «Свою скорбь выставляют напоказ те, кто меньше скорбит», – сказали когда-то мудрые.
– А ты сам-то как думаешь?
Сережа поднял на старшего брата большие серые глаза, совсем по-стариковски вздохнул:
– Tristis est anima mia1. Жан, мы теряем их обоих…
Семья богатого московского промышленника Мальцова снимала небольшой дом с садом на живописной окраине Рима. Пожив какое-то время во Флоренции, заглянув в Венецию и на Муран, Мальцовы перебрались поближе к цивилизации, в Древний город. В Италию их заставила переехать тяжелая болезнь матушки, Анны Сергеевны.
Сергей Акимович нынче снова был пьян. Он сидел во дворе в тени дома, прислушивался к стонам и хрипам, раздающимся из приоткрытого окна, плакал и пил граппу. В свои сорок девять лет мужчина выглядел на шестьдесят – пил он уже почти год.
Жан подошел к отцу, хмуро глянул, как тот лихо опустошил незамысловатый глиняный кувшинчик. Подобных этому на траве валялось уже два.
– Отец, не надо…
– А что надо, сын? Что надо? – отец будто ждал Жана, будто без слушателя алкоголь не спасал. – За какой надобностью, полагаешь, мы приехали сюда? Зачем? За Мурановскими тайнами? Или, быть может, дабы маменька вылечилась наконец? Да ничего подобного, душа моя! Сюда едут все модные больные. Врачи наперебой твердят, что местный климат лечебен и полезен, но на самом деле здесь просто модно умирать. Каналья! Умереть в Италии – признак, видите ли, истинного благородства крови. Наша маман, княжна Мещерская, всегда стремилась быть благородной дамой, всегда хотела быть правильной.
– Не говорите о ней в прошедшем времени, отец.
– А вот и скажу! Скажу, и не тебе, Жан, указывать, какой была моя Аннет, пока еще оставалась живою! – Сергей Акимович яростно указал дрожащим пальцем в приоткрытое окно. – Тот предмет, что кашляет и хрипит сейчас там – это не моя Аннушка… Это что-то чужое и неправильное…
– Отец, прекратите. Мне тоже больно видеть маменьку такой… Давайте мы с вами пройдемся, проветрим голову. Отвлечемся.
Жан с преувеличенным азартом схватил отца за руку, потянул в глубину сада, подальше от наводящих ужас хрипов.
– Помните ту стеклодувную мастерскую на перекрестке? Ну ту, с разноцветными витражами в глиняных стенах, где в мастерах кривой калека? Я хотел попасть туда, подсмотреть их способ обрезки. Мальчишки из учеников поговаривают, что выдувные трубки у них с каким-то особенным секретом. Я решил позаимствовать одну, не обеднеют с одной-то. Мы же с вами перенимаем у итальянцев их знания? Вот и пригодится, думаю, особая трубочка для выдува. Стало быть, пролез я через забор, порвал между делом штаны. Но этот их кривой накинулся на меня как на последнего воришку, оттаскал за ухо, вышвырнул да еще и пониже спины пнул, – мальчишка подергал себя за кудри, растрепав их еще сильнее, ухмыльнулся. – Ну, это ничего, я ему его хваленые стекла нынешней ночью все расколочу…
Сергей Акимович возмутился:
– Чтоб самого Мальцова – и взашей?.. Да что эти макаронники о себе возомнили?! Муранские мастера, благородные стеклодувы, тьфу! Как работали в средние века, так и до сих пор работают, ничего в технологии не меняют. Что в древности казалось гениальным, то сейчас уже – пережиток старины. Вот в Богемии, сын, вот у них да, технология! Истинно Европа, не чета местным. Жан, да ты у нас первым заводчиком на России станешь, пока эти калеки гниют тут в Италии со своими дедовскими рецептами и особенными трубками. Чтоб сына самого Мальцова да по мягкому месту!.. Да ты… Да мы с тобой…
Вот приедем домой, я тебя тут же отправлю учиться в Московский благородный пансион, у меня там знакомства. А потом двинемся в Богемию, внедрим их методы на Гусевскую фабрику.
– Нет, отец. Я тут подумал… Не хочу быть заводчиком, это, право, скучно. Я буду поэтом, как Байрон, разбойником, как Корсар, путешественником, как…
– Как Толстой-Американец! Знаю я этого горе-путешественника! Ха-ха! Ну да, и на месте, куда давеча пнули, на самой филейной части у тебя будет татуировка, как у дикаря! – отец обнял сына за плечи. – Эх, Ваня, Ваня…
– Барин!.. Сергейкимыч, бяда!.. – по тропинке к ним бежал Ванятко, чернявый цыганенок из половых. – Барин, все, кончаца!..
– Что кончается?
– Барыня кончаца. За священником послали, велели вас с Ваньсергеичем звать…
1826 год, июль, Москва
Два пожилых человека быстро шли, почти бежали, по ночной Якиманке. Тот, кто был помоложе и повыше чином, уверенно и непреклонно шагал впереди, у бедра он придерживал форменную шпагу. Чуть поотстав, за ним семенил задыхающийся старик в форме ночного сторожа, в его руках был тяжелый масляный фонарь.
– Емельян Фомич, батюшка, да куды ж вы несетесь-то?.. Почто сами? Ох ты ж господи… Меня б одного отправили, мне ж сподручнее, куда ж вам… Большой человек, цельный квартальный поручик, а бежите, будто мальчонка… Ох ты ж господи…
– Не мельтеши, дядя Фрол, раз сам вышел, стало быть, надобность такая. Ты мне для солидности нужен, ведь в большой дом идем, не куда-нибудь.
Старик остановился, вытер пот со лба.
– Да неужто опять к заводчику?.. Ох ты ж господи! Ох ты ж…
– Довольно причитать, дядюшка Фрол. Дом богатый, глядишь – обратно на коляске с ветерком покатим…
Ночной воздух был свеж и мягок, где-то на заборах надрывались коты, под окнами одного из домов парень мещанского вида мелодично наигрывал на гитаре. Квартальный поручик строго набычился, но, разглядев в темноте знакомого, ободряюще похлопал того по плечу:
– Ничего, малой. Ежели девица строго себя блюдет, то, знамо дело, стоит таких трудов. Не сдавайся, браток! И не такие уламывались.
К дому Мальцовых подошли часам к трем ночи. В окнах было темно, все спали, лишь тихо всхрапывали лошади на конюшне.
Бесшумно, с видимым почтением к власти, открылась задняя калитка. Ливрейный2 хоть и выглядел заспанным, но тем не менее резво проводил стариков по двору к дому, передал на руки дворецкому. Тот с пиететом провел в нижние покои для слуг: «Будьте любезны, устраивайтесь поудобнее», а сам поспешил за камердинером.
Оказывается, в старом халате и ночном колпаке вполне возможно выглядеть величественным.
Именно таким явился перед стариками-жандармами Панкратий Васильевич, камердинер3 и личный помощник заводчика Ивана Акимовича Мальцова. Он неторопливо вошел в комнату, раскурил чубук и, не предложив вскочившим гостям присесть, надменно уселся, положив ногу на ногу. Квартальный поручик сконфузился перед ним, залебезил и сжался. Дядюшка Фрол тот и вовсе затрепетал мелкой дрожью.
– Емельян Фомич, да сколько ж можно по ночам будить? В прошлом месяце помню да еще пару месяцев до того…
– Так ведь доброе имя, любезный Панкратий Васильевич… Уж кому как не вам знать…
– Опять Ванька? Чертово семя…
– Он, батюшка, снова Иван Сергеич шалят… Сейчас в участке… По закону мы должны сообщить выше, принять, так сказать, меры, но тут, знаете ли, такое дело… щекотливейшее. Сам господин квартальный надзиратель посоветовал, чтобы лично, без огласки, тихонечко замять. Чтоб, не приведи господи, в прессе не прознали. Они ж, писаки чертовы, за такую новость заклюют и не посмотрят, из такой семьи вьюнош…
– Полагаю, коли сами посреди ночи явились, то преступление невеликое, но неприятное. Как, впрочем, обычно. Ивана Акимовича пока беспокоить не будем, уж лучше я сам на месте разберусь, что там снова учудил наш резвый племянничек, – камердинер решительно встал. – Едем, Емельян Фомич. Сейчас насчет коляски распоряжусь, оденусь, и решим дело.
Квартальный поручик переглянулся с дядюшкой Фролом и сконфуженно пролепетал:
– Только, ежели можно, ваше сиятельство, распорядитесь Ванятку с собою взять… Иначе никак не справиться. Иван Сергеич, знаете ли, странный юноша: засели в участке, выходить не желают, решили у нас обосноваться, требуют шампанского и дам в нумер. А у нас камер мало, нам даже барышень легкого, так сказать, поведения садить некуда. А ежели их в одну камеру, то сами-с представляете, что там твориться будет. Силой не вытащишь – чином не вышли, а Ванятко – тот малый крепкий, свое дело знает.
Пока ожидали лошади у заднего крыльца, подошел вразвалочку, зевая до треска в челюсти, кудрявый черноволосый детина с бородой. Не глядя на служителей порядка, присел на завалинку, философски загляделся на звезды.
Дядюшка Фрол перекрестился и зашептал на ухо квартальному поручику:
– Емельян Фомич, батюшка, на что в таком хорошем богатом доме цыганищу держат? Огромный-то! Ох ты ж господи, лихие люди эти цыгане. Доверишься – и враз добро потеряешь, а то и лошадей али девок дворовых…
– Сей образина Ванятко Мальцовым дорог, для этой семьи он едва ли не талисман. В свое время, еще юнцом-мальчонкой, Ванятко спас хозяина. Да-да, дядя Фрол, все так. Сын крепостной девки, прижитый от заезжего табора. Блудная девица служила в доме у брата Ивана Акимовича, у покойного Сергея Акимовича. Верней, у его супруги. Тогда Мальцовы жили где-то в Италии, где схоронили хозяйку, та, говорят, больно хворой была. Хозяин с горя, стало быть, напился и пошел скидываться в обрыв. Они, богачи, это любят – скидываться али стреляться. Аристократы, етить… То ли обрыв в их Италии мелковат оказался, то ли зацепился Сергей Акимович за куст штаниной – неведомо. Известно лишь, что Ванятко этот вытащил хозяина за шкирку живехоньким и в миг отрезвевшим. Там же в Италии он и сына Сергея Акимовича, Ивана, от местных задир спас. Да-да, того самого Ивана Сергеевича, который в нашем участке шум нынче устроил. Так что, дядя Фрол, Ванятко этот – тот еще фрукт…
До места доехали в один миг, старик ночной сторож едва успел задремать, откинувшись на мягкие подушках пружинной повозки.
На подъезде к участку послышался хохот девок, гитарный звон и гусарские пьяные выкрики. Такого содома в этом унылом учреждении еще не бывало: в открытой настежь камере висел дым дорогих сигар, канцелярский стол был заставлен ресторанными яствами, фруктами и изысканными сырами. Помощник квартального поручика, оставленный приглядывать за участком молодой жандарм, бил в цыганский бубен, в упоении ничего не замечая вокруг. Какие-то хорошо одетые юноши жарко спорили, кто-то играл на гитаре, кто-то в карты. Виновник банкета, улыбаясь и подергивая ножкой, сладко спал на убогой кровати. Его румяные щеки были замазаны дамской помадой, светлые кудри спутаны, золотые очки едва держались на тонком носу.
Откуда-то из темного коридора спокойно вышло небывалое создание. Это был козел, к рогам которого была привязана арфа, на спине колыхались ангельские крылышки из картона, а в довершение образа на боку зеленой краской красовалась надпись «Мишка – дурак».
Дядюшка Фрол набожно перекрестился, а Панкратий Васильевич моментально потерял всю свою величественность. Всплеснув по-бабьи руками, он пролепетал:
– Святый боже, вот беда! Да это ж политическое дело… Да как же такое?.. Чтоб самого великого князя Михаила Павловича?!.
– При чем тут великий князь?.. – из разгульного дыма вынырнул молодой человек во фраке. Русоволосый, с ухоженными бакенбардами и светлыми смеющимися глазами, Сергей Соболевский был лучшим другом Ивана Мальцова. По-хозяйски раскинув руки, он радостно поприветствовал камердинера: – О-о-о! Панкрат, дорогой ты наш человек! Садись, садись с нами, душа моя, вот выпей. Не гляди, что здесь не салон мадам Жужу, здесь компания куда получше, не так ли, ребята?..
– Сергей Александрович, что вы тут делаете? Зачем опять Ивана Сергеича опоили?
– Мефистофеля-то? Да что ты говоришь, Панкрат? Жан сам нас пригласил. Мы, стало быть, навещаем несчастного узника.
– Господи, неужто мест приличных нет на Москве, коли решили гулянку в участке устроить? – Панкратий Васильевич отшатнулся от философски жующего козла. – А это что за дьявол? Вы понимаете, куда нынче за подобное могут отправить?! Упоминать имя великого князя сейчас крайне небезопасно!
– Брат нового императора тут ни при чем. Познакомьтесь, господа, это – муза Мишки Погодина, литератора от черта. Мишань, покажись (крепкий юноша с ухоженными бакенбардами на крестьянском лице добродушно махнул рукой). Бывают, знаете ли, литераторы от бога, а вот Мишка – тот особенный.
Не обращая внимания на беседу, Ванятко вошел в камеру, заполонив собой оставшееся пространство. Легко и привычно, словно пушинку, он подхватил спящего Жана и на руках вынес из участка.
Хрустнула немалая купюра, Емельян Фомич тут же повысил голос:
– Дамы и господа, праздник окончен, попрошу всех удалиться. Ежели не желаете остаться здесь на иных, менее веселых условиях, то мигом брысь отсюда! И козла своего заберите. Только, милые барышни, моего помощника будьте любезны оставить. Его ожидают неприятности.
Разгульная компания попритихла, выкатилась на улицу. Пьяный Соболевский, обняв козла и целуя его в морду, крикнул на прощание:
– До скорых встреч, душа моя Емельян Фомич! Ждите в гости, в следующий раз мы остановимся у вас с медведем, уж больно уютно в вашем милом заведении!
– Не сомневаюсь, – хмуро буркнул квартальный, – только такого разгула я уже не допущу.
* * *
Ложечка отчетливо звякнула о фарфоровую чашку. Запах крепкого кофе смешивался с ванилью утренних булок и ароматом легких французских духов. Продолжать беспечно нежиться в постели, вдыхая такой букет, было просто невозможно. Жан сонно потянулся, открыл один глаз – напротив окна вырисовывался тонкий девичий силуэт.
– Нет, Софи, ты невыносима… – он натянул одеяло до подбородка. – Хочу напомнить, что ты находишься в спальне неженатого мужчины.
– Мужчина – ты?! Ха! – Софи засмеялась и с разбегу прыгнула на его кровать. По-домашнему заплетенная длинная коса перелетела через ее острые плечики и ощутимо стукнула через одеяло. Привстав на локте, девушка взъерошила волосы Жана. – Извини, братец, но для меня ты никогда не будешь мужчиной, навсегда останешься маленьким бойким мальчишкой, которому я вытирала нос и, если могла догнать, то расчесывала белые кудри. Позволь, я и сейчас…
Она потянулась к нему со щеткой для волос, но юноша ловко, как в детстве, вывернулся и выпрыгнул из кровати. Накинув халат, он отпил кофе из чашки сестры.
– Похоже, дорогая сестрица, пришла пора отдавать тебя замуж. Пристаешь по утрам к мужчинам… Ко мне друзья ходят, тут и до греха недалеко. Тебе уже двадцать три года, сколько можно ходить в старых девах?
Софи надулась, обхватив колени, села на кровати. Она легко переходила от одного состояния к другому – от беззаботного щебетания к мрачной меланхолии, от легкой ироничности к желчной ехидности.
– Да кому ж я такая сдалась?.. Некрасивая. Мелкая и тощая, словно маленькая жердь. Учитель рисования как-то рассказывал, что в женских изображениях важны руки, плечи и шея. А когда на портрете виднеются ключицы, позвонки, или того хуже – острые локти, то на картине изображена не женщина, а скелет. Костлявый остов, пособие по анатомическому рисунку! Вот Натали, та красавица была – справная, кругленькая, наливная, словно яблочко. Наша Натали…
Девушка шмыгнула носом. Жан присел рядом, обнял сестру.
– Не плачь, Софи. Когда заболел отец, она единственная пыталась его выходить.
– И ушла вместе с ним…
– Такому чистому ангелу в этом мире не было места. Не хнычь, душа моя, хочешь, я позволю тебе расчесать меня?
Софи вновь расцвела:
– Хочу!
Напевая под нос, девушка расчесала волосы брата и промурлыкала:
– Я, кстати, зашла к тебе с утра не просто так. Там явился Соболевский, как обычно, роется в дядюшкиной библиотеке. Так вот, я не желаю больше видеть этого грубияна в нашем доме, так и передай ему! Пошляк и нахал, вот кто твой друг.
– Во-первых, дом не наш, а дядин, и запрещать Сержу я ничего не буду. А во-вторых, скажи ясно – он оскорбил тебя? Ты хочешь, чтобы я вызвал друга на дуэль?
– Господь с тобой, Жан! Просто твой товарищ – неотесанный болван и хам, хоть и притворяется умником. Впрочем, ничего затрагивающего мою честь он не совершал.
– Вот и славно, тогда я пошел! Но жениха я тебе все же поищу, присоединюсь к тетушке. Может, найдется убогий сумасшедший, кого заинтересуют мощи…
В ответ полетела подушка, от которой Жан ловко увернулся и с хохотом выскочил из комнаты.
В библиотеке навстречу Жану кинулся неистовый Серж.
В большом кресле с чашкой кофе, откровенно потешаясь над Соболевским, сидел дядюшка. Иван Акимович был подвижным, жилистым и крепким, но уже полностью седым. Для своих лет он казался весьма моложавым и по-прежнему умел нравиться дамам. Мальцов-старший уважал друга своего племянника, хоть и постоянно подтрунивал над ним.
– Твой дядя… Мефистофель, дружище, твой дядя просто… возмутителен! Это верх садизма – se moquer comme ça4! Ты погляди на этого старика – он забавляется, он наслаждается пыткой! Видите ли, весело ему! А мне каково?! Я ж ему в обмен не какого-то Карамзина предлагаю – Вольтера, а он и в ус не дует! – Соболевский подбежал к Мальцову и загримасничал: – Жа-а-адность, да, душа моя, любезный Иван Акимович, жадность и скупость людей губит! Зачем фабриканту сочинение средневекового философа? Чтобы стаканы на заводе штамповать? Или сахар из свеклы топить? Для чего?
– Сахар из свеклы не топят, это куда более сложный процесс, юноша. Ты посмел Карамзина, нашего гения, назвать «каким-то». Я теряю в тебя веру, дорогой мой Серж.
– Вы прекрасно знаете, что я предельно уважаю недавно почившего Николая Михайловича и всех его многочисленных детей, в особенности ses charmantes filles5, а в частности, ножки одной из них… но не будем. Я выучил одиннадцать томов карамзинской «Истории» наизусть. Кстати, вы слыхали, что дописывать двенадцатый том поручили Блудову? Загубит все дело, недотепа, но да бог с ним. Вернемся к более интересным литературным опусам. «Послание монаха Роджера Бэкона о тайных действиях искусства и природы и ничтожестве магии», вы не желаете ни продать, ни поменять единственную книгу в вашей библиотеке, именно эту. Ужасная несправедливость. Подумайте, что я вам предлагаю: сочинения Вольтера на языке оригинала, прижизненное издание – это очень дорогая книга. А какой переплет!.. Я отдам сей внушительный том за во-о-н ту небольшую потрепанную брошюрку. Ну, чего вам стоит, Иван Акимович?
– Нет, сказано же. Бэкон написал занимательные работы по оптике и преломлению лучей, можешь ознакомиться на досуге. Их я могу тебе продать, но не то, о чем ты просишь. Это коллекционная книга.
– Именно! А мне, думаете, зачем она нужна? Именно для коллекции!
– Что ты коллекционируешь, кроме книг?
Жан взвесил в руке труд Вольтера, уважительно полистал.
– Дядя, проще сказать, что Серж не коллекционирует. Хрустальные вазы. За этой надобностью добро пожаловать к Мальцовым. Что, дружище, может, пора начать? По дому можно набрать с пару десятков, не меньше.
Соболевский сложил руки на груди и с видом Бонапарта ухмыльнулся.
– Не нужны мне ваши вазы, пусть они хоть трижды мальцовские! Ладно, так и быть, попытаюсь получить эту книгу другим путем. Хотя бы… Хотя бы… отчего бы и нет?.. В качестве приданого за племянницу не отдадите? Софья Сергеевна нынче так на меня глянула, я право обомлел. Слово даю – ноги ватными стали! Истинно василисковый6 взгляд, будто встретился глазами со змеюкой. Именно такой кобры в моей коллекции и не хватает.
Мальцов-старший громоподобно захохотал.
– Ты чудовище, Серж!
– Спасибо, я знаю и потому ухожу. Заберу Мефистофеля и тут же исчезну. Дела, знаете ли, служба. Но учтите, любезный Иван Акимович, что разговор о Бэконе мы с вами не закончили!
Соболевский потянул друга к выходу, дядюшка вытер глаза и поднял палец:
– Иван, душа моя, не торопись. Сегодня в семь я жду тебя у себя в кабинете. Ta promenade nocturne mérite une réprimande, mon cher neveu7.
* * *
В отдаленном квартале Москвы, в кривом Хохловском переулке, что за Покровкой, на пригорке, подальше от разлива Москвы-реки, возвышалось старинное каменное здание. Весьма унылое снаружи и еще более мрачное внутри. Узкие окна, темные подвалы, толстые стены и низкие своды – это место наводило сплин и тоску, но было эталонным для хранения бумаги. Этакий несгораемый шкаф для древних манускриптов, хартий, копий с договоров и прочих скучнейших бумаг. Это здание принадлежало московскому архиву иностранной коллегии. Здесь, посреди пропахших полуистлевшей бумагой шкафов и сундуков, каждое утро можно было слышать звонкие юношеские голоса.
При иностранной коллегии было дозволено иметь двадцать юнкеров четырнадцатого класса8, а при ее московском архиве – десять особо привилегированных мест. Недолговременная служба в архиве была замечательной площадкой для взлета карьеры любого юного повесы. В Москве было предостаточно знатных семей, желающих занять для своих непутевых отпрысков эти золотые места. Чтобы попасть в сей замкнутый мирок, необходимо было иметь серьезные знакомства и небывалые покровительства. По точному и колкому замечанию одного из таких счастливчиков Сергея Соболевского, служивших в архиве юных кутил начали называть «архивными юношами».
Все здание архива было завалено кипами разобранных и неразобранных старых дел, и лишь три комнаты предназначались для присутствия9 и канцелярских работников. Работа была несложная: два раза в неделю в течение четырех часов необходимо было переписывать данные из старых таблиц в новые. Для живых и любознательных юношей наискучнейшее занятие. Особенно когда в начальниках архива – старый глухарь Каменский, мрачный и подозрительный, с сухим, как кусок древнего папируса, сморщенным лицом. Его помощником и основным руководителем архивных юношей был Алексей Федорович Малиновский, человек более заинтересованный. В отличие от мумифицированного Каменского, он поощрял поиск интересных документов в массе скучных, их издание и, что самое ценное, их обсуждение.
Именно обсуждения и беседы тянули архивных юношей на службу. Не пыльные бумаги, а философские размышления давали темы для бесед, жарких споров и встреч помимо архива. С греческого языка философия – это любовь к мудрости. Приняв это определение за истину, молодые люди объединились в общество любомудров, где обсуждали немецких философов и собственные, порой вполне недурные, сочинения.
Служба архивных юношей нынче была в полном разгаре: Жан Мальцов, накрывшись свежей «Северной пчелой»10, сладко посапывал на широком подоконнике – досыпал на работе после шумной ночи. Рядом, расслабленно покачивая ногой, сидел Серж Соболевский. Он хихикал, лениво отрывал от газеты кусочки, комкал их и кидал через всю аудиторию, метко попадая в старательно пишущего юношу, скромно и размеренно выполнявшего работу.
– Митенька! Солнце ты наше! С тебя amande11, бутылка Аи! Как ты посмел пропустить вчерашнее благородное собрание, что происходило в полицейском участке в третьем часу пополуночи? Наши беседы, коими восхитились бы греческие мудрецы, были достойны всяческих похвал. Услышав оные, ты непременно принял бы нас в лоно истинных любомудров!
Дмитрий Веневитинов поджал тонкие губы, на его милом, почти девичьем лице отразилось обреченное выражение и в то же время раздражение.
– Ты как всегда несносен, Серж! Ведь тебе отлично известно, что нам пришлось распустить общество любомудров в связи с сам знаешь какими событиями. И будь любезен, не мешай, я перевожу прелюбопытный документ.
В ответ полетел очередной комок из новостей «Пчелы».
Вдоль стеллажей с бумагами прошаркало войлочными туфлями глухое привидение – старик Каменский. Юноши притихли, но привидение молча удалилось. Соболевский почесал в затылке:
– Порой мне кажется, что наш Каменский помер лет этак с десяток назад, а то, что мы постоянно здесь видим – лишь его тень… Но вернемся к живым, – бумажный комок вновь полетел через комнату. – Митенька, душа моя, все же зря тебя не было с нами вчера. Ты не видел пришествия музы Мишки Погодина, весьма редкого явления природы.
– Из этой музы, пожалуй, могли бы получиться недурные отбивные, – пробормотал из-под газеты оголодавший Жан. – Я могу снова одолжить у Толстого-Американца его повара. Он волшебник, из любого козла сделает амброзию.
– Звучит заманчиво. Сегодня вечером?..
– Нет, Серж, ты же знаешь, сегодня меня ждет объяснение с дядей. Давай завтра у Погодина?
– Решено. Завтра у Погодина мы обедаем с его музой. Вернее, обедаем его музой. А ты, любезный Митенька, обязан явиться с бутылкой. Ты же мужчина как-никак, не барышня.
– Опять пить, господа? Нет, увольте!
Соболевский, предвидя очередную авантюру, в азарте вскочил.
– Хорошо, не пей, но тогда ты докажешь нам свою мужественность другим путем. Как ты относишься к английскому боксу? Весьма мужественный спорт. Мы тут с Мефистофелем давеча поспорили…
– Неужто?.. – раздался из-под газеты сонный голос.
– Истинно так!
– Ну, как знаешь…
Веневитинов с интересом отодвинул перевод подальше:
– Так о чем все же был спор?
– О том, что ты, Митенька, не сможешь побить Погодина, ибо ты слаб как рыхлая вдова и боишься сломать свои холеные ноготочки об его плебейскую рожу.
– Я не вдова, тем более не рыхлая!..
– Докажешь?..
– Легко! Но и вы, господа, в таком случае сделаете то, о чем я вас попрошу.
Жан с интересом выглянул из-под газеты:
– Условия?.. Любопытно, я согласен, даже не зная, чего ты пожелаешь!
Веневитинов победоносно сложил на груди маленькие ручки:
– Извольте: я побью Мишу Погодина, а за это вы вдвоем будете сопровождать меня на вечере танцев у Зинаиды Александровны.
– Танцы?! Фи! – возмущению Соболевского не было предела. – Нет, я не согласен! Ничего скучнее быть не может!
– Струсили, любезный Серж?.. И кто из нас после этого рыхлая вдова?..
Жан засмеялся:
– Мы пойдем. Да, Серж, не спорь. Если Дмитрий побьет Погодина, что, несомненно, будет подвигом с его стороны, то мы с тобой пойдем на глупый танцевальный раут к княгине Волконской. И не возражай, это приключение может оказаться прелюбопытным. Все, господа, покончим с этим. Пора обедать и я угощаю. Я тут на днях наткнулся на премилый трактирчик на Большой Садовой…
* * *
Панкратий Васильевич напряженно кусал старческие губы – его напускная внушительность таяла по мере того, как лицо читающего Жана принимало все более недоуменное выражение.
Отчет по работе Гусевской хрустальной фабрики был недостаточен, информация приводилась урывками, безо всякой системы, цифры доходов заметно преувеличены, а расходов в разы уменьшены. Порой возникало чувство, что управляющий писал документ в дикой спешке или вовсе пытался обмануть хозяина, не задумываясь, что тот прочтет и вникнет в цифры.