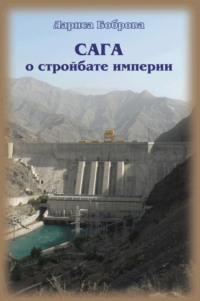Kitobni o'qish: «Сага о стройбате империи»
© Л. В. Боброва, 2013
© Издательство ИТРК, 2013
Часть первая
Обетованная земля
…Ибо Властитель вселенной и создатель земли и небес с Его совершенным могуществом и всё заключающей в себе мудростью воздвиг в той стране такие горы, что каждая из их вершин вздымается в небесную высь вровень с орбитами созвездий Плеяд и Девы. И узенькая тропинка там вьётся, подобно смиренному вздоху молящегося, что доходит до самого купола небосвода. И если какое войско пойдёт, одного камня достаточно для его отражения. И в весенние эти негодяи опасны как хищные волки и яростные львы.
Шах-Наме (Тарих и Омар-хани) мирзы Каландара, муштрифа Исфараги
1. География
Действительно – горы, достигающие купола небосвода, даже через годы, уже на равнине, будет сниться этот хребет за спиной, отделивший полмироздания. И подняв лицо к небу, ты видишь его вершины, не оборачиваясь…
Слово Тянь-Шань – знакомое с детства, его звон – округлый, не подходящий в название горам, скорее, – какой-то сфере, звонкому своду. Потом второй пласт его звучания – ну да, Китай, (только подумать – Китай!) китайское слово Тянь-Шань и означает «Небесные горы».
Острота одного московского знакомого – «Всё, что дальше Наро-Фоминска – Тянь-Шань!» То есть Тмутаракань, край света. Наро-Фоминск как горизонт, дальше – обвал, дикость.
Но это как посмотреть.
Просто другой мир. Яростно и оглушительно – другой!
Всё это было давно.
Да, дикий. Голые обожжённые скалы, кое-где тронутые растительной жизнью, упорной как нигде, стремительная и яростная река – эта дикая вода – река? Это потом, гораздо ниже, после слияния со всеми притоками, будет Сыр-Дарья, а тут ещё Нарын – стремительная, густо замешенная на иле вода цвета охры, цвета угрозы и гибели. Живая, тяжёлая, именно потому что тяжёлая и стремительная – уже как бы и не вода, а что-то живое, грохочущее курьерским поездом со скоростью восемь метров в секунду… Сколько же это в час?
В общем, немного…
Толпящиеся над обрывом ска́лы можно рассматривать бесконечно, и если движешься по дороге над грохочущей рекой, перемещаются и скалы, группируются, сходятся, расходятся – у них идет своя жизнь, отдельная, непонятная и непонятно глядящая темным наклонившимся ликом, угадываемым и уже неотвязно глядящим. И никак не избавиться от впечатления чего-то громоздко разумного и связанного, запелёнутого, заключённого в такой вот форме. «Вечная мука материи», ранее казавшаяся словесной фигурой и философской категорией – вот она, воплощённая, желающая осуществиться и выразиться…
Через три километра, пять, оглянешься – всё так же глядит в твою сторону отмеченный ранее взгляд. Но сама эта глыба, гора, это не знамо что – переместилась, подошла ближе к нескольким своим подобиям, и теперь они уже каменной бабьей группой глядят тебе вслед. И все сто километров эти передвижения, перебегания, так, и не такуже – перегруппировались, передвинулись каменные громады, сменили выражение от смены света и тени. Небольшой подъём, поворот, и та же глыба опять подошла к краю обрыва – одна, и стоит, глядит…
Подвесной мост, построенный в сорок седьмом году, о чём сообщает табличка, приваренная к одной из несущих стоек, раскачивается и скрипит, проседая, пружиня под тяжестью машины. Зачем он здесь, этот мост, среди муки каменной жизни, на осыпающейся дороге, пустой совершенно и как бы навсегда? Зачем эта дорога над пропастью с грохочущей, судорожно бьющейся внизу рекой, масляно отблескивающей на складках, гребнях и как бы втягивающей воздух стоячими воронками водоворотов, стоящими на одном месте, а значит, для чего-то нужными, вроде органов дыхания?
Перекинувшись на левый берег, дорога круто берет вверх, а на правом – на участке, видимо, совершенно заброшенном после создания моста, как раз идёт какая-то жизнь, ползают неслышимые за шумом реки бульдозеры, разгребая образовавшиеся за пятнадцать лет завалы сыпучки, а чуть дальше – вдруг взметнётся веер взрыва, с опозданием дойдёт его грохот…
Левобережная же дорога все отдаляется и отдаляется от края пропасти и летящей навстречу реки, поднимается выше, и уже виден водопад левобережного притока, скачущего по циклопическим обломкам скал к уже невидимому Нарыну Машина гудит на многовитковом серпантине и, наконец, переваливает через отрог, а за следующим – угадывается пространство долины – слишком уж удалены за ним хребты, высинены, погружены в толщу воздуха. И действительно, долина, зелёная чаша с петляющей вместе с зарослями облепихи светлой прозрачной рекой. И там, вдали, в самом конце долины (или начале?) видно, как сливаются три водотока, собравшие воду с окрестных хребтов и распадков.
Обращенный к солнцу хребет, отделивший от Нарына эту долину полутора тысячеметровой стеной, льет на неё дополнительный, отраженный медовый свет, и почти опрокинут в её сторону, так что сыплется и сыплется каменная труха и щебёнка, стекает каменными ручьями из всех щелей и разломов, собираясь в конусообразные выносы у подножия хребта. А противоположный склон, сложенный из багряно-красных алевролитов, ступенчато поднимается просторными, покрытыми яркой зеленью террасами, за которыми уже вздымаются серо-голубые хребты, голые, с убелёнными снегом вершинами, один за другим уходящие в воздух, в даль, и растворяющиеся в них.
Дорога рассекает долину вдоль по третьей от реки террасе высокой основательной насыпью, вызывающей оторопь именно своей высотой и основательностью, неужели пойму затапливает метров этак на сорок? Чего никак уж не может быть. Фантастическая же дорога в пустом необжитом месте уходит дальше – в распадок, снова сужающийся в ущелье, чтобы через двадцать два километра опять полезть на перевал и перемахнуть, наконец, в Кетмень-Тюбинскую котловину, заслоненную горами от всего остального мира и многие века недоступную завоевателям. Но это гораздо дальше, а здесь впечатление необжитости, слегка покачнувшееся от вида встречной машины, старенькой и расхлябанной, и груженной всяким скарбом, это впечатление вдруг рухнет перед чудом арыка, опоясавшего красную гору и полого, почти незаметно спускающегося к кибиткам, сложенным чабанами из собранных вокруг камней – красное на красном – и обсаженными невысокими гранатовыми деревьями с темной глянцевитой зеленью.
Постепенно из множества картин выстроится впечатление веками устоявшегося уклада, годового цикла жизни, текущей здесь размеренно и закономерно-естественно. По этой пустой дороге раз ли два в день проволочёт за собой шлейф пыли машина, груженная бидонами или лошадьми, или высоким плотно увязанным тюком шерсти, а в положенное время осени повалят вниз, в долину, овечьи стада, сбитые в плотную текучую массу, в которой будет вязнуть любой транспорт. На ста километрах дороги увязнешь не раз и не два на дню, и в конце концов удивишься, сколько же их там, вверху? Сидя в машине, прижатой к скалам плотной массой блеющей плоти, вокруг которой мечутся огромные лохматые собаки с обрезанными ушами, с хрипатой яростью догоняя то одну, то другую заблудшую овцу и прихватывая их зубами за пыльные бока, пока не прогарцуют на лошадях улыбчиво-невозмутимые чабаны…
Потом этот обвал скота все-таки иссякнет, первый снег выбелит горы, ещё тёплое солнце лизнет их бока, и ближние склоны окажутся полосатыми – задержавшийся снег отметит на них все тропы, выбитые животными за века.
Строители, вторгшиеся в долину левобережного притока, собирались запереть плотиной ущелье великой реки и пустить в дело её энергию, пропадающую здесь втуне. А заодно обеспечить многолетнее регулирование стока реки – удержать весенние паводки, что замывают хлопковые поля, скручивают в узлы рельсы железных дорог, сносят саманные дома, людей и животных внизу, в Ферганской долине. И припасти воду на засушливые времена, когда вокруг её распределения разгораются страсти, часть урожая гибнет на корню, а лежащей ниже Голодной степи воды и вовсе не достается.
Местное население отнесётся к этому спокойно и почти доброжелательно. Может, привыкнув не к сиюминутному, часовому или даже суточному измерению времени, а к измерению его годами и их двенадцатилетними циклами высоких и низких паводков, к счёту на поколения, оно восприняло этот возникший в одно лето развал и размах как нечто временное, что через какой-то промежуток должно уложиться, устояться и пребывать далее в каком-то новом качестве. Тем более что в «Манасе», его древнем богатырском эпосе, была и такая страница, где Батыр уже брался перекрывать великую реку. Ковырнул гору кетменём, оторвал её часть и кинул на середину реки. Но что-то отвлекло его, помешав довести замысел до конца. И скала торчит из воды, разламывая реку надвое перед самым ущельем, по которому Нарын выносит свои воды из Кетмень-Тюбинской котловины в Ферганскую долину.
* * *
К тому времени, когда пришлый молодой народ изумится столь удивительно правильной полосатости ближних склонов, почвенный слой уже будет сорван, клонящиеся к реке террасы выутюжены до строгой горизонтальности для удобства возведения фундаментов и всего нулевого цикла, а сами строители станут тонуть в красной, плывущей от дождей глине, теряя на ходу сапоги.
Вся щебёнка из ближних карьеров пойдет в отсыпку: террасы выровняются, устоят, начнут понемногу обрастать домами. Потом придет зима – снежная, метельная, с резкими перепадами дневной и ночной температур, высокая насыпь дороги окажется вровень с засыпанной снегом третьей террасой.
Первые три года строители (начальнику нет и пятидесяти, главному инженеру тридцать пять, а средний возраст взрослого населения – 23,7 года) будут торопливо и нерасчетливо тратить молодые силы на обустройство жизни и возведение производственных баз, чтобы запереть плотиной ущелье реки, предварительно загнав её в пробиваемый в правом склоне строительный туннель. Три года они будут долбить этот самый туннель в скальном монолите и одновременно расширять старую дорогу, ведущую к створу1 будущей плотины.
Старая дорога была кое-как обихожена до ближайшего за намеченным створом правобережного притока Токтобека, в неширокой долине которого с незапамятных времен (не с раскола ли?) поселились русские старообрядцы. И где сейчас ещё доживает свой век семья стариков, которых по праздникам навещают разлетевшиеся во все стороны дети и внуки. А далее дорога по ущелью и впрямь заброшена – не дорога – фрагменты её, перекрытые голубовато-серыми осыпями, стекающими до самой воды. А люди, что живут здесь или отгоняют на лето скот в эти места, предпочитают попадать в Кетмень-Тюбинскую котловину и расположенный в ней старинный кишлак Музтор долиной Токтобека, Токтобек-саем. Сай – это и есть неширокая долина, распадок, разлом. Здесь он пологий, уютный, с ореховыми рощицами, тянущимися до самого перевала, до водораздела с другим притоком, бегущим такой же пологой и уютной долиной до самой котловины…
К весне дорога строительства будет пробита и расширена вчерне; рядом с подвесным мостом, чуть выше и параллельно ему взметнется ажурная арка нового моста, и уже по нему потекут вверх бесконечные, отощавшие за зиму и как бы ещё не проснувшиеся стада. Посёлок строителей лишит их первого выпаса, и пастухи будут останавливаться здесь разве на ночевку, раскинув палатки в том месте, где сливаются три водотока. Но это первые год-два, но потом и эта стоянка будет каким-то образом исключена – не будет ни стад, ни палаток на зеленой траве, ни костров в вечереющем свете с вертикально стоящими дымами. Хотя именно середину поймы строители тронут не скоро, и будет стоять там и год, и два, и пять вымахавшая по плечи трава, а зимой золотой дым её сухих обрыжевших соцветий стелиться над засыпавшим пойму снегом…
Только лет через пять или шесть, когда пройдут на летние выпасы стада, вдруг из ничего возникнет там палаточная стоянка цыган; посёлок радостно изумится: надо же, цыгане! Дошли сюда, докатились, отыскали, словно узаконив его существование в мире своими палатками на зеленой траве, телегами, кострами, дымами, скрипкой и бубном, столь отличными от скороговорки комузов, звучавших на прежних стоянках. Пройдя по посёлку и собрав гаданием, плясками детей и просто выклянчив или стребовав как бы положенную дань, цыгане исчезнут, как и появились, каким-то особым цыганским способом – утром пойма будет пуста, словно и не было там ничего и никого ни вечером, ни утром, ни вчера, ни позавчера.
Так вот, строители. Нашествие их в эти места нельзя рассматривать как нашествие Мамая; это больше похоже на появление в доме сантехника с капитальным ремонтом. Сантехник может быть шумен и нагл, но дальше санузла и кухни его действия не простираются; он может загородить прихожую так, что не пройти, не выйти, но вряд ли вопрётся в спальню – своё место он знает. При благожелательном попустительстве хозяев он может только постоять у порога, калякая о том, о сём, с детским интересом озирая пространство чужой жизни и удивляясь ей, но тут же отступит к санузлу и раковине.
Уродуясь на створе, дробя скалы, утюжа их бульдозерами, ровняя террасы под жилые кварталы и возводя их, этот самый строитель в свои выходные дни будет с любопытством расползаться по окрестностям, собирая из впечатлений жизни и подробностей географии некую цельную картину страны, в кою он вторгся. Он не только выяснит, но своими глазами убедится, что река, в которую впадают две другие, вытекает из озера, образованного перекрывшим долину завалом при землетрясении; что за этим озером есть еще одно, поменьше, отделенное от первого таким же завалом. Что в верховьях второго притока, Каинды, есть довольно обширная долина с берёзовой рощей; что чуть ниже этой рощи, по притоку Каинды, пасут своих лошадей единоличники, так и не вступившие в колхоз «Коминтерн», а «Коминтерн» пасёт за следующим хребтом. Что по Кара-Колу от которого был отведён изумивший их арык, пастбища сдаются в аренду узбекам, и они как истые земледельцы распахивают широкую его излучину под кукурузу (Бог мой, сохой, на верблюде!). И появятся в семейных альбомах фотографии рядом с этим верблюдом и даже верхом на нём, хотя за одним из фотолюбителей этот самый верблюд погонится тяжелой иноходью при попытке сфотографировать его «в лицо». Незадачливый фотограф добежит до скалы, до стенки и вмиг окажется на ней, повторив подвиг не безызвестного отца Федора.
От любопытства и молодых, не истраченных на работу сил, строители пересекут все расположенные здесь по вертикали климатические пояса, доберутся до последних выпасов, озёр, перевалов, до снежных цирков, выпаханных сошедшими лавинами, и уставленных оплывшими бабами «кающихся снегов», увидят, как катится снежная крошка, мгновенно превращаясь в огромный шар, чтобы потом, остановившись под собственной тяжестью оплыть под солнцем в «кающуюся» бабу… Дойдут до самих лавинных ущелий с нависшими козырьками еще не сошедших снегов, услышат гул, торжественный и непонятно от чего исходящий, гул будущих лавин и рождающихся рек. И уйдут, с четко сложившимся пониманием, что это не для людского глаза, святая святых и что это не положено видеть.
Шатаясь по окрестностям и навещая гостеприимных хозяев стоянок, пришлый люд, усвоивший поначалу лишь приветствия и несколько оборотов местной бытовой речи, будет общаться со здешним пожилым населением с помощью молодых, а то и вовсе детей и внуков, уже посещающих школу, а часто – и своих толмачей. Строители – народ многонациональный, и среди них обязательно затесался и киргиз, и узбек, или ни с того ни с сего заговорил рыжий и вполне голубоглазый казанский татарин, перебив сопливого семи-восьмилетнего толмача и вызвав полный восторг стариков вразумительностью своей речи…
С другой стороны, за провиантом и прочим годным в употребление товаром теперь гораздо ближе ездить в посёлок, у магазинов появились коновязи, кое-кто уже катает на луке седла местную ребятню, а почетная делегация аксакалов непременно украшает своим присутствием и живописным видом все этапные строительные праздники…
* * *
Хозяин оказался мудрым – через двадцать лет всё уложилось, устоялось, строители сделали своё дело и отбыли в другие места и выше по течению Нарына, оставив на стокилометровом пространстве ущелья не только ту, первую плотину, но целых три. Роль мостов стали выполнять гребни этих плотин, подпертая ими отстоявшаяся вода цвета глубокой купоросной синевы придала всему пейзажу что-то от лаковых открыток с видами старой горной Европы. Новая дорога, пробитая на уровне гребней этих плотин, петляет с правого берега на левый, вписывается в пейзаж сопряжениями поворотов, словно так было всегда…
А старая, бывшая в девственные времена прогонной тропой, а потом собственно дорогой строительства – мощной, ухоженной, всё ещё идёт по правому берегу, спускается к самой воде, уходит в её синь и даже просматривается там некоторое время, невольно вызывая слабоумную мысль, что что-то же там есть, если есть дорога, туда ведущая. Или есть кто-то, кому без разницы, в воздушной ли среде передвигаться, в водной ли, потому что дорога снова выныривает из воды, такая добротная, таким цельным серо-стальным асфальтом покрытая, перемахивает через отрог и снова уходит в воду… Появляется и ныряет, и снова появляется, вызывая некоторую оторопь, тем более, что мощные плотины, избавленные от всяческих лесов, покровов, техники и людей, кажутся чем-то циклопическим, требующих сил невиданных, и не теперешними сооружениями, а свидетельствами мощи древних рас или вовсе оставленными внеземной цивилизацией… К тому же вверху, у самого подножия взметнувшегося отвесно хребта и несколько отдельно от поселка, обжитого и заросшего растительностью до бровей, – есть некая площадка, куда никакая растительность не допускается, кроме коротко стриженой травы, да и та кажется искусственного, химически синеватого цвета. Огороженная частой сеткой, покрытой белой фосфоресцирующей краской, площадка разбита на бетонные прямоугольники и квадраты, служащие основаниями для каких-то баков, шпилей, ажурных конструкций и паукообразных, в трубчатом исполнении объёмов и ёмкостей, тоже белых и слегка фосфоресцирующих.
Специалист и даже поверхностный знаток объяснит вам, что здесь энергия реки поднимается до напряжения в пятьсот киловольт, чтобы по вышкам ЛЭП, через долину одного из притоков попасть кружным путем вниз – в долину Ферганскую, и вверх – в Музтор. Что все эти вышки, баки, паукообразные объёмы и ёмкости суть трансформаторы, выключатели, громоотводы и еще чёрт знает что. Но для постороннего взгляда эта отъединённая и стерильно ухоженная площадка, ощетинившаяся иглами ажурных вышек вокруг паукообразных объёмов с их ощутимым гулом и напряжением, отзывающимися в слабом человеческом организме неким позывом к истерике, кажется именно чем-то посторонним и к людям, живущим или выпасающим здесь скот, отношения не имеющим. И даже существа, облачённые в белые с отблеском комбинезоны и прозрачные диэлектрические шлемы, воспринимаются как инопланетяне, устроившие здесь полигон для каких-то своих нужд. Но всё это современная мифология – никто особенно не всматривается в ту сторону, не пугается, не разглядывает существ в комбинезонах с длинными белыми шестами в руках, нужными, видимо, для манипуляций с энергией.
По окружной дороге по-прежнему катятся мимо посёлка стада, текут по гребням плотин, весной – вверх, осенью – вниз, оживляя циклопический и в то же время лаковый, открыточный пейзаж с синей подпертой рекой и глядящимися в неё горами…
* * *
Так об чём речь, дорогие сограждане?
Речь не об истории с географией.
Что касается чистоты, экологии и минимальности затопления полезных земель, Нарынский каскад – один из наиболее благополучных.
…Эта географическая глава пишется уже после того, как автору было указано именно на невнятность географии, разболтанность временных координат, небрежное введение отдельных героев, и т. д. и т. п. В общем, на дилетантизм. Конечно, принявшись писать роман, автор делать этого не умел, но, тем не менее, с беспрецедентной наглостью взялся за это дело почти по модной в те времена формуле: «если не я, то кто же?», точно зная, что больше никто не возьмется. И не то чтобы очень уж хотелось водить пером по бумаге (автор по сути своей ленив), не для того, чтобы зафиксировать уходящее или прояснить невнятность жизни. Но потому, что нечто в этой невнятности задело так глубоко и больно, что избавиться от этого не нашлось иного способа, чем расковырять болячку и посмотреть, что же там было такого и от чего так саднит.
Так вот, об этой истории, скажем так, на географическом фоне.
Не будем рассматривать все двадцать лет (от покоя до покоя уже в ином виде) за которые в данной местности произошли столь разительные перемены. Рассмотрим лишь некую болевую точку, пришедшуюся, примерно, на середину этого временного промежутка. А чтобы было понятнее и просторнее взгляду, отмотаем события на год назад, как раз к тому времени, когда посёлок строителей Музторской ГЭС, обосновавшийся в пойме левобережного притока, уже врос в террасы склонов, назвал себя Кызыл-Ташем, выписал вензеля улиц с мостовыми, тротуарами и арыками, срыл насыпь старой дороги и опоясался окружной. Залечил потревоженную до кровавой раны почву, засадил её кустарниками и деревьями и сам почти скрылся в них, будто всегда здесь был, и ничто уже не указывало на его инородность и пришлость. Только русло великой реки за хребтом, все ещё загнанной в туннель, являло собой развороченное операционное поле, уставленное всевозможными приспособлениями и инструментами, необходимыми для операции. Скальное же пространство вокруг (если можно назвать пространством вертикальные стены ущелья), дабы с них, не дай Бог, что-нибудь не упало и не покалечило бы операторов, механизмы и само создаваемое сооружение, было сплошь затянуто профилактической сеткой, сплетенной из проволоки в одной из тюрем региона. (Заключенных тоже надо чем-то занять, почему бы не плетением сети?). Сама же плотина была укрыта брезентовым шатром, под коим как бы готовился сюрприз, скрытый до времени от Божьего ока; хотя наличие шатра было вызвано лишь континентальным климатом и должно защитить создаваемое от непогоды, морозов и зноя.
По времени это, ну, примерно, 1973 год, а еще точнее, февраль, самый его конец, скажем, последний понедельник февраля, между четырьмя и шестью вечера. Как раз в это время проводятся планерки в управлении строительства, а по описанной дороге едет одна из наших героинь… Конечно, странен женский взгляд на производственные дела, как и само присутствие женщин в отдаленных и труднодоступных районах страны, тем более, если женщина занимается взрывами, пусть и направленными. Но с другой стороны, женщина вроде бы нужна и для красоты сюжета, такова, скажем, литературная традиция. Но весь смех в том, что нужна она и самой жизни, зачем-то, в самых неожиданных местах, может быть, для того, чтобы сильному полу было перед кем красоваться, а, может, как своего рода катализатор, что, оставаясь нейтральным, ускоряет реакции, генерацию идей, придает блеск и изящество мужским решениям и поступкам, чаще никакого отношения к ней не имеющим. И по жизни – женщина, занимающаяся возведением плотин направленным взрывом, смею заверить, там была.2