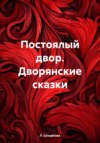Kitobni o'qish: «Банный дух. Фантастические истории русских губерний»
Шалости хозяина омута
Сказка рыбного артельщика Миронова
Село на берегу Оки-реки смотрится в воду, как в зеркало смотрится красавица. Изгороди, за которыми пышно цветет вишня, с нанизанными на колья для просушки молочными горшками и гордо озирающими окрестность петухами – будто кичка, украшенная вышивкой и жемчугами, а окна домов отражают свет и сияют, как глаза красавиц. Эх, пойти бы туда! да тяжело выносить этот полуденный зной, этот сухой ветер из полей, где запаренные бабы отдыхают на меже, раскинув руки и ноги в истоме, а сверху смотрит на них синее небо, и лучи Ярилины трогают баб за все части тела. Это тебе не холодные русалки, всегда готовые к игре и уступчивые до отвращения.
Так думал тоскующий водяной, глядя снизу на высокий берег, не замечая, что с ближайшего к нему пологого спуска идет к воде молодая женщина с ведром. Одной рукой, обвитой зелеными водорослями, держал он огромного сома за плавник, второй вцепился в собственную бороду, чтобы не взбаламутить прозрачную воду, пытаясь остановить нежданные для него самого горькие слезы. Водяного, выбравшегося на мелководье из глубокого омута, одолевала хандра, усиленная ярким солнечным светом, который влиял на него самым грустным образом, навевая меланхолию так же, как на людей утонченных влияет элегия или печальная музыка.
Внезапно хозяин омута услышал громкий хлопок – это подошедшая женщина бросила в реку ведро на длинной веревке, и омутник от неожиданности выпустил испуганного сома; тот, вильнув хвостом, ушел на глубину. Женщина вошла в воду, подняв подол сарафана. Белизна ее ног смутила бы кого угодно, а хозяин омута был к женскому полу неравнодушен, что хорошо знали русалки, у которых столь пышных ножек не имелось, и водяной, почуяв в себе молодецкость, ухватился за ведро и потянул его на себя, рассчитывая, что баба последует за ведром, в чем и не ошибся. Женщина стянула с себя сарафан и бросила его на берег, а сама стала ловить веревку, приседая и пытаясь в воде, ставшей непрозрачной, найти упущенное ведро.
Заходя все глубже, она ощущала странное щекотание вокруг своего тела, становящееся все более настойчивым, и чувствовала, как вода раздвигает ее ноги и между них скользит какая-то большая рыбина, будто хочет ее прокатить на себе, и чувства при этом женщина испытывает самые доселе незнакомые, а вода потихоньку уносит ее все дальше от берега, а острое чувство в укромном месте уже отнюдь не щекотка, и что-то будто хочет в нее войти, и тут женщина опрокидывается на спину. Она готова умереть, потому что ее тело пронзает копье водяного духа, заставляющее кричать от боли и страха, в лицо плещет волна, поднятая водяным, пытающимся залезть на бабу, будто она плавучая коряга. Теряя сознание, видит Леонида над собой косматую бороду зеленого цвета и, хлебнув воды, опускается она на глубину, уже бесчувственная. Только волосы стелются в воде, а глаза уже ничего не видят, и последнее дыхание вырывается из груди ее и пузырьками поднимается к поверхности воды. Но хозяин омута легко поднимает Леониду, он не дает ей утонуть, выносит и кладет на берегу, укрывая сарафаном, и с сожалением уходит в воду, не раз оглянувшись, ибо его водяное сердце не хочет расставания с той, кого он познал благодаря счастливому для себя случаю. Нырнув почти до середины реки, он говорит себе: ей тут не место, пусть живет, а если захочет вернуть свое ведро, то пусть приходит опять. Но что такое ведро? Ржавая посудина. Нет, этим женщину не прельстишь, надо подарить ей речные сокровища.
Очнувшись спустя некоторое время, жена рыбака не может понять, когда она сумела ведром зачерпнуть столько рыбы: тут караси, и щука, и два сома. А на дужке ведра, висит, зацепившись, ожерелье из речного жемчуга, переливаясь, как белые лунные слезы. Быстро одевшись, идет Леонида по берегу, пытаясь припомнить, что же случилось с ней, и решает, что огромный сом пытался утянуть ее под воду, но там была подводная коряга, уверяет себя Леонида, и она села на эту корягу, не давшую ей утонуть, нашла ведро и вытащила его на песок, после чего наловила рыбы. Полное отсутствие логики не смутило женщину, желавшую саму себя обмануть и преуспевшую в этом.
Муж Леониды пришел домой поздно, а выпитое у кума в гостях хмельное не позволило ему заметить оживленное смущение жены и не показалось странным то, как она повела себя, едва они оказались в постели. Это была бурная ночь, гроза полосовала небо молниями, волны на реке поднимались и опадали, сквозь грохот не было слышно воплей водяного, согнавшего в стаю русалок, которых он раздирал от хвоста до пояса, пытаясь сделать им ноги, отчего русалок могло бы стать намного меньше, если бы самые умные не спаслись бегством, подав пример остальным. Хозяин омута жалел о том, что любовный опыт нельзя повторить, он выдрал себе полбороды от досады, что отпустил красавицу вместо того, чтобы превратить ее в игрушку, пусть бы делал с утопленницей что хотел эти две ночи, пока луна не пошла на убыль. А теперь, чувствовал он, ее постель качается, как вода в реке, и она плывет по волнам страсти, но не с ним, а со своим мужем, и от этого бесновался водяной все сильнее.
Наконец, не выдержав мук ревности и вожделения, водяной выбрался на берег и направился к дому Леониды самым коротким путем к тому дому, на который указал ему взблеск, отразившийся от жемчужины из ожерелья на один короткий миг – это луна выглянула из-за туч, чтобы коснуться своим лучом дареного украшения, положенного неразумной женщиной на подоконник. Но тут на его пути оказалась часовня, и обойти ее у него не хватило сил, да и решимость водяного несколько остыла при виде изображенного на ее стене креста.
Через несколько недель Леонида идет к знахарке. Она хочет знать, куда подевался ее стыд и что с ней происходит. Знахарка ничего не может толком понять, она могла бы признать воздействие некоей силы, если бы Леонида рассказала все как есть, но та ничего не помнит. Ночи ее проходят в неутолимом угаре, несчастный муж истощен, а ей все мало. Но одно ясно видит ведунья: что женщина зачала.
– Не согрешила ли ты? – спрашивает она, – не ела ли скоромное в Петров пост? А теперь посмотри в зеркало и скажи, что ты видишь в нем?
И смотрит Леонида, и видит Леонида не зеркальную поверхность, а речную гладь, и как оттуда, со дна речного кувшинка тянется, пробиваясь к воздуху в стремлении распустить свои лепестки навстречу солнцу, чтобы стрекоза села на самую сердцевинку, обхватив ее своими лапками цепко, крепко, щекотно. А из глубины зовет ее кто-то, манит, очаровывает: – Иди ко мне, будешь у меня в чертоге жить, моей царицей быть.
Все без слов поняла знахарка:
– Попала ты в свой недобрый час к хозяину омута, теперь берегись. И ребенка, что носишь, к воде три года не подпускай, не то потеряешь свое дитя. А мужу скажи, чтоб не рыбачил один.
От слов этих захолонуло сердце Леониды, ведь Федот как раз поплыл на лодке сети снимать. Отдала она ведунье ожерелье, сама домой поплелась.
В это время Федот вторую сеть из воды поднимал, тяжелую-претяжелую. Билась игривая волна о борт лодочки, опущенные весла оплетали травы и водоросли, и тревожно кричал на болоте кулик, а над головой пролетали речные чайки, о чем-то крича. Радовался рыбак: хороший улов, видать, попался, женушка довольна будет. Сеть была большая, и он с трудом вытянул ее. А когда вывернул, то увидал, что поймал огромную рыбину. Только он хотел ее оглушить, как вдруг рыба превратилась в человека, покрытого водорослями, как одеждой, с длинной зеленой бородой. Федот понял, что поймал хозяина омута, про которого местные рыбаки всякие истории рассказывали. А тот и говорит:
– Ну что с тобой сделать, рыбак? Ты разве не знаешь, что в нерест рыбу ловить нельзя? Я долго смотрел, как ты запреты нарушаешь, но теперь хватит.
– Так нерест давно прошел, хозяин,– проговорил Федот.
– А весной кто судака ловил? И не только судака, я видел. Ну все, прощайся с жизнью, будешь теперь сомов кормить.
– Прости, хозяин омута, не топи меня, моя жена одна пропадет, кто ее кормить будет? Мы еще не жили по-настоящему, света не видели толком. Все река да река, вода да вода, а господа в таких дворцах живут, каких мы не видывали, такую музыку слушают, какую мы не слыхивали. С детства мечтаю хоть глазком глянуть на ихнее житье.
– Эка невидаль! Но последние желания должны сбываться, так что поживи пока. Также разрешаю тебе в любое время рыбу ловить. Но за это ты отдашь мне то, о чем пока не знаешь. Не отдашь – сам возьму.
С этими словами плюхнулся омутник в воду, и исчез, только круги по воде пошли. Со страху Федот рыбу всю отпустил, сам домой заторопился. Только плыл он долго почему-то, пока приплыл, несколько месяцев прошло. Приходит рыбак домой, а там никого нет, дом холодный, по углам паутина висит, как занавески– одним словом, нежилой дом. Он к соседям кинулся, а они говорят:
– Жена твоя пропала, остался малый ребенок, забирай, коли вернулся.
Забрал Федот ребеночка, принес домой, начал жизнь снова, трудную поначалу, но постепенно налаженную. Соседки помогали ребенка воспитывать – мальчик был сероглазый, светловолосый, пригожий, как и мать его пропавшая. Исполнилось ребенку три года, и тут забывший про условие водяного Федот увидел сон: омутник стучался к ним в дом и требовал отдать ребенка. Решил Федот из тех краев подальше уехать в тот же день, запряг лошадь, посадил мальца в телегу, стегнул сивку. Никто их не провожал даже прощальными взглядами из окошек, потому что не знали односельчане, что Федот решился покинуть эти места.
Когда беглецы въехали в лес, стало темно, только небо еще светлело, а внизу сгустился мрак, как в душе грешника, и пролетели по небу утки, заухал филин, да стая ворон взметнулась с дерева, захлопав крыльями.
И насторожился лес, прислушиваясь: где это шумит вода, булькает, шлепает, как в ведрах, что в коромыслах несет баба от колодца, и выплескивается вода с каждым шагом и на землю упадает целыми плошками. Только никакая это не баба, это шагает от реки водяной-омутник, и идет он по Федотову душу, злой, разгневанный, разъяренный. Кто доложил водяному про побег – может, серая туча, что небо накрыла, или, может, донеслась до его чуткого уха воронья суета? Или углядел он погасшие окна того домика, с которого давно не сводил алчного взора? Может, сама Леонида, почуяв недоброе, послала за своим дитем? Нежная и печальная, песня ее оборвалась, недопетая, но в сердце свое она водяного не впустила, помня все свои потери. И то, как однажды оставила она дитя в колыбельке, и пошла к воде – босая, с распущенными волосами, а на берегу встала и не отвечала призыву водяного, пока тот не пообещал, что сына не станет забирать три года.
Завороженный страхом, следит лес, как вначале похожий на старика в белой рубахе, меняется водяной, вставший на дороге, как он становится больше, выше ростом, и туман вьется от ног его, ковром текучим устилая траву, подножия деревьев, дорогу, и как потерявшая направление лошадка Федота встает как вкопанная, не видя дороги. И кажется лесу: слышно дыхание и стук сердца испуганного селянина, и детский голосок спрашивает:
– Почему мы не едем, тятенька? – а у тятеньки нет сил ответить: при виде грозной фигуры, вставшей на его пути, он онемел, ослеп и оглох, только одно и успел услышать:
– Отдавай то, что должен.
А потом опять стало все как было, и водяной исчез, да только вот сына унес, но когда? Сколько времени прошло? Небо уже светлеет, заря красит его в розовый цвет, и лес шумит, взбудораженный новостью: забрал-таки водяной что хотел забрать. Птицы галдят, обсуждая это – каждая на свой манер, и кружат они над рекой, пытаясь разглядеть хоть что-то на глубине, но в темном и глубоком омуте ничего не увидишь, кроме выплывающих из него рыб – на то он и омут, чтобы тайны хранить.
Взвыл Федот не своим голосом, тряхнул кудрями длинными, стеганул лошадку, и та припустила во всю прыть, а куда, не видит Федот из-за слез, что солонее морской воды, горячее угольков из печи, горче хрена и крепче горчицы, потому что это и слезы тоски, и слезы обиды, и слезы бессилия были. Опомнился он только тогда, когда еловая ветка ему по лицу хлестнула, как ладонью ударяют, чтобы в чувства привести, если кто в истерике бьется. Видит наш мужик, что оказался он в той части леса, куда сельчане никогда не ходили, суеверно считая те места обиталищем ведьмы, и что стоит та ведьмачка на пороге своего дома и с усмешкой глядит на него, рукой к себе подманивая, а у ног ее трется черный кот, а на плече сидит ворон, похожий на писца из налоговой управы, куда Федота посылало сообщество для решения вопроса о натуральной повинности рыбаков. Она все знает, и ему говорит:
– Надо тебе, Федот, в омут идти сына спасать. Пойдешь к реке, когда молодой месяц выйдет на небо. Попроси месяц: дай мне, месяц, лучик твой ясный. И прыгай в воду. Возьми это ожерелье, мне оно ни к чему, а тебе может пригодиться. И вот еще что: он у тебя в долгу остался, так что надежда есть.
– О чем ты, бабушка?
– Разве не дал он тебе обещания какого? Вижу, не помнишь ты ничего. Только вот что я тебе скажу: на богатства его не зарься, бери только то, что понадобится. А теперь иди.
Сделал Федот, как его ведунья научила. Прыгнул в воду, когда молодой месяц на небе показался. Из воды, медленно опускаясь на дно омута, видел он тонкий лучик, что месяц ему протянул; россыпь звезд будто упала на лежащие на дне коряги и водяные растения, осветила стаю испуганно метнувшихся рыб и сома с длинными усами. Сом принялся заглатывать огоньки, они всполошились, сбились в кучку и потекли наверх, повисли, похожие на городской фонарь, освещали путь Федоту.
И видит рыбак: не сом это, а городовой, в мундире, при оружии, ростом не менее двух аршин и семи вершков, с усами, а он, Федот, не на дне омута, а идет по темной улице к огромному дворцу с галереями, ярко освещенному, перед которым стоят кареты господ, приехавших на бал. Преодолев смущение и боязнь, Федот вместе со свитой важного генерала входит во дворец и встает у стены в большом зале, где гремит музыка. Ослепительный свет показывает наряды дам, мундиры, эполеты и ордена военных и сановитых вельмож, фраки и смокинги молодых людей, танцующих с красавицами в париках и драгоценностях, которыми они увешали грудь и голову.
Внезапно музыка смолкает, и все почтительно замирают, глядя на противоположную дверь. Император, императрица и великие князья входят, шествуют мимо почтительно склонившихся гостей к другому помещению. Император одет в военный китель с золотыми петлицами, на груди множество орденов, ноги обтянуты панталонами. Федот во все глаза смотрит на государя, чье прекрасное лицо кажется высеченным на монете из бронзы и оно совершенно: на загорелом лице ярко светятся голубые глаза, их суровое выражение смягчает легкая улыбка. Император, императрица и великие князья прошли между двумя мгновенно образовавшимися рядами гостей, и вся группа исчезла в двери, находившейся напротив той, в которую она вошла. Ряды смешались, началось медленное движение пестрых фигур. Словно стая рыб, – пришло вдруг в голову рыбака нелепое сравнение, но тут перед ним оказалась нарядная барышня, и он в величайшем смущении осознал, что его ведут на танец. Многие присутствующие оттеснились к стенам, и образовалось два ряда танцующих. Музыка стала медленной и торжественной, кавалеры подавали руку своим дамам; Федот подражал их действиям. Процессия пар начала движение, то быстрое, то медленное, которое диктовал оркестр музыкантов. Шуршат шелка и кружева, звенят медали, горят свечи в канделябрах, все течет куда-то – кажется Федоту. Он, наконец, с невыразимым облегчением оставляет молодую красавицу под надзор ее матушки и с непринужденным видом выходит в следующий зал. Тут находится множество столов с золотой и серебряной посудой, снующие лакеи в парадных ливреях сноровисто ставят последние приборы. Федот попятился, но натолкнулся на входящего императора, и торопливо отстранился, ожидая, что его или казнят, или с позором выставят из дворца. Но император вдруг с интересом взглянул на неловкого гостя и, обратясь к императрице, продолжил беседу, начатую за пределами этого зала.
– Так что же, душа моя, вас смущает? Делание добра есть высшая привилегия власти. Возьмем, к примеру, этого молодого человека. Я хочу одарить его в память о том, как он чуть не сбил меня с ног, и сбил бы, не будь я выше ростом и сильнее телосложением.
Смущенный, Федот не поднимал глаз, глядя на изящные ботинки императора, рядом с которыми переступали не менее изящные туфельки императрицы.
– Скажите, юноша, чего вы хотите более: счастья или богатства? Или, может, почестей?
– Я хочу вернуть мою жену и сына,– проговорил рыбак.
– Значит, счастья. Этого я вам дать не могу.
В окружении императора раздались сначала робкие смешки, они усиливались, и к ним стали примешиваться странные звуки, похожие на бульканье.
– Вы не люди! – закричал Федот, хватаясь за пробившийся к нему сверху тонкий, как паутинка, лунный лучик. Перед его глазами все поплыло, будто нарисованную нестойкими красками картину смывало водой: размылся государь-император, затем его свита, потом столы с драгоценной посудой, стены, канделябры и люстры, и скоро исчез дворец; остался только холодный мрак и колыхание водорослей. Морок рассеялся. Вместо нарядных господ видит Федот речных рыб, вместо колонн – коряги, обвитые водорослями. В жилище омутника, сложенном из валунов и останков затонувшей баржи, с крышей из костей лошадиных и человеческих он увидел сына, играющего рассыпанными сокровищами хозяина омута. Мешки со старинными монетами наполовину истлели, и сокровища лежат кучами, есть тут и сундуки с украшениями, и золотая посуда. Но не нужны сокровища Федоту, он пришел за женой и сыном. Взял он дитя на руки, чувствует – совсем холодный ребенок, и словно чужой: отца не узнает, к рыбам тянется. И рядом с ним Леонида, но ее лицо подернуто зеленью, а в глазах стоит ночь беззвездная, глухая, и она не слышит Федота, и не видит его, а когда он протягивает к ней руку, вздрагивает. Ее взгляд проясняется, и он понимает, что Леонида еще жива.
– Милая, пойдем домой,– напрасно умоляет Федот.
– Не отпустит водяной меня, я не вольна, – отвечает она. – Пока его нет, забирай сына и уходи. Только возьми вот этот поднос золотой да блюдо серебряное. А вместо платы отдай ожерелье, которым он меня приворожил.
Но не успел Федот этого сделать: прочь метнулась испуганной рыбиной русалка-жена, и он понял, что возвращается водяной, и что ему пора уходить. Оттолкнулся ногами от дна, и вынесла его река на берег.
Золотой лодочкой плыл по небу месяц, мигали бриллиантовые звезды, теплый ветер овевал лицо, сушил слезы рыбака. Он не смог вернуть Леониду, а сын его ни живой, ни мертвый.
– Забери свою подачку! – размахнувшись, он забросил ожерелье как мог дальше в воду и побежал к своему дому. Вдруг слышит: сзади хозяин омута за ними идет. Большой стал водяной, как великан. Где ступит – там бочага образовывается, где постоит – болото появляется. Деревья перед ним расступаются, как подданные перед царем, трава стелется, как вельможи, кусты склоняются, как фрейлины.
Что делать – не знает Федот. Надо бы у месяца спросить, да небо тучами заволокло. Все ближе водяной, того гляди, нагонит.
– Отдай сына! – кричит.
Кинул Федот за спину поднос золотой, тот упал и стал в землю уходить. Водяной его начал откапывать, а Федот дальше побежал. Вбежал в дом, дверь покрепче закрыл. Посадил сына на лавку, сам стал топор искать. А водяной уже в дверь ломится, да открыть не может. Стихло все, и вдруг окно как распахнется! Лезет в окно хозяин омута. Да только окошко небольшое было, он и застрял. Ни туда, ни сюда двинуться не может. Почернел, того я гляди лопнет.
– Помоги, Федот, – молит он. – Худо мне, сейчас лопну. Я тебе то показал, что ты мечтал увидеть – самого царя и царицу.
– Оживи моего сына и верни мою жену, тогда помогу, – отвечает Федот. – И вспомни – меня искушали богатством, а я выбрал счастье, а счастье мое – Леонида и наш сын.
– Ладно, твоя взяла. Только помоги!
– Как?
– Поднеси ко мне серебряное блюдо, которое ты забрал.
Поднес Федот блюдо водяному. Тот посмотрел в него, и рыбак увидел отразившееся лицо императора, но только на миг. Водяной стал уменьшаться, будто таял. Потом исчез, только журчание раздалось.
Оглянулся Федот: стоит его женушка, сына на руках держит. Тут ревность напала на рыбака, стал он ее укорять в измене, и прибил бы, если бы не сынишка. Помирились они тогда, когда Леонида сказала, что он сам пропадал неизвестно где много месяцев. Они уехали жить подальше от реки, Федот больше рыбачить не отваживался, сменил занятие: стал паркетчиком. А про водяного местные жители много говорили: какое-то время он пытался баб заманивать, две чуть не утонули, но с тех пор как местный батюшка в омут святой серебряный крест опустил, водяной присмирел и больше не шалил, кроме как со своими русалками, да и то только до Иванова дня, а после – ни-ни.
Камневик, слуга Перуна
История старого музыканта
Случилось это в 1830 году. Такого жаркого лета в нашей Тверской губернии давно не выпадало: после мочницы, как у нас называют дождливую весну, ни дождинки не пролилось на истомленную почву за два месяца. Казалось, бледно-голубое небо смеется над крестьянином, засеявшем поле в надежде на урожай, а по ночам полыхали страшные зарницы и громыхали громы, пугая поселян пожарами, но обошлось, только жарынь не спадала. В эту-то пору и приехал из города Николай Федорович, жених нашей барышни, чтобы познакомиться с родственниками невесты, а сама она, видать, для приличия, осталась в городе. В усадьбе приезжему ученому не сиделось, тянуло его лирическое чувство в поля да луга, да в скалы, и все чаще видели его в разных местах, с взором горящим, и заинтересованно он что-то искал. Что его интересовало, узнал Василий Терентьев от Петра-охотника. А узнав, посоветовал Петру Евсееву от этого дела – показывать камни с рисунками приезжему – устраниться. Но Петр только смеялся и спрашивал: что худого будет в том, что барин перепишет рисунки и буквы каменных плит? Пусть прославит наши места, где раньше целые капища бывали, а теперь только каменные плиты кое-где остались, и на некоторых, как говорил барин, забытыми рунами написано.
– Видали мы эти плиты, не только ты их знаешь, у озера под скалой в расщелине лежит один камень, на нем то ли кочерыжки выбиты, то ли костыль с крюками, иные знаки на лопаты похожи, иные на вилы или ножницы. И фигура страшная с дубиной. Трудно понять, потому как пыль веков насела, мхом заросли.
– Николай Федорович прориси с таких камней делает и отсылает другому ученому, я сам в город отвозил для переправки в Петербург. Где, говоришь, камень, у озера?
Через день после этого разговора молодой исследователь древнерусской старины отправился к тому камню, местоположение которого было неосторожно раскрыто Петру его знакомцем. Из-за предстоящей жары нарядился он в свободного покроя размахайку из миткаля, надел заплечную кожаную сумку , в которой лежали: портмоне, в котором, помимо денег, он носил портрет невесты своей, а также блокнот, карандаши, большая лупа и фонарик. Вышел граф чуть свет, и не взял, вопреки обыкновению, с собой Петра, решив, что путь не дальний, место он уже облазил, и найти камень не составит труда. Он жил во флигеле, отдельно от господ, потому что сам предпочел уединенность по склонности своей к чтению и научными занятиями. Сторож пребывал круглосуточно в своем домишке рядом с воротами, и граф, найдя ворота запертыми, вошел в обиталище Аргуса. Из угловой каморки халупы доносился столь богатырский храп охранника усадьбы, что Николай Федорович пожалел того будить, увидев ключ от ворот лежащим на столе. Там же была и раскрытая книга, при внимательном взгляде на которую молодого ученого прошиб пот. Это была старинная книга заговоров, о которой он слышал, но никогда в глаза не видал, и открыта она была на заговоре для отворения камней, который сей любознательный молодой человек и скопировал, не надеясь упросить Клима продать ему книгу. Он знал упрямство и недоверие здешних жителей, из которых только один Петр помогать ему согласился, остальные же наотрез отказывались. Едва он сунул записанное в карман, как проснувшийся Аким вошелв горницу. Сторож проводил барина до ворот, отпер их и долго стоял, глядя в тому вослед, а потом направился добирать недоспанное.
А Николай Федорович, для дальнейшей краткости просто Николай, поскольку был он достаточно тогда молод, быстрым шагом направился к скалам. Отыскать плиту, зная тайный проход, оказалось нетрудно, и вот в свете восходящего солнца, проникавшего как раз в расщелину, пред ним лежит большая ровная плита с выбитыми на ней руницами, знаками и символами, и он тщательно перерисовывает их, чтобы отослать своему коллеге для изучения. Но солнце не столь долго, как надобно, освещает древнюю плиту, и становится ясно, что последние знаки он может не успеть скопировать. И тогда Федор вспоминает о заговоре, садится на кстати притулившийся у плиты валун, и начинает тот заговор читать вслух, стараясь не сбиться. Он многое понимает в славянских древностях, и ему кажется, что он все делает правильно, только вот не понимает на что сел. А сел он, господа мои, на валун, поросший таким густым мхом, что не только мягким казалось сидение на нем, но и сокрытым оказался рисунок, составляющий образ человеческий. Там были выбиты секалом голова, тулово, руки-ноги, а в правой поднятой руке было то ли копье, то ли палка, и в тот момент, как прочитал наш незадачливый исследователь магическое заклинание, камень шевельнулся под ним и он с него свалился. А встав, увидел перед собой себя самого и подумал, что видит галлюцинацию, то есть не то, что есть, а то, что кажется. Но галлюцинация ударила его палкой по плечу, засмеялась и покинула расщелину, оставив потрясенного молодого человека приходить в себя, на что понадобилось изрядное количество времени, так как он почувствовал слабость сильную и боль в ногах и спине такую, что даже распрямиться толком не смог. Николай подумал, что застудил спину, сидя на камне, но знал, что баня его от простуды исцелит, если хорошенько попариться. Но он долго приходил в себя, и шел очень медленно, а когда вышел на дорогу, то присел отдохнуть под деревом. Через несколько минут мимо него пронеслась карета, в которой сидели родители его невесты. Они его не узнали.
Только пыль оседала на дороге как свидетельство того, что это не было видением, да небо, казалось, смеялось над незадачливым женихом, будто кто-то невидимый и неслышимый, но всезнающий, смотрел оттуда. Хорошо же я выгляжу, – думал Николай, – если даже они меня не признали. Показалось село вдалеке, за полем, которое надо было перейти по жаре, но такая слабость напала, что прилег молодой граф под кустиком придорожным и задремал, слыша сквозь сон неумолчный сорочий гомон, будто насмехались птицы над ним, а из леса тянулись шорохи сухой травы и запахи смоляные, да кукушка считала годы.
Отдохнув, поплелся наш герой дальше, прихватив подвернувшуюся палку как посох, и пришел, наконец. в село, от которого до усадьбы было рукой подать. Но тут ему нестерпимо захотелось пить, и он завернул в трактир. Сел за столик, к нему половой подошел вразвалочку и спрашивает:
– Чего вам, старче? Воды, сразу говорю, не продаем, но для вас сделаю исключение. Вы ведь к монастырю идете, дедушка? Гороховую разварку могу предложить, или свекольнику, на второе гречня есть – для богомольцев в самый раз будет.
– Принеси мне зеркало, – просит Николай, и вскоре видит себя в маленьком зеркальце. То есть видит он отнюдь не себя, а старика лет девяноста, с морщинистым лицом, обожженным солнцем, с выцветшими слезящимися глазами под седыми бровями. Тут он и просидит до вечера и поймет по зрелом размышлении, что неосторожно вызвал из камня некоего древнего духа, а то и самого Перуна или Велеса, который забрал его тело, будучи отворенным из камня, и что теперь ему осталось жить недолго, поскольку тело человека не столь бессмертно, как дух его. К счастью, у него осталось с собой в наплечной сумке немного денег и, назвавшись Кузьмой Петровым, снял он комнатушку в трактире, чтобы заночевать. Злая тоска, как василиск, грызла его сердце, и решил он наутро в усадьбу сходить, посмотреть хотя бы издали, на парк усадебный с фонтанами, теплицами и беседками – глянуть на все эти красоты в последний раз, а там и уйти странствовать по русской земле. Уже плыли перед глазами его дивные картины Тверской земли, где густые леса, где озера, болота и реки, где монастырские и церковные колокола благостным звоном гонят прочь древних забытых богов, которых он, к несчастью своему, почитал наравне с православием, как вдруг неожиданная мысль пронзила его: а куда же отправился вызванный им из камня дух?
Мысль эта подняла Николая Федоровича – а теперь уж мы его полным именем-отчеством имеем право назвать – с его одра в угловой комнатушке, где он отдыхал, и беспокойство привело прямо в зал, где было шумно от гулявших там людей. Гуляние это выражалось главным образом в питие напитков от зеленого змия и разговорами, от которых зал гудел, как улей.
– Что, дедушка, выпить решил? – встретил его половой вопросом, и нашему непьющему пришлось заказать вина и сделать вид, что он так себе, серая моль, неприметный странник, примостившийся на краешке скамьи недалеко от столика, где сидели, сдвинув головы, два его знакомца: Аким и Петр, сторож усадьбы да его провожатый по окрестным местам. Хорошо знающий мифологию древних, снова сравнил Николай Федорович одного с Цербером и Аргусом, а второго с Хароном и Анубисом – проводниками в иной мир. Прислушался он к их вполне тверскому разговору, начатому, видимо, незадолго до его прихода.
– Христом – Богом клянусь, я сам удивился – говорил Аким. – Смотрю, идет молодой барин и никого не узнает, и одет в какую-то балахонину, я ему: мол, здравствуйте, ваше сиятельство, а он повернулся ко мне, что-то сказал и рукой повел, и я ему как больному, память потерявшему, напоминаю: вы, мол, ученый, тут гостите у наших помещиков, а завтра к вам невеста приезжает. Он спрашивает: красивая ли невеста, я отвечаю: чисто херувин, он усмехается, а меня как морозом по коже обдало, я ему говорю: не изволите ли проводить в покои ваши, Николай Федорович. Он кивнул мне, а сам направился через зал в гостиную, где у господ фортепьяно стоит, на котором барышня играет, а я последовал за ним. Он прошел через все жилые комнаты, а смотрел так, словно оценивал, счастье, что барыня с барином в Тверь по делам уехали – не знаю, что бы они подумали, может, что от жарыни их будущий зять ума лишился. Он в гардеробную барышни зашел, головой повел, и к шкафу, увидел зеркало и рассмеялся так нехорошо, что меня морозом по коже обдало. Я сумел отвести его во флигель, он там на кровать бухнулся и развалился на ней. Я ему: откушать не изволите ли, а он мне рукой на дверь указал. Не потрафил я ему, что увел из покоев в скромный, с белеными стенами флигель, так выходит? Но он же сам его и выбрал себе для гостевания. Явно его солнце в макушку напекло, ярится наш Ярило не по-детски.