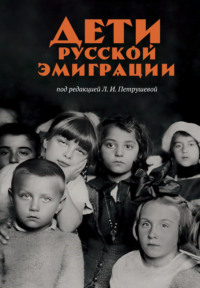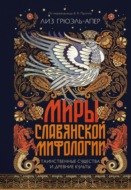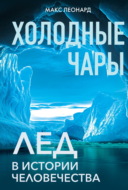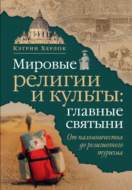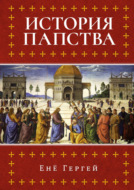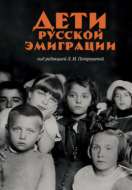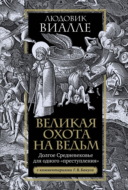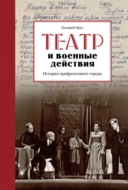Kitobni o'qish: «Дети русской эмиграции»
© Петрушева Л. И., состав, предисловие, 2025
© Государственный архив РФ, фото, 2025
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2025
КоЛибри®
О русских детях в изгнании
«Пережитки последних страшных лет еще дают себя чувствовать даже здесь, в мирной обстановке, когда, казалось бы, все жуткое осталось позади, когда нечего бояться и некуда бежать…»
(из сочинения ученицы Русской гимназии в Моравской Тржебове)
Для любого государства нет худшего бедствия, чем гражданская война. Минуло чуть более 100 лет, как в России началась Гражданская война, но и сегодня эта тема остается одной из самых острых и актуальных в отечественной истории. Хотя и с трудом, но к нам приходит осознание именно трагичности этого события, ведь гражданская война, самая противоестественная из всех войн, по своей сути является братоубийственной.
Исторические события ушедшего века потрясли устои нашего государства и глубоко раскололи российское общество. Оценка тех событий не могла быть для всех одинаковой и простой. Многие тогда впадали в идеологические крайности. Кульминацией всех этих идеологических противоречий явилась Гражданская война, в которой бессмысленно искать виновных. Представители обеих противоборствующих сторон – граждане той же России, будущее которой они видели по-разному. Те и другие были подготовлены к войне психологически. Нетерпимость и радикализм были присущи не только политическим лидерам, но и основной массе граждан. Четырехлетняя мировая война, также сыгравшая в судьбе России свою роковую роль, привела к тому, что человеческая жизнь практически обесценилась. Террор, возведенный в основополагающие принципы политики «красных» и «белых», стал характерной особенностью Гражданской войны в России.
В этом жесточайшем и бескомпромиссном противостоянии большевики сумели одержать верх. Около 1,5 миллиона российских граждан оказались за пределами своей Родины, не приняв новой власти и выбрав для себя судьбу изгнанников. Было бы неверно не отметить и даже не подчеркнуть, что идеологическое противостояние между разными партиями и группами продолжилось в течение долгого времени среди тех, кто вынужден был покинуть Россию.
У преобладающего большинства российских изгнанников огромные трудности возникли уже с первых дней пребывания на чужбине. Многим тысячам русских людей пришлось пройти через беженские лагеря Турции, найти страну для проживания и обустройства, найти работу и жилье, получить правовую защиту. Наши соотечественники оказались раскиданными по всему миру. Русский Берлин и Париж, Прага и Белград появились в их жизни не сразу. Далеко не все государства, сами пребывавшие в нелегком положении после окончания Первой мировой войны, были готовы принять большие потоки беженцев из России. К тому же пришлось пережить и еще одно разочарование, очень больно ударившее по русским изгнанникам. Бывшие союзники по борьбе с Германией не сделали исключения для русских, не приняли активного участия в их судьбе. Франция хотя и участвовала в эвакуации военных чинов белых армий и гражданских лиц из России, но, как и другие страны, не предоставила благоприятных условий для проживания на ее территории даже представителям военной эмиграции. Все русские беженцы оказались среди прочих. В правовом отношении они были приравнены к категории иностранцев, поэтому им приходилось рассчитывать больше на собственные силы. Многие из них могли существовать только за счет благотворительной помощи. К тому же психологическая неподготовленность к жизни вне России усугубляла и без того сложное положение людей. В этой ситуации особое значение приобрела способность русских беженцев к самоорганизации, к созданию структур для решения этого комплекса проблем. Эту роль сыграли благотворительные, профессиональные, общественные, культурно-просветительские и другие организации. Не только социальная защита являлась основным направлением в их деятельности. Огромный и поистине бесценный вклад они внесли в сохранение русскими изгнанниками национальной идентичности, помогая пережить унижения беженской жизни, помогая адаптироваться и интегрироваться в жизнь принимавших стран.
Созданные многочисленные организации не только помогли в обустройстве на чужбине, но, являясь фактически центрами русской жизни, помогли изолировать свой русский мир от иностранного влияния. Идея о принадлежности к Зарубежной России давала возможность примириться с новыми условиями жизни. При этом понятие «Зарубежная Россия» было наполнено вполне конкретным содержанием – создавались такие очаги национальной культуры, как театральные общества, хоры, оркестры, научные организации и союзы, русские музеи, библиотеки, архивы и, конечно, русские учебные заведения.
В нашем сознании олицетворением эмиграции стал в первую очередь военный человек, прошедший Крым, военные лагеря Галлиполи, Лемноса и Бизерты, из которых ему с огромным трудом удалось переехать в Болгарию или Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. Югославия). Гражданская война вошла буквально в каждый российский дом, не только перевернула жизнь взрослых, но и лишила детства тысячи детей, разрушила их счастливую жизнь в родной семье вместе с любящими родителями, родными и друзьями. В результате на улицах разных иностранных городов оказались тысячи русских детей, часто беспризорных, голодных, оборванных, больных, без работы и жилья. Многие из них принимали участие в Гражданской войне, испытали все тяжести исхода из России, приспосабливались к жизни там, куда забросила судьба.
Далеко не все дети оказались на чужбине вместе с родителями. Многие были вывезены педагогами вместе с учебными заведениями, при этом родители остались в России. На чужбине оказались дети-сироты, у которых родители и родные погибли. Здесь же оказались дети-фронтовики, эвакуированные в составе частей Русской армии. Русские дети оказались в безвыходном, катастрофическом положении и, как никто другой, нуждались в экстренной помощи, без которой они могли погибнуть.
Перспектива даже кратковременного пребывания на чужбине, как казалось вначале, поставила перед эмиграцией неотложную задачу – спасти этих детей, прежде всего от физической гибели. Забота о них из всех задач, стоявших перед русской эмиграцией, являлась одной из самых важных и ответственных. Решить эту задачу, без преувеличения, могла лишь русская школа. Именно в русской школе можно было создать особую атмосферу, в которой могла оттаять детская душа. Памятка учащегося русской гимназии им. Ф. М. Достоевского в Харбине начиналась словами: «Я живу в Маньчжу-Ди-Го, но в то же время я учусь в русской гимназии, где изучаю наше православное вероучение и богослужение, соблюдаю добрые обычаи и праздники Родной Земли, проникаюсь ее лучшими заветами, изучаю родной язык, литературу и искусства, историю и географию моего Отечества – России».1 Несмотря на огромные трудности, связанные с созданием, русская школа практически сразу доказала свою необходимость, доказала, что она выполняет свою национальную функцию – готовит детей к возвращению на Родину, где они будут полезны, будут служить своей стране.
Главная задача, вставшая на начальном этапе эмиграции и заключавшаяся в обеспечении детей крышей над головой, питанием, образованием и воспитанием, была выполнена. Выполнена, несмотря на то что классы первых русских школ часто размещались в палатках и бараках беженских лагерей, ученики не имели тетрадей, карандашей и учебников, нередко преподавание велось в устной форме, ученикам не хватало еды, одежды, дров, чтобы отопить класс.
Характерной особенностью школьного строительства в начальный период беженства являлось стремление открыть при школе интернат для детей-сирот и для детей, вывезенных из России в составе школьных заведений. Как оказалось, проживание в интернате было чрезвычайно важным и для детей, выехавших вместе с родителями. Как написала об этом одна из инициаторов создания первых русских школ в Турции А. В. Жекулина гр. С. В. Паниной еще в октябре 1920 г.: «Если мы этого не сделаем, то мы погубим весь детский план. При сложившихся условиях дети не могут жить у своих родителей сейчас, ибо родители эти не имеют подчас ни крова, ни пищи».2
К сожалению, как и в начальный период эмиграции, дальнейшее развитие русского школьного дела зависело главным образом от иностранных источников финансирования, поскольку русские учебные заведения не могли содержаться за счет самой русской эмиграции, испытывавшей большие материальные трудности. Создатели первых русских учебных заведений приложили много усилий, чтобы привлечь внимание к русской эмигрантской школе, ставшей родным домом для тысяч детей-изгнанников. Определенную роль в этом суждено было сыграть и самим русским школьникам.
12 декабря 1923 г. в Русской гимназии в Моравской Тржебове по распоряжению директора были отменены два смежных урока для того, чтобы ученики написали сочинения на тему «Мои воспоминания с 1917 года до поступления в гимназию». Позднее такие же сочинения писали учащиеся ряда других русских школ в Югославии, Болгарии и Турции. Было написано 2400 сочинений, в которых их авторы рассказали не только о том, что им пришлось пережить на Родине и во время скитаний по разным странам, но и о том, какую роль в их судьбе сыграла русская национальная школа.
У всех детей, переступивших порог русской школы, своя собственная судьба, историю которой они и рассказали. Из этих отдельных историй сложилась их общая история, история поколения, чье детство совпало с судьбоносными событиями в России, круто перевернувшими жизнь ее народа. Читая эти сочинения-исповеди, очень трудно оставаться равнодушным. Даже выдержки из них не могут не тронуть душу читателя. Маленькие авторы воспоминаний, как правило, мало что помнили о России. Как уже упоминалось выше, среди учеников русских школ и гимназий было много уже почти взрослых юношей и девушек, чье образование было прервано на Родине и продолжено в эмиграции. Они быстро повзрослели, в сочинениях они высказали мысли почти взрослых людей. Их воспоминания отличаются большой эмоциональностью и искренностью.
Как и многие взрослые, дети далеко не все понимали и осознавали происходившее и задавались вопросом, как могло так случиться, что свои люди начали убивать друг друга, а проигравшим нужно было куда-то бежать.
«Когда мне приходится вспоминать о прошлом, то мне становится страшно и печально» (16-летний юноша, ученик 4-го класса Русской реформированной гимназии в Праге).
«Через несколько времени пришла мама, благословила меня и сказала, что я должна ехать с институтом, потому что она сама не знает, как проживет, а я ей совсем свяжу руки. Маме надо было уже уходить, так как нас уже ставили в пары. Наскоро перекрестив и поцеловав меня, мама направилась к выходу, и тут-то я заметила, что у ней на глазах блестели слезы, я бросилась к ней и начала тоже плакать и просить, чтобы она взяла меня домой, никаких доводов я не понимала, и одна только жгучая мысль вертелась у меня в голове – вернуться домой» (ученица 7-го класса Шуменской русской гимназии, в прошлом воспитанница Одесского института).
«Вспоминается тяжелая картина эвакуации. Эти измученные, изнуренные солдаты, воины, которые боролись за спасение своей Родины, а теперь разочарованные, потерявшие надежду, едут, куда сами не знают. Им все равно было тогда, куда их везли. Они чувствовали, что они покидают свою родную любимую Родину. Они молча прощались с милым родным берегом, который скоро станет для них чужой и далекий» (17-летняя девушка, ученица 6-го класса Шуменской гимназии).
«Я была сестрой милосердия. Долго. Очень долго. И благодарю судьбу за то, что она мне послала этот небольшой, но тяжелый, ох, какой тяжелый, красный крест. Я научилась понимать чужие страдания, научилась осторожно обращаться с людьми, научилась ценить нашего русского долготерпеливого солдатика, который так кротко пил горькую чашу страдания до конца, и какого конца! Как умеют умирать русские люди! Это не фразы, не красивые слова (мне не до фраз сейчас, да и кому они нужны?), а действительные убеждения, что так умеют умирать только русские люди. Тяжелые ночные дежурства, страшная ответственность за этих взрослых, но беспомощных людей, мне, шестнадцатилетней девочке, в конце концов оказались не под силу, и я попала в санаторию… для нервных больных» (ученица 8-го класса Русской гимназии в Моравской Тржебове).
Многие сочинения содержат слова искренней любви к России, о чувствах, которые авторы испытали, покидая ее.
«Расставание с родиной наполнило душу тоской, и вставал невольный вопрос, увидим ли мы снова свою мать – Россию и скоро ли» (18-летний ученик 6-го класса Шуменской гимназии).
«Боже, какой это был ужас! Первый раз в жизни поняла, как я люблю Россию, и как тяжело из нее уезжать…» (ученица 5-го класса Русской гимназии в Моравской Тржебове).
Конечно, среди учеников, участников Гражданской войны, большинство были откровенными противниками «красных», против которых они с оружием в руках боролись. Они горячо осуждали друзей детства или одноклассников, которые встали на другую сторону и поддержали большевиков.
«Я был среди белых. Видя Родину в море крови, я не мог спокойно продолжать свое прямое дело – ученье, и по первому зову я с винтовкой в руках шел с отрядом белых биться за честь, за благо Родины, России» (ученик 4-го класса Реального училища в Земуне).
Но были и такие, кто понимал, что с другой стороны фронта такие же русские люди, что брат убивает брата, что война братоубийственная.
«Я был еще мал и не задумывался над тем, что это ведь брат убивает брата и льются потоки родной русской крови» (20-летний ученик 6-го класса Шуменской гимназии).
«А завтра с рассветом бой. Сколько русских жизней падут ни за что. Я в этом лагере, а там, быть может, мой брат. И я, и он завтра пойдем друг на друга. Хочется крикнуть: “Постойте, люди! Что вы делаете, что вы не можете разделить между собой?..” Это был последний бой на земле родной. О, какие переживания были тогда! Не знаю, чем объяснить, но мне почему-то хотелось тогда умереть, лишь бы остаться там, на родной земле…» (24-летний ученик 7-го класса Шуменской гимназии).
«И пошли разбои, грабежи, стали убивать друг друга. В каждом видели врага. Дошло до того, что сын пошел на отца, а отец на сына. Дальше, казалось, идти некуда» (ученик 7-го класса Русской гимназии в Моравской Тржебове).
«Голодные, измученные, мы вынуждены были добывать себе одежду и пищу, зачастую прибегая к насилию, а там, в тылу, толстые бары весело проводили время, забыв о том, что их веселье построено на костях мальчишек-гимназистов. Обещая освобождение освобожденному населению, мы, ничем не отличаясь от большевиков, грабили его» (21-летний ученик 6-го класса Шуменской гимназии).
Почти все авторы, заканчивая сочинения, высказали немало слов благодарности в адрес родной школы, своих учителей и воспитателей.
«Границу я перешел без всяких виз, на границе меня поймали и хотели меня отправить обратно. Но после долгих просьб я попал в гимназию… Трудно привыкнуть к ученической жизни после пятилетнего скитания… Чехам же я никогда не забуду их гостеприимство и их материальную помощь русской молодежи. Чехи не дали погибнуть русской культуре» (ученик 6-го класса Русской гимназии в Моравской Тржебове).
«Русская Константинопольская гимназия, благодаря хлопотам общественных организаций и гостеприимству Чехословакии, попадает в выдающиеся условия. И мне кажется, эта гимназия, находящаяся в лучших условиях по сравнению с другими учебными заведениями, сумеет воспитать для России сотни честных, горячо любящих Россию и ее исторически сложившиеся традиции людей» (ученик 8-го класса Русской гимназии в Моравской Тржебове).
«Всю жизнь буду благодарна моим воспитателям и учителям, потратившим столько сил для общего блага русских детей» (ученица 6-го класса Английской школы для русских девочек на о. Проти).
«На всю жизнь у меня останется в памяти самое светлое воспоминание о жизни, проведенной в нашей школе. Эти годы будут самыми светлыми годами в моей жизни» (ученица 6-го класса Английской школы для русских девочек на о. Проти).
Откровения этих рано повзрослевших детей дают нам богатую пищу для размышлений и заставляют задуматься над нашим прошлым. Они подводят нас к осознанию того, что та война, принесшая всей стране столько горя, братоубийственная. И главное, она не должна повториться. Каждая цитата из этих сочинений могла бы дать название или стать эпиграфом к любому исследованию по этой теме.
На первый взгляд кажется, что нам хорошо известен круг исторических документов, которые должны составить основу исследований по истории Гражданской войны или истории Русского Зарубежья. Будет справедливым утверждение, что среди них свое достойное место должны занять детские школьные сочинения на тему «Мои воспоминания с 1917 года до поступления в гимназию». Их авторы передали дух и атмосферу целой эпохи. В этом и заключается их особая историческая ценность. Современным историкам не следует ждать, что детские сочинения сообщат им много неизвестных ранее фактов. Их авторам было от 6 до 24 лет, да и писали они свои сочинения всего два часа. Если ученики гимназии в Моравской Тржебове написали сочинения в тетрадях, указав фамилии, класс, то в других школах сочинения написаны карандашом на отдельных листах бумаги, на которых имеются отметки только о возрасте и классе ученика.
Даже если принять во внимание, что авторы сочинений что-то преувеличили, это не делает их менее ценными историческими документами. Роковые события 1917 г. и Гражданская война в России определили судьбу каждого ученика. История их жизни на чужбине отражает историю Зарубежной России, которая, в свою очередь, является составной частью нашей общей отечественной истории.
Значение этих школьных сочинений было сразу же высоко оценено не только педагогами и воспитателями, но и всеми теми, кто занимался решением вопросов школьного строительства и, конечно, членами Педагогического бюро по делам средней и низшей школы за границей, по инициативе которых учащиеся русских школ в Европе писали свои сочинения-воспоминания. Педагогическое бюро было создано в 1923 г. на 1-м съезде деятелей средней и начальной русской школы в Праге. Оно сыграло огромную роль в создании широкой сети русских школьных заведений, в поддержании их работы, в координации деятельности педагогических и общественных организаций.
Выдержки из сочинений учеников Русской гимназии в Моравской Тржебове под названием «Воспоминания 500 русских детей» были опубликованы в «Бюллетене Педагогического бюро», № 4, 1924 г. В 1925 г. был издан сборник статей под редакцией председателя Педагогического бюро профессора В. В. Зеньковского «Дети эмиграции» (Прага, 1925). В сборник вошли статьи В. В. Зеньковского, Н. Н. Цурикова, кн. П. Д. Долгорукова, А. Л. Бема, В. М. Левицкого, В. В. Руднева, которые, проанализировав детские сочинения, рассказали о роли русской национальной школы в судьбе молодого поколения эмиграции, которое смогло вернуться к нормальной жизни после выпавших на их долю испытаний.
Материалы, опубликованные в этих изданиях, перепечатывались в эмигрантских газетах, таких как «Последние новости», «Руль», «Возрождение», «Сегодня» и многие другие. На страницах газет появились многочисленные статьи, рассказывавшие читателям о положении русских детей, о значении русской школы в их жизни, о необходимости перевести полученный материал на иностранные языки с тем, чтобы иностранные благотворители поддержали русское школьное строительство материально.
Для примера достаточно остановиться на целой серии публикаций разных авторов в парижской газете «Возрождение», сделанных в июле 1925 г. В. М. Левицкий написал: «Дети и подростки сделали большое дело: они искренне и честно рассказали о себе, приоткрыв завесу, скрывающую тайники изломов души современной молодежи. Долг взрослых любовно и внимательно прислушаться к этому огромному двухтысячному хору детских и юношеских голосов. Ведь это голоса граждан будущей, новой России».3
П. Б. Струве дал такую оценку сборнику «Дети эмиграции»: «Это жуткая и страшная книга, которую можно было назвать “книгой детской скорби и гнева”. Никто даже из нас, переживших революцию, не сможет прочесть ее без глубочайшего и трепетного волнения. То, чего не может достаточно убедительно выразить никакая наука и никакое искусство, вырастает в этом иногда бессвязном детском лепете, в этих бесхитростных юношеских исповедях в картину, захватывающую, потрясающую…».4
С. И. Варшавский в своей статье предложил перевести книгу на иностранные языки и сделал вывод: «Если нужно в нескольких словах формулировать единодушный вывод, к которому приходят все авторы этой исключительной важности книги, то он таков: спасайте подрастающее поколение, дайте возможность русским детям продолжить школьное образование, школа помогла затянуться ранам, которым подверглась детская душа за эти страшные годы гражданской войны и беженства, но выбросьте детей из школы, и эти раны откроются».5
Профессор К. И. Зайцев также выразил надежду, что вышедший сборник «Дети эмиграции» привлечет к себе внимание и поможет в поиске финансовых источников для поддержания русской национальной школы: «Обращает на себя внимание то теплое и сердечное отношение к школе, которое характерно для детей и ярко выступает в их школьных сочинениях. Школа сыграла в их жизни огромную положительную роль. Дай Бог, чтобы разбираемая нами книга привлекла внимание общественности к русской школе и, в частности, обусловила новый приток средств к ней. Для этого нужно эту книгу перевести на иностранные языки».6
«Теперь я чувствую, что гимназия дала мне очень, очень многое. И горячо благодарю и буду всегда благодарить своих дорогих наставников»
(из сочинения ученика Шуменской гимназии)
Создание русской школы в 1920–1924 гг. находилось в прямой зависимости от условий экономического и политического положения приютивших стран. Изменялось положение и условия пребывания беженцев в какой-нибудь стране к лучшему, волны русских перекатывались туда. Здесь возникали русские беженские школы. К середине 1920-х гг. основной поток беженцев из России осел на Балканах и в государствах, ранее входивших в состав Российской империи. Большой наплыв русских беженцев в Германию произошел лишь в 1920 г., поскольку жизнь там была дешевой, что было очень важным для русского беженца, материальное положение которого было зачастую катастрофическим. Франция открыла свои двери в конце 1923–1924 г.
Первые русские беженские школы стали возникать еще в начале 1920 г. Уже в апреле 1920 г. в Варне, куда прибыло много беженцев из России, была открыта гимназия для русских детей. В июне 1920 г. открылась русская гимназия в Софии. В июне 1920 г. В. В. Нератова, супруга русского дипломатического представителя в Турции, открыла в Константинополе гимназию, получившую название Крестовоздвиженская. В декабре 1920 г. в Константинополе Всероссийским союзом городов (ВСГ) была открыта русская гимназия, попечительский совет которой возглавила член ВСГ А. В. Жекулина. Русские учебные заведения для детей русских беженцев были открыты в беженских лагерях на острове Халки, на острове Лемнос, в беженских лагерях «Селимье» и «Тузла». В феврале 1921 г. в Галлиполийском лагере начала свою работу гимназия, созданная усилиями военного командования Русской армии. Среди тех, кто покинул Россию в тот период, оказалось немало воспитанников кадетских корпусов. В январе 1920 г. из Одессы отправились в изгнание кадеты Одесского, Киевского и 2-й роты Полоцкого кадетских корпусов. Воспитанники корпусов были эвакуированы в Сараево. В феврале 1920 г. покинули Новороссийск кадеты Донского кадетского корпуса имени императора Александра III. Корпус продолжил свою деятельность в Измаилии (Египет). В ноябре 1920 г. произошла эвакуация Крымского корпуса, созданного Главнокомандующим Русской армией генералом П. Н. Врангелем. Корпус был размещен в Стрниште, затем в Белой Церкви. Сразу же по прибытии в Бизерту (Тунис) Русской эскадры была открыта начальная школа на броненосце «Георгий Победоносец». В 5 км от Бизерты в форте Джебель-Кебир был открыт Морской корпус для эвакуированных воспитанников Севастопольского морского корпуса и Владивостокских гардемаринских классов. Перечень русских учебных заведений, созданных уже в начальный период беженства, можно было бы продолжить и далее.
Ранее уже не раз подчеркивалось, что забота о детях, в большом числе оказавшихся на чужбине, относилась к числу первостепенных задач, вставших перед российскими эмигрантами.
В деле оказания помощи русским детям объединили свои усилия представители разных политических партий и группировок, считая это своим долгом. Вот лишь один из примеров. Во Франции в январе 1924 г. был создан Комитет попечительства о русских детях, председателем которого был избран известный дипломат, председатель Совета (Совещания) послов М. Н. Гирс. Членами Комитета были Епархиальное управление русскими православными церквями в Западной Европе, Российское общество Красного Креста, Российский земско-городской комитет помощи российским гражданам за границей, Союз русских офицеров, Военно-морское агентство, Русский национальный союз, Русская академическая группа и др. Всего 20 организаций и учреждений. В список членов Комитета входили почетный председатель Комитета и член-основатель митрополит Евлогий, председатель Комитета и член-основатель М. Н. Гирс, Г. Л. Нобель, С. Н. Третьяков, дипломатический представитель во Франции В. А. Маклаков, его сестра М. А. Маклакова, А. И. и Н. И. Гучковы, генерал Е. К. Миллер, кн. В. П. Трубецкой, кн. Л. В. Урусов и другие.
Среди тех, кто в эмиграции посвятил свою жизнь служению детям, были А. В. Жекулина, известный в России педагог и общественный деятель, заместитель председателя Педагогического бюро по делам средней и низшей школы за границей, председатель Объединения русских учительских организаций за границей, А. П. Петров, бывший преподаватель Донского кадетского корпуса, директор русской школы ВСГ в Константинополе, затем директор Русской гимназии в Моравской Тржебове, В. Н. Светозаров, помощник директора Русской гимназии в Константинополе, затем директор Русской гимназии в Моравской Тржебове, сменивший на этом посту А. П. Петрова, директор Русской реформированной реальной гимназии в Праге, председатель Союза русских педагогов в Чехословакии, заместитель председателя Правления Объединения русских учительских организаций за границей, генерал А. А. Бейер, в прошлом преподаватель Константиновского военного училища, директор Шуменской русской гимназии, А. П. Дехтерев, воспитатель Шуменской русской гимназии, А. И. Тыминский, педагог, общественный деятель, бессменный директор Русской гимназии в Каунасе, и многие другие педагоги и воспитатели.
Участвуя в работе различных эмигрантских организаций, всемерно способствовали поддержанию русской школьной сети государственные, политические, общественные деятели, деятели науки и культуры – В. В. Руднев, известный в России и эмиграции политический и общественный деятель, последний московский городской голова, член Российского земско-городского комитета по оказанию помощи российским гражданам за границей (РЗГК), в составе которого около десяти лет занимался попечением о русских детях, автор многочисленных трудов о русской беженской школе, кн. П. Д. Долгоруков, общественный и политический деятель, постоянный член Педагогического бюро, с 1929 г. председатель Центрального фонда при ЦК Дня русского ребенка, кн. Г. Е. Львов, в прошлом депутат Государственной Думы, министр-председатель Временного правительства, председатель Правления РЗГК, П. П. Юренев, депутат Государственной Думы, министр путей сообщения Временного правительства, возглавлял Временный комитет Союза городов. Попечительский совет в русской школе «Александрино» в Ницце возглавил великий князь Андрей Владимирович. В 1921 г. основал и содержал на собственные средства приют-школу в Ариане (близ Ниццы) М. И. Рябушинский. Также на собственные средства содержала основанное ею общежитие для русских девочек в Сен-Клу (близ Парижа) выдающаяся русская балерина А. П. Павлова.
Огромную помощь в создании и поддержании деятельности русских детских учреждений, в том числе школьных, оказали дипломатические представители в разных странах. Интересы российской эмиграции в Верховном комиссариате по делам беженцев защищал представитель Совета послов К. Н. Гулькевич, в прошлом дипломатический представитель в Швеции.
Особая роль в судьбе русской беженской школы принадлежала представителям Русской православной церкви, многие из которых с самого начала беженства были в числе создателей русских школ и педагогов. Много внимания проблемам религиозного воспитания молодого поколения эмиграции оказывал митрополит РПЦ в Западной Европе Евлогий. Еще в 1921 г. было организовано Русское студенческое христианское движение (РСХД) во главе с проф. В. В. Зеньковским. В 1925 г. в Париже был открыт Свято-Сергиевский институт, который готовил священников для православных приходов во Франции и в других странах. В 1934 г. был открыт богословский факультет в Институте Святого князя Владимира в Харбине.
Много сил русской школе отдали российские ученые, которые стали авторами учебников, читали лекции учащимся, активно работали в составе организаций и объединений, занимавшихся постановкой школьного дела в разных странах. Среди них проф. В. В. Зеньковский, русский религиозный философ, председатель РСХД, первый председатель Педагогического бюро по делам средней и низшей школы, проф. Е. П. Ковалевский, председатель отдела средней школы Русской академической группы в Париже, уполномоченный по учебной части Российского общества Красного Креста, проф. Д. М. Сокольцев, проф. И. М. Малинин, проф. В. Д. Плетнев, проф. Н. М. Могилянский, проф. И. А. Базанов, проф. Г. В. Вернадский, проф. А. Л. Бем, проф. С. В. Завадский, проф. И. И. Лаппо, проф. С. А. Острогорский, проф. А. Н. Фатеев, проф. А. В. Флоровский и многие другие.
Bepul matn qismi tugad.