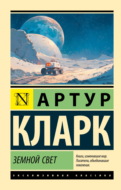Kitobni o'qish: «Бойня №5»
Kurt Vonnegut
SLAUGHTERHOUSE-FIVE
Публикуется с разрешения Kurt Vonnegut LLC и литературного агентства The Wylie Agency (UK) LTD.
Copyright © 1969, Kurt Vonnegut, Jr. Copyright renewed © 1997 by Kurt Vonnegut, Jr. All rights reserved
* * *
БОЙНЯ НОМЕР ПЯТЬ,
ИЛИ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ
(пляска со смертью по долгу службы)
Автор –
КУРТ ВОННЕГУТ,
американец немецкого происхождения
(четвертое поколение),
который сейчас живет в прекрасных условиях
на мысе Код
(и слишком много курит).
Очень давно
он был американским пехотинцем
(нестроевой службы)
и, попав в плен,
стал свидетелем бомбардировки
немецкого города Дрездена
(«Флоренции на Эльбе»)
и может об этом рассказать,
потому что выжил.
Этот роман
отчасти написан
в слегка телеграфически-шизофреническом стиле,
как пишут
на планете Тральфамадор,
откуда появляются
летающие блюдца.
МИР
Посвящается Мэри O’Xэйp и Герхарду Мюллеру
Ревут быки, теленок мычит.
Разбудили Христа-младенца,
Но он молчит.
1
Почти все это произошло на самом деле. Во всяком случае, про войну тут почти все правда. Одного моего знакомого и в самом деле расстреляли в Дрездене за то, что он взял чужой чайник. Другой знакомый и в самом деле грозился, что перебьет всех своих личных врагов после войны при помощи наемных убийц. И так далее. Имена я все изменил.
Я действительно ездил в Дрезден на Гуггенхеймовскую стипендию (благослови их Бог) в 1967 году. Город очень напоминал Дайтон, в штате Огайо, только больше площадей и скверов, чем в Дайтоне. Наверно, там, в земле, тонны искрошенных в труху человеческих костей.
Ездил я туда со старым однополчанином, Бернардом В. О'Хэйром, и мы подружились с таксистом, который возил нас на бойню номер пять, куда нас, военнопленных, запирали на ночь. Звали таксиста Герхард Мюллер. Он нам рассказал, что побывал в плену у американцев. Мы его спросили, как живется при коммунистах, и он сказал, что сначала было плохо, потому что всем приходилось страшно много работать и не хватало ни еды, ни одежды, ни жилья. А теперь стало много лучше. У него уютная квартирка, дочь учится, получает отличное образование. Мать его сгорела во время бомбежки Дрездена. Такие дела.
Он послал О’Хэйру открытку к Рождеству, и в ней было написано так:
«Желаю Вам и Вашей семье, а также Вашему другу веселого Рождества и счастливого Нового года и надеюсь, что мы снова встретимся в мирном и свободном мире, в моем такси, если захочет случай».
Мне очень нравится фраза «если захочет случай».
Ужасно неохота рассказывать вам, чего мне стоила эта треклятая книжонка – сколько денег, времени, волнений. Когда я вернулся домой после Второй мировой войны, двадцать три года назад, я думал, что мне будет очень легко написать о разрушении Дрездена, потому что надо было только рассказать все, что я видал. И еще я думал, что выйдет высокохудожественное произведение или, во всяком случае, оно даст мне много денег, потому что тема такая важная.
Но я никак не мог придумать нужные слова про Дрезден, во всяком случае, на целую книжку их не хватало. Да слова не приходят и теперь, когда я стал старым пердуном, с привычными воспоминаниями, с привычными сигаретами и взрослыми сыновьями.
И я думаю: до чего бесполезны все мои воспоминания о Дрездене и все же до чего соблазнительно было писать о Дрездене. И у меня в голове вертится старая озорная песенка:
Какой-то ученый доцент
Сердился на свой инструмент:
«Мне здоровье сорвал,
Капитал промотал,
А работать не хочешь, нахал!»
И вспоминаю я еще одну песенку:
Зовусь я Йон Йонсен,
Мой дом – штат Висконсин,
В лесу я работаю тут.
Кого ни встречаю,
Я всем отвечаю,
Кто спросит:
«А как вас зовут?»
Зовусь я Йон Йонсен,
Мой дом – штат Висконсин…
И так далее, до бесконечности.
Все эти годы знакомые меня часто спрашивали, над чем я работаю, и я обычно отвечал, что главная моя работа – книга о Дрездене.
Так я ответил и Гаррисону Старру, кинорежиссеру, а он поднял брови и спросил:
– Книга антивоенная?
– Да, – сказал я, – похоже на то.
– А знаете, что я говорю людям, когда слышу, что они пишут антивоенные книжки?
– Не знаю. Что же вы им говорите, Гаррисон Старр?
– Я им говорю: а почему бы вам вместо этого не написать антиледниковую книжку?
Конечно, он хотел сказать, что войны всегда будут и что остановить их так же легко, как остановить ледники. Я тоже так думаю.
И если бы войны даже не надвигались на нас, как ледники, все равно осталась бы обыкновенная старушка-смерть.
Когда я был помоложе и работал над своей пресловутой дрезденской книгой, я запросил старого своего однополчанина Бернарда В. О’Хэйра, можно ли мне приехать к нему. Он был окружным прокурором в Пенсильвании. Я был писателем на мысе Код. На войне мы были рядовыми разведчиками в пехоте. Никогда мы не надеялись на хорошие заработки после войны, но оба устроились неплохо.
Я поручил Центральной телефонной компании отыскать его. Они здорово это умеют. Иногда по ночам у меня бывают такие припадки, с алкоголем и телефонными звонками. Я напиваюсь, и жена уходит в другую комнату, потому что от меня несет горчичным газом и розами. А я, очень серьезно и элегантно, звоню по телефону и прошу телефонистку соединить меня с кем-нибудь из друзей, кого я давно потерял из виду.
Так я отыскал и О’Хэйра. Он низенький, а я высокий. На войне нас звали Пат и Паташон. Нас вместе взяли в плен. Я сказал ему по телефону, кто я такой. Он сразу поверил. Он не спал. Он читал. Все остальные в доме спали.
– Слушай, – сказал я. – Я пишу книжку про Дрезден. Ты бы помог мне кое-что вспомнить. Нельзя ли мне приехать к тебе, повидаться, мы бы выпили, поговорили, вспомнили прошлое.
Энтузиазма он не проявил. Сказал, что помнит очень мало. Но все же сказал: приезжай.
– Знаешь, я думаю, что развязкой в книге должен быть расстрел этого несчастного Эдгара Дарби, – сказал я. – Подумай, какая ирония. Целый город горит, тысячи людей гибнут. А потом этого самого солдата-американца арестовывают среди развалин немцы за то, что он взял чайник. И судят по всей форме и расстреливают.
– Гм-мм, – сказал О’Хэйр.
– Ты согласен, что это должно стать развязкой?
– Ничего я в этом не понимаю, – сказал он, – это твоя специальность, а не моя.
Как специалист по развязкам, завязкам, характеристикам, изумительным диалогам, напряженнейшим сценам и столкновениям, я много раз набрасывал план книги о Дрездене. Лучший план, или, во всяком случае, самый красивый план, я набросал на куске обоев.
Я взял цветные карандаши у дочки и каждому герою придал свой цвет. На одном конце куска обоев было начало, на другом – конец, а в середине была середина книги. Красная линия встречалась с синей, а потом – с желтой, и желтая линия обрывалась, потому что герой, изображенный желтой линией, умирал. И так далее. Разрушение Дрездена изображалось вертикальным столбцом оранжевых крестиков, и все линии, оставшиеся в живых, проходили через этот переплет и выходили с другого конца.
Конец, где все линии обрывались, был в свекловичном поле на Эльбе, за городом Галле. Лил дождь. Война в Европе окончилась несколько недель назад. Нас построили в шеренги, и русские солдаты охраняли нас: англичан, американцев, голландцев, бельгийцев, французов, новозеландцев, австралийцев – тысячи бывших военнопленных.
А на другом конце поля стояли тысячи русских, и поляков, и югославов, и так далее, и их охраняли американские солдаты. И там, под дождем, шел обмен – одного на одного. О’Хэйр и я залезли в американский грузовик с другими солдатами. У О’Хэйра сувениров не было. А почти у всех других были. У меня была – и до сих пор есть – парадная сабля немецкого летчика. Отчаянный америкашка, которого я назвал в этой книжке Поль Лаззаро, вез около кварты алмазов, изумрудов, рубинов и всякого такого. Он их снимал с мертвецов в подвалах Дрездена. Такие дела.
Дурак англичанин, потерявший где-то все зубы, вез свой сувенир в парусиновом мешке. Мешок лежал на моих ногах. Англичанин то и дело заглядывал в мешок, и вращал глазами, и крутил шеей, стараясь привлечь жадные взоры окружающих. И все время стукал меня мешком по ногам.
Я думал, это случайно. Но я ошибался. Ему ужасно хотелось кому-нибудь показать, что у него в мешке, и он решил довериться мне. Он перехватил мой взгляд, подмигнул и открыл мешок. Там была гипсовая модель Эйфелевой башни. Она вся была вызолочена. В нее были вделаны часы.
– Видал красоту? – сказал он.
И нас отправили на самолетах в летний лагерь во Франции, где нас поили молочными коктейлями с шоколадом и кормили всякими деликатесами, пока мы не покрылись молодым жирком. Потом нас отправили домой, и я женился на хорошенькой девушке, тоже покрытой молодым жирком.
И мы завели ребят.
А теперь все они выросли, а я стал старым пердуном с привычными воспоминаниями, привычными сигаретами. Зовусь я Йон Йонсен, мой дом – штат Висконсин. В лесу я работаю тут.
Иногда поздно ночью, когда жена уходит спать, я пытаюсь позвонить по телефону старым своим приятельницам.
– Прошу вас, барышня, не можете ли вы дать мне номер телефона миссис такой-то, кажется, она живет там-то.
– Простите, сэр. Такой абонент у нас не значится.
– Спасибо, барышня. Большое вам спасибо.
И я выпускаю нашего пса погулять, и я впускаю его обратно, и мы с ним говорим по душам. Я ему показываю, как я его люблю, а он мне показывает, как он любит меня. Ему не противен запах горчичного газа и роз.
– Хороший ты малый, Сэнди, – говорю я ему. – Чувствуешь? Ты молодчага, Сэнди.
Иногда я включаю радио и слушаю беседу из Бостона или Нью-Йорка. Не выношу музыкальных записей, когда выпью как следует.
Рано или поздно я ложусь спать, и жена спрашивает меня, который час. Ей всегда надо знать время. Иногда я не знаю, который час, и говорю:
– Кто его знает…
Иногда я раздумываю о своем образовании. После Второй мировой войны я некоторое время учился в Чикагском университете. Я был студентом факультета антропологии. В то время нас учили, что абсолютно никакой разницы между людьми нет. Может быть, там до сих пор этому учат.
И еще нас учили, что нет людей смешных, или противных, или злых. Незадолго перед смертью мой отец мне сказал:
– Знаешь, у тебя ни в одном рассказе нет злодеев.
Я ему сказал, что этому, как и многому другому, меня учили в университете после войны.
Пока я учился на антрополога, я работал полицейским репортером в знаменитом Бюро городских происшествий в Чикаго за двадцать восемь долларов в неделю. Как-то меня перекинули из ночной смены в дневную, так что я работал шестнадцать часов подряд. Нас финансировали все городские газеты и АП, и ЮП1, и все такое. И мы давали сведения о процессах, о происшествиях, о полицейских участках, о пожарах, о службе спасения на озере Мичиган, и все такое. Мы были связаны со всеми финансировавшими нас учреждениями путем пневматических труб, проложенных под улицами Чикаго.
Репортеры передавали по телефону сведения журналистам, а те, слушая в наушники, отпечатывали отчеты о происшествиях на восковках, размножали на ротаторе, вкладывали оттиски в медные с бархатной прокладкой патроны, и пневматические трубы глотали эти патроны. Самыми прожженными репортерами и журналистами были женщины, занявшие места мужчин, ушедших на войну.
И первое же происшествие, о котором я дал отчет, мне пришлось продиктовать по телефону одной из этих чертовых девок. Дело шло о молодом ветеране войны, которого устроили лифтером на лифт устаревшего образца в одной из контор. Двери лифта на первом этаже были сделаны в виде чугунной кружевной решетки. Чугунный плющ вился и переплетался. Там была и чугунная ветка с двумя целующимися голубками.
Ветеран собирался спустить свой лифт в подвал, и он закрыл двери и стал было спускаться, но его обручальное кольцо зацепилось за одно из украшений. И его подняло на воздух, и пол лифта ушел у него из-под ног, а потолок лифта раздавил его. Такие дела.
Я все это передал по телефону, и женщина, которая должна была написать все это, спросила меня:
– А жена его что сказала?
– Она еще ничего не знает, – сказал я. – Это только что случилось.
– Позвоните ей и возьмите у нее интервью.
– Что-о-о?
– Скажите, что вы капитан Финн из полицейского управления. Скажите, что у вас есть печальная новость. И расскажите ей все, и выслушайте, что она скажет.
Так я и сделал. Она сказала все, что можно было ожидать. Что у них ребенок. Ну и вообще…
Когда я приехал в контору, эта журналистка спросила меня (просто из бабьего любопытства), как выглядел этот раздавленный человек, когда его расплющило.
Я ей рассказал.
– А вам было неприятно? – спросила она. Она жевала шоколадную конфету «Три мушкетера».
– Что вы, Нэнси, – сказал я. – На войне я видал кой-чего и похуже.
Я уже тогда обдумывал книгу про Дрезден. Тогдашним американцам эта бомбежка вовсе не казалась чем-то выдающимся. В Америке немногие знали, насколько это было страшнее, чем, например, Хиросима. Я и сам не знал. О дрезденской бомбежке мало что просочилось в печать.
Случайно я рассказал одному профессору Чикагского университета – мы встретились на коктейле – о налете, который мне пришлось видеть, и о книге, которую я собираюсь написать. Он был членом так называемого Комитета по изучению социальной мысли. И он стал мне рассказывать про концлагеря и про то, как фашисты делали мыло и свечи из жира убитых евреев и всякое другое.
Я мог только повторять одно и то же:
– Знаю. Знаю.Знаю.
Конечно, Вторая мировая война всех очень ожесточила. А я стал заведующим отделом внешних связей при компании «Дженерал электрик», в Шенектеди, штат Нью-Йорк, и добровольцем пожарной дружины в поселке Альплос, где я купил свой первый дом. Мой начальник был одним из самых крутых людей, каких я встречал. Надеюсь, что никогда больше не столкнусь с таким крутым человеком, как бывший мой начальник. Он был раньше подполковником, служил в отделе связи компании в Балтиморе. Когда я служил в Шенектеди, он примкнул к голландской реформистской церкви, а церковь эта тоже довольно крутая.
Часто он с издевкой спрашивал меня, почему я не дослужился до офицерского чина. Как будто я сделал что-то скверное.
Мы с женой давно спустили наш молодой жирок. Пошли наши тощие годы. И дружили мы с тощими ветеранами войны и с их тощенькими женами. По-моему, самые симпатичные из ветеранов, самые добрые, самые занятные и ненавидящие войну больше всех – это те, кто сражался по-настоящему.
Тогда я написал в управление военно-воздушных сил, чтобы выяснить подробности налета на Дрезден: кто приказал бомбить город, сколько было послано самолетов, зачем нужен был налет и что этим выиграли. Мне ответил человек, который, как и я, занимался внешними связями. Он писал, что очень сожалеет, но все сведения до сих пор совершенно секретны.
Я прочел письмо вслух своей жене и сказал:
– Господи ты Боже мой, совершенно секретны – да от кого же?
Тогда мы считали себя членами Мировой федерации. Не знаю, кто мы теперь. Наверно, телефонщики. Мы ужасно много звоним по телефону – во всяком случае, я, особенно по ночам.
Через несколько недель после телефонного разговора с моим старым дружком-однополчанином Бернардом В. О’Хэйром я действительно съездил к нему в гости. Было это году в 1964-м или около того – в общем, в последний год Международной выставки в Нью-Йорке. Увы, проходят быстротечные годы. Зовусь я Йон Йонсен… Какой-то ученый доцент…
Я взял с собой двух девчурок, мою дочку Нанни и ее лучшую подружку Элисон Митчелл. Они никогда не выезжали с мыса Код. Когда мы увидели реку, пришлось остановить машину, чтобы они постояли, поглядели, подумали. Никогда в жизни они еще не видели воду в таком длинном, узком и несоленом виде. Река называлась Гудзон. Там плавали карпы, и мы их видели. Они были огромные, как атомные подводные лодки.
Видели мы и водопады, потоки, скачущие со скал в долину Делавара. Много чего надо было посмотреть, и я останавливал машину. И всегда пора было ехать, всегда – пора ехать. На девчурках были нарядные белые платья и нарядные черные туфли, чтобы все встречные видели, какие это хорошие девочки.
– Пора ехать, девочки, – говорил я. И мы уезжали.
И солнце зашло, и мы поужинали в итальянском ресторанчике, а потом я постучал в двери красного каменного дома Бернарда В. О’Хэйра. Я держал бутылку ирландского виски, как колокольчик, которым созывают к обеду.
Я познакомился с его милейшей женой, Мэри, которой я посвящаю эту книгу. Еще я посвящаю книгу Герхарду Мюллеру, дрезденскому таксисту. Мэри О’Хэйр – медицинская сестра, чудесное занятие для женщины.
Мэри полюбовалась двумя девчушками, которых я привез, познакомила их со своими детьми и всех отправила наверх – играть и смотреть телевизор. И только когда все дети ушли, я почувствовал: то ли я не нравлюсь Мэри, то ли ейчто-то в этом вечере не нравится. Она держалась вежливо, но холодно.
– Славный у вас дом, уютный, – сказал я, и это была правда.
– Я вам отвела место, где вы сможете поговорить, там вам никто не помешает, – сказала она.
– Отлично, – сказал я и представил себе два глубоких кожаных кресла у камина в кабинете с деревянными панелями, где два старых солдата смогут выпить и поговорить. Но она привела нас на кухню. Она поставила два жестких деревянных стула у кухонного стола с белой фаянсовой крышкой. Свет двухсотсвечовой лампы над головой, отражаясь в этой крышке, дико резал глаза. Мэри приготовила нам операционную. Она поставила на стол один-единственный стакан для меня. Она объяснила, что ее муж после войны не переносит спиртных напитков.
Мы сели за стол. О’Хэйр был смущен, но объяснять мне, в чем дело, он не стал. Я не мог себе представить, чем я мог так рассердить Мэри. Я был человек семейный. Женат был только раз. И алкоголиком не был. И ничего плохого ее мужу во время войны не сделал.
Она налила себе кока-колы и с грохотом высыпала лед из морозилки над раковиной нержавеющей стали. Потом она ушла в другую половину дома. Но и там она не сидела спокойно. Она металась по всему дому, хлопала дверьми, даже двигала мебель, чтобы на чем-то сорвать злость.
Я спросил О’Хэйра, что я такого сделал или сказал, чем я ее обидел.
– Ничего, ничего, – сказал он. – Не беспокойся. Ты тут ни при чем.
Это было очень мило с его стороны. Но он врал. Я тут был очень при чем.
Мы попытались не обращать внимания на Мэри и вспомнить войну. Я отпил немножко из бутылки, которую принес. И мы посмеивались, улыбались, как будто нам что-то припомнилось, но ни он, ни я ничего стоящего вспомнить не могли. О’Хэйр вдруг вспомнил одного малого, который напал на винный склад в Дрездене до бомбежки, и нам пришлось отвозить его домой на тачке. Из этого книжку не сделаешь. Я вспомнил двух русских солдат. Они везли полную телегу будильников. Они были веселы и довольны. Они курили огромные самокрутки, свернутые из газеты.
Вот примерно все, что мы вспомнили, а Мэри все еще шумела. Потом она пришла на кухню налить себе кока-колы. Она выхватила еще одну морозилку из холодильника и грохнула лед в раковину, хотя льда было предостаточно.
Потом повернулась ко мне, чтобы я видел, как она сердится и что сердится она на меня. Очевидно, она все время разговаривала сама с собой, и фраза, которую она сказала, прозвучала как отрывок длинного разговора.
– Да вы же были тогда совсемдетьми! – сказала она.
– Что? – переспросил я.
– Вы были на войне просто детьми, как наши ребята наверху.
Я кивнул головой – ее правда. Мы были на войнедевами неразумными, едва расставшимися с детством.
– Но вы же так не напишете, верно? – сказала она. Это был не вопрос – это было обвинение.
– Я… я сам не знаю, – сказал я.
– Зато я знаю, – сказала она. – Вы притворитесь, что вы были вовсе не детьми, а настоящими мужчинами, и вас в кино будут играть всякие Фрэнки Синатры и Джоны Уэйны или еще какие-нибудь знаменитости, скверные старики, которые обожают войну. И война будет показана красиво, и пойдут войны одна за другой. А драться будут дети, вон как те наши дети наверху.
И тут я все понял. Вот отчего она так рассердилась. Она не хотела, чтобы на войне убивали ее детей, чьих угодно детей. И она думала, что книжки и кино тоже подстрекают к войнам.
И тут я поднял правую руку и дал ей торжественное обещание.