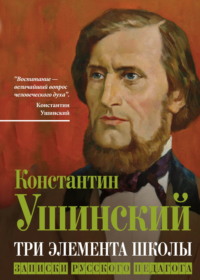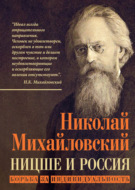Kitobni o'qish: «Три элемента школы. Записки русского педагога»
Кто мы?

© Ушинский К.Д., 2023
© ООО «Алисторус», 2023
© ООО «Издательство Родина», 2023
Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии
Предисловие
Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иным даже делом легким – и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком теоретически или практически. Почти все признают, что воспитание требует терпения; некоторые думают, что для него нужны врожденная способность и умение, т. е. навык; но весьма немногие пришли к убеждению, что кроме терпения, врожденной способности и навыка необходимы еще и специальные знания, хотя многочисленные педагогические блуждания наши и могли бы всех убедить в этом. Но разве есть специальная наука воспитания? Отвечать на этот вопрос положительно или отрицательно можно, только определив прежде, что мы разумеем вообще под словом наука. Если мы возьмем это слово в его общенародном употреблении, тогда и процесс изучения всякого мастерства будет наукою; если же под именем науки мы будем разуметь объективное, более или менее полное и организованное изложение законов тех или других явлений, относящихся к одному предмету или к предметам одного рода, то ясно, что в таком смысле предметами науки могут быть только или явления природы, или явления души человеческой, или, наконец, математические отношения и формы, существующие также вне человеческого произвола. Но ни политика, ни медицина, ни педагогика не могут быть названы науками в этом строгом смысле, а только искусствами, имеющими своею целью не изучение того, что существует независимо от воли человека, но практическую деятельность – будущее, а не настоящее и не прошедшее, которое также не зависит более от воли человека. Наука только изучает существующее или существовавшее, а искусство стремится творить то, чего еще нет, и перед ним в будущем несется цель и идеал его творчества. Всякое искусство, конечно, может иметь свою теорию; но теория искусства не наука; теория не излагает законов существующих уже явлений и отношений, но предписывает правила для практической деятельности, почерпая основания для этих правил в науке.

К. Д. Ушинский
«Положения науки, – говорит английский мыслитель Джон Стюарт Милль, – утверждают только существующие факты: существование, сосуществование, последовательность, сходство (явлений). Положения искусства не утверждают, что что-нибудь есть, но указывают на то, что должно быть». Ясно, что в таком смысле ни политику, ни медицину, ни педагогику нельзя назвать науками; ибо они не изучают того, что есть, но только указывают на то, что было бы желательно видеть существующим, и на средства к достижению желаемого. Вот почему мы будем называть педагогику искусством, а не наукою воспитания.
Мы не придаем педагогике эпитета высшего искусства, потому что самое слово – искусство – уже отличает ее от ремесла. Всякая практическая деятельность, стремящаяся удовлетворить высшим нравственным и вообще духовным потребностям человека, т. е. тем потребностям, которые принадлежат исключительно человеку и составляют исключительные черты его природы, есть уже искусство. В этом смысле педагогика будет, конечно, первым, высшим из искусств, потому что она стремится удовлетворить величайшей из потребностей человека и человечества – их стремлению к усовершенствованиям в самой человеческой природе: не к выражению совершенства на полотне или в мраморе, но к усовершенствованию самой природы человека – его души и тела; а вечно предшествующий идеал этого искусства есть совершенный человек.
Из сказанного вытекает уже само собою, что педагогика не есть собрание положений науки, но только собрание правил воспитательной деятельности. Таким собранием правил или педагогических рецептов, соответствующим в медицине терапии, являются действительно все немецкие педагогики, всегда выражающиеся «в повелительном наклонении», что, как основательно замечает Милль, служит внешним отличительным признаком теории искусства. Но как было бы совершенно нелепо для медиков ограничиться изучением одной терапии, так было бы нелепо для тех, кто хочет посвятить себя воспитательной деятельности, ограничиться изучением одной педагогики в смысле собрания правил воспитания. Что сказали бы вы о человеке, который, не зная ни анатомии, ни физиологии, ни патологии, не говоря уже о физике, химии и естественных науках, изучил бы одну терапию и лечил бы по ее рецептам, то же почти можете вы сказать и о человеке, который изучил бы только одни правила воспитания, обыкновенно излагаемые в педагогиках, и соображался бы в своей воспитательной деятельности с одними этими правилами. И как мы не называем медиком того, кто знает только «лечебники» и даже лечит по «Другу Здравия» и тому подобным собраниям рецептов и медицинских советов, то точно так же не можем мы назвать педагогом того, кто изучил только несколько учебников педагогики и руководствуется в своей воспитательной деятельности правилами и наставлениями, помещенными в этих «педагогиках», не изучив тех явлений природы и души человеческой, на которых, быть может, основаны эти правила и наставления. Но так как педагогика не имеет у себя термина, соответствующего медицинской терапии, то нам придется прибегнуть к приему, обыкновенному в тождественных случаях, а именно – различать педагогику в обширном смысле, как собрание знаний, необходимых или полезных для педагога, от педагогики в тесном смысле, как собрания воспитательных правил.
Мы особенно настаиваем на этом различии, потому что оно очень важно, а у нас, как кажется, многие не сознают его с полной ясностью. По крайней мере, это можно заключить из тех наивных требований и сетований, которые нам часто удавалось слышать. «Скоро ли появится у нас порядочная педагогика?» – говорят одни, подразумевая, конечно, под педагогикой книгу вроде «Домашнего лечебника». «Неужели нет в Германии какой-либо хорошей педагогики, которую можно было бы перевести?» Как бы, кажется, не быть в Германии такой педагогики: мало ли у нее этого добра! Находятся и охотники переводить; но русский здравый смысл повертит, повертит такую книгу да и бросит. Положение выходит еще комичнее, когда открывается где-нибудь кафедра педагогики. Слушатели ожидают нового слова, и читающий лекции начинает бойко, но скоро бойкость эта проходит: бесчисленные правила и наставления, ни на чем не основанные, надоедают слушателям, и все преподавание педагогики сводится мало-помалу, как говорят ремесленники, на нет. Во всем этом выражаются самые младенческие отношения к предмету и полное несознавание различия между педагогикою в обширном смысле, как собранием наук, направленных к одной цели, и педагогикою в тесном смысле, как теориею искусства, выведенною из этих наук.
Но в каком же отношении находятся обе эти педагогики? «В мастерствах несложных, – говорит Милль, – можно изучить одни правила; но в сложных науках жизни (слово наука здесь употреблено некстати) приходится постоянно возвращаться к законам науки, на которых эти правила-основаны». К этим сложным искусствам, без сомнения, должно быть причислено и искусство воспитания, едва ли не самое сложное из искусств.
«Отношение, в котором правила искусства стоят к положениям науки, – продолжает тот же писатель, – может быть так очерчено. Искусство предлагает самому себе какую-нибудь цель, которая должна быть достигнута, определяет эту цель и передает ее науке. Получив эту задачу, наука рассматривает и изучает ее как явление или как следствие и, изучив причины и условия этого явления, передает обратно искусству с теоремою комбинации обстоятельств (условий), которыми это следствие может быть произведено. Искусство тогда исследует эти комбинации обстоятельств и, соображаясь с тем, находятся они или нет в человеческой власти, признает цель достижимою или нет. Единственная из посылок, доставляемых науке, есть оригинальная главная посылка, утверждающая, что достижение данной цели желательно. Наука же сообщает искусству положение, что при исполнении данных действий цель будет достигнута, а искусство превращает теоремы науки, если цель оказывается достижимою, в правила и наставления». Но откуда же искусство берет цель для этой деятельности и на каком основании признает достижение ее желательным и определяет относительную важность различных целей, признанных достижимыми? Здесь Милль, чувствуя, быть может, что почва, на которой стоит вся его «Логика», начинает колебаться, проектирует особую науку целей, или телеологию, как он ее называет, и вообще науку жизни, которая, по его словам, заканчивающим его «Логику», вся еще должна быть создана, и называет эту будущую науку важнейшею из всех наук. В этом случае, очевидно, Милль впадает в одно из тех великих противоречий самому себе, которыми отличаются гениальнейшие мыслители практичной Британии. Он ясно противоречит тому определению науки, которое сам же сделал, назвав ее изучением «существования, сосуществования и последовательности явлений», уже существующих, а не тех, которые еще не существуют, а только желательны. Он хочет везде поставить науку на первое место; но сила вещей невольно выдвигает вперед жизнь, показывая, что не наука должна указывать окончательные цели жизни, а жизнь указывает практические цели и самой науке. Это верное практическое чувство британца заставляет не одного Милля, но также Бокля, Бэна и других ученых той же партии часто впадать в противоречия с собственными своими теориями, чтобы обезопасить жизнь от вредных влияний односторонности, свойственной всякой теории и необходимой для хода науки. И вот какой, действительно, великой черты в характере английских писателей не понимают наши критики, воспитанные большей частью на германских теориях, всегда почти последовательных, последовательных часто до очевидной нелепости и положительного вреда. Вот это-то практическое чувство британца заставило Милля в том же сочинении признать окончательною целью жизни человека не счастье, как следовало бы ожидать по его научной теории, а образование идеального благородства воли и поведения, а Бокля, отвергающего свободу воли в человеке, признать в то же время верование в загробную жизнь одним из самых дорогих и самых несомненных верований человечества. Эта же причина заставляет английского психолога Бэна, объясняя всю душу нервными токами, признать за человеком власть распоряжаться этими токами. Германский ученый не сделал бы такого промаха: он остался бы верен своей теории – и утонул бы вместе с нею. Причина таких противоречий та же, которая за 200 лет до Бокля, Милля, Бэна побудила Декарта, приготовляясь к своему труду, обезопасить от своего все опрокидывающего скептицизма один уголок жизни, где сам мыслитель мог бы жить, пока наука переломает и перестроит вновь все здание жизни; но это декартовское пока продолжается и теперь, как мы это видим на самых передовых представителях современного европейского мышления.
Мы, однако, не будем вдаваться здесь в подробный разбор, откуда и как должна заимствовать педагогика цель своей деятельности, что может быть сделано, конечно, не в предисловии, а тогда только, когда мы короче ознакомимся с той областью, в которой педагогика хочет действовать. Однако же мы не можем не указать уже здесь на необходимость ясного определения цели воспитательной деятельности; ибо, имея постоянно в виду необходимость определить цель воспитания, мы должны были делать такие отступления в область философии, которые могут показаться лишними читателю, особенно если он не знаком с той путаницей понятий, которая господствует у нас в этом отношении. Внести, насколько можем, хоть какой-нибудь свет в эту путаницу было одним из главных стремлений нашего труда, потому, что она, переходя в такую практическую область, каково воспитание, перестает уже быть невинным бредом и отчасти необходимым периодом в процессе мышления, но становится положительно вредною и загораживает путь нашему педагогическому образованию. Удалять же все, что мешает ему, – прямая обязанность каждого педагогического сочинения.
Что сказали бы вы об архитекторе, который, закладывая новое здание, не сумел бы ответить вам на вопрос, что он хочет строить – храм ли, посвященный Богу Истины, Любви и Правды, просто ли дом, в котором жилось бы уютно, красивые ли, но бесполезные торжественные ворота, на которые заглядывались бы проезжающие, раззолоченную ли гостиницу для обирания нерасчетливых путешественников, кухню ли для переварки съестных припасов, музеум ли для хранения редкостей или, наконец, сарай для складки туда всякого, никому уже в жизни не нужного хлама? То же самое должны вы сказать и о воспитателе, который не сумеет ясно и точно определить вам цели своей воспитательной деятельности. Конечно, мы не можем сравнить мертвых материалов, над которыми работает архитектор, с тем живым и организованным уже материалом, над которым работает воспитатель. Придавая большое значение воспитанию в жизни человека, мы тем не менее ясно сознаем, что пределы воспитательной деятельности уже даны в условиях душевной и телесной природы человека и в условиях мира, среди которого человеку суждено жить. Кроме того, мы ясно сознаем, что воспитание в тесном смысле этого слова как преднамеренная воспитательная деятельность, – школа, воспитатель и наставники ex officio – вовсе не единственные воспитатели человека и что столь же сильными, а может быть, и гораздо сильнейшими воспитателями его являются воспитатели непреднамеренные: природа, семья, общество, народ, его религия и его язык, словом, природа и история в обширнейшем смысле этих обширных понятий. Однако же и в самих этих влияниях, неотразимых для дитяти и человека совершенно неразвитого, многое изменяется самим же человеком в его последовательном развитии, и эти изменения выходят из предварительных изменений в его собственной душе, на вызов, развитие или задержку которых преднамеренное воспитание, словом, школа со своим учением и своими порядками, может оказывать прямое и сильное действие.
«Каковы бы не были внешние обстоятельства, – говорит Гизо, – все же человек сам составляет мир. Ибо мир управляется и идет сообразно идеям, чувствам, нравственным и умственным стремлениям человека, и от внутреннего его состояния зависит видимое состояние общества»; и нет сомнения, что учение и воспитание в тесном смысле этих слов могут иметь большое влияние на «идеи, чувства, нравственные и умственные стремления человека». Если же кто-нибудь усомнился бы в этом, то мы укажем ему на последствия так называемого иезуитского образования, на которые уже указывали Бэкон и Декарт как на доказательства громадной силы воспитания. Стремления иезуитского воспитания большей частью были дурны, но сила очевидна; не только человек до глубокой старости сохранял на себе следы того, что был когда-то, хотя только в самой ранней молодости, под ферулою отцов-иезуитов, но целые сословия народа, целые поколения людей до мозга костей своих проникались началами иезуитского воспитания. Не достаточно ли этого всем знакомого примера, чтобы убедиться, что сила воспитания может достигать ужасающих размеров и какие глубокие корни может пускать оно в душу человека? Если же иезуитское воспитание, противное человеческой природе, могло так глубоко внедряться в душу, а через нее и в жизнь человека, то не может ли еще большею силою обладать то воспитание, которое будет соответствовать природе человека и его истинным потребностям?

К. Д. Ушинский
Вот почему, вверяя воспитанию чистые и впечатлительные души детей, вверяя для того, чтобы оно провело в них первые и потому самые глубокие черты, мы имеем полное право спросить воспитателя, какую цель он будет преследовать в своей деятельности, и потребовать на этот вопрос ясного и категорического ответа. Мы не можем в этом случае удовольствоваться общими фразами, вроде тех, какими начинаются большей частью немецкие педагогики. Если нам говорят, что целью воспитания будет сделать человека счастливым, то мы вправе спросить, что такое разумеет воспитатель под именем счастья; потому что, как известно, нет предмета в мире, на который люди смотрели бы так различно, как на счастье: что одному кажется счастьем, то другому может казаться не только безразличным обстоятельством, но даже просто несчастьем. И если мы всмотримся глубже, не увлекаясь кажущимся сходством, то увидим, что решительно у каждого человека свое особое понятие о счастье и что понятие это есть прямой результат характера людей, который, в свою очередь, есть результат многочисленных условий, разнообразящихся бесконечно для каждого отдельного лица. Та же самая неопределенность будет и тогда, если на вопрос о цели воспитания отвечают, что оно хочет сделать человека лучше, совершеннее. Не у каждого ли человека свой собственный взгляд на человеческое совершенство, и что одному кажется совершенством, то не может ли казаться другому безумием, тупостью или даже пороком? Из этой неопределенности не выходит воспитание и тогда, когда говорит, что хочет воспитывать человека сообразно его природе. Где же мы найдем эту нормальную человеческую природу, сообразно которой хотим воспитывать дитя? Руссо, определивший воспитание именно таким образом, видел эту природу в дикарях, и притом в дикарях, созданных его фантазиею, потому что если бы он поселился между настоящими дикарями, с их грязными и свирепыми страстями, с их темными и часто кровавыми суевериями, с их глупостью и недоверчивостью, то первый бежал бы от этих «детей природы» и нашел бы тогда, вероятно, что в Женеве, встретившей философа каменьями, все же люди ближе к природе, чем на островах Фиджи.
Определение цели воспитания мы считаем лучшим пробным камнем всяких философских, психологических и педагогических теорий. Мы увидим впоследствии, как запутался, например, Бенеке, когда ему пришлось, переходя от психологической теории к педагогическому ее приложению, определить цель воспитательной деятельности. Мы увидим также, как путается в подобном же случае и новейшая, позитивная философия.
Ясное определение цели воспитания мы считаем далеко не бесполезным и в практическом отношении. Как бы далеко ни запрятал воспитатель или наставник свои глубочайшие нравственные убеждения, но если только они в нем есть, то они выскажутся, может быть, невидимо для него самого, не только уже для начальства, в том влиянии, которое окажут на души детей, и будут действовать тем сильнее, чем скрытнее. Определение цели воспитания в уставах учебных заведений, предписаниях, программах и бдительный надзор начальства, убеждения которого также могут не всегда сходиться с уставами, совершенно бессильны в этом отношении. Выводя открытое зло, они будут оставлять скрытое, гораздо сильнейшее, и самим гонением какого-нибудь направления будут усиливать его действие. Неужели история не доказала еще множеством примеров, что самую слабую и в сущности пустую идею можно усилить гонением? Особенно это верно там, где идея обращается к детям и юношам, не знающим еще жизненных расчетов. Кроме того, всякие уставы, предписания, программы – самые дурные проводники идей. Уже сам собою плох тот защитник идеи, который принимается проводить ее только потому, что она высказана в уставе, и который точно так же примется проводить другую, когда устав переменится. С такими защитниками и проводниками идея далеко не уйдет. Не показывает ли это ясно, что если в мире финансовом или административном можно действовать предписаниями и распоряжениями, не справляясь о том, нравятся ли идеи их тем, кто будет их исполнять, то в мире общественного воспитания нет другого средства проводить идею, кроме откровенно высказываемого и откровенно принимаемого убеждения? Вот почему, пока не будет у нас такой среды, в которой бы свободно, глубоко и широко, на основании науки, формировались педагогические убеждения, находящиеся в теснейшей связи вообще с философскими убеждениями, общественное образование наше будет лишено основания, которое дается только прочными убеждениями воспитателей. Воспитатель не чиновник; а если он чиновник, то он не воспитатель, и если можно приводить в исполнение идеи других, то проводить чужие убеждения невозможно. Среда же, в которой могут формироваться педагогические убеждения, есть философская и педагогическая литература и те кафедры, с которых излагаются науки, служащие источником и педагогических убеждений: кафедры философии, психологии и истории. Мы не скажем, однако, что науки сами по себе дают убеждение, но они предохраняют от множества заблуждений при его формации.
Однако же примем покудова, что цель воспитания нами уже определена: тогда останется нам определить его средства. В этом отношении наука может оказать существенную помощь воспитанию. Только замечая природу, замечает Бэкон, можем мы надеяться управлять ею и заставить ее действовать сообразно нашим целям. Такими науками для педагогики, из которых она почерпает знания средств, необходимых ей для достижения ее целей, являются все те науки, в которых изучается телесная или душевная природа человека, и изучается притом не в мечтательных, но в действительных явлениях.
К обширному кругу антропологических наук принадлежат: анатомия, физиология и патология человека, психология, логика, филология, география, изучающая землю как жилище человека и человека как жильца земного шара, статистика, политическая экономия и история в обширном смысле, куда мы относим историю религии, цивилизации, философских систем, литератур, искусств и собственно воспитания в тесном смысле этого слова. Во всех этих науках излагаются, сличаются и группируются факты и те соотношения фактов, в которых обнаруживаются свойства предмета воспитания, т. е. человека.
Но неужели мы хотим, спросят нас, чтобы педагог изучал такое множество и таких обширных наук, прежде чем приступить к изучению педагогики в тесном смысле, как собрания правил педагогической деятельности? Мы ответим на этот вопрос положительным утверждением. Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях. В таком случае, заметят нам, педагогов еще нет, и не скоро они будут. Это очень может быть; но тем не менее положение наше справедливо. Педагогика находится еще не только у нас, но и везде в полном младенчестве, и такое младенчество ее очень понятно, так как многие из наук, из законов которых она должна черпать свои правила, сами еще недавно только сделались действительными науками и далеко еще не достигли своего совершенства.
Но разве несовершенство микроскопической анатомии, органической химии, физиологии и патологии помешало сделать их основными науками для медицинского искусства?
Но, заметят нам, в таком случае потребуется особый и обширный факультет для педагогов! А почему же и не быть педагогическому факультету? Если в университетах существуют факультеты медицинские и даже камеральные и нет педагогических, то это показывает только, что человек до сих пор более дорожит здоровьем своего тела и своего кармана, чем своим нравственным здоровьем, и более заботится о богатстве будущих поколений, чем о хорошем их воспитании. Общественное воспитание совсем не такое малое дело, чтобы не заслуживало особого факультета. Если же мы до сих пор, готовя технологов, агрономов, инженеров, архитекторов, медиков, камералистов, филологов, математиков, не готовили воспитателей, то не должны удивляться, что дело воспитания идет плохо и что нравственное состояние современного общества далеко не соответствует его великолепным биржам, дорогам, фабрикам, его науке, торговле и промышленности.
Цель педагогического факультета могла бы быть определеннее даже цели других факультетов. Этою целью было бы изучение человека во всех проявлениях его природы со специальным приложением к искусству воспитания. Практическое значение такого педагогического или вообще антропологического факультета было бы велико. Педагогов численно нужно не менее, а даже еще более, чем медиков, и если медикам мы вверяем, наше здоровье, то воспитателям вверяем нравственность и ум детей наших, вверяем их душу, а вместе с тем и будущность нашего отечества. Нет сомнения, что такой факультет охотно посещали бы и те молодые люди, которые не имеют нужды смотреть на образование с политико-экономической точки зрения, как на умственный капитал, долженствующий приносить денежные проценты.
Правда, заграничные университеты не представляют нам образцов педагогических факультетов; но ведь не все же, что за границей, то хорошо. Притом же там есть некоторая замена этих факультетов в учительских семинариях и в сильном историческом направлении воспитания, а у нас оно так же не пустило корней, как растение, которое дитя посадило и постоянно выдергивает, чтобы пересадить в другое место, не решаясь, какое выбрать.
Однако же, еще заметит нам читатель, такое младенчество педагогики и несовершенство тех наук, из которых она должна черпать свои правила, не помешали же воспитанию делать свое дело и давать очень часто, если не всегда, хорошие, а нередко и блестящие результаты. Вот в этом-то последнем мы очень сомневаемся. Мы не такие пессимисты, чтобы называть абсолютно дурным всякие порядки современной жизни, но и не такие оптимисты, чтобы не видеть, что нас до сих пор заедает бесчисленное множество нравственных и физических страданий, пороков, извращенных наклонностей, вредных заблуждений и тому подобных зол, от которых, очевидно, могло бы нас избавить одно хорошее воспитание. Кроме того, мы уверены, что воспитание, совершенствуясь, может далеко раздвинуть пределы человеческих сил: физических, умственных и нравственных. По крайней мере, на эту возможность ясно указывают и физиология и психология.
Здесь, может быть, опять нападает на читателя сомнение в том, чтобы от воспитания можно было ожидать существенных перемен в общественной нравственности. Разве мы не видим примеров, что отличное воспитание сопровождалось часто самыми печальными результатами? Разве мы не видим, что из-под ферулы у отличных воспитателей выходили иногда самые дурные люди? Разве Сенека не воспитал Нерона? Но кто же нам сказал, что это воспитание было действительно хорошо и что эти воспитатели были действительно хорошие воспитатели?
Что же касается до Сенеки, то если он не удержал своей болтливости и читал Нерону те же моральные сентенции, которыми подарил потомство, то мы можем прямо сказать, что сам же Сенека был одною из главных причин ужасной нравственной порчи своего страшного воспитанника. Такими сентенциями можно убить в ребенке, особенно если у него натура живая, всякую возможность развития нравственного чувства, и такую ошибку очень может сделать воспитатель, не знакомый с физическими и психическими свойствами человеческой природы. Ничто не искоренит в нас твердой веры в то, что придет время, хотя, может быть, и не скоро, когда потомки наши будут с удивлением вспоминать, как мы долго пренебрегали делом воспитания и как много страдали от этой небрежности.
Мы указали выше на одну несчастную сторону обычных понятий о воспитательном искусстве, а именно на то, что оно для многих кажется с первого взгляда делом понятным и легким: теперь же нам приходится указать на столь же несчастную и еще более вредную наклонность. Весьма часто мы замечаем, что люди, подающие нам воспитательные советы и начертывающие воспитательные идеалы или для своих воспитанников, или для своей родины, или вообще для всего человечества, втайне срисовывают эти идеалы с самих себя, так что всю воспитательную проповедь подобного проповедника можно выразить в нескольких словах: «Воспитывайте детей так, чтобы они походили на меня, и вы дадите им отличное воспитание; я же достиг подобного совершенства такими-то и такими-то средствами, а потому вот вам и готовая программа воспитания!» Дело, как видите, очень легкое; но только такой проповедник забывает познакомить нас со своею собственною личностью и своею биографией. Если же мы сами возьмем на себя этот труд и разъясним личную основу его педагогической теории, то найдем, что нам никак нельзя вести чистое дитя по тому нечистому пути, по которому прошел сам проповедник. Источник таких убеждений – отсутствие истинного христианского смирения, не того лживого, фарисейского смирения, которое потупляет глаза долу именно затем, чтобы иметь право горе вознести свою гордыню, но того, при котором человек с глубокою болью в сердце сознает свою испорченность и все свои скрытые пороки и преступления своей жизни, сознает даже и тогда, когда толпа, видящая только внешнее, а не внутреннее, называет эти преступления безразличными поступками, а иногда и подвигами. Такого полного самосознания достигают не все и не скоро. Но, приступая к святому делу воспитания детей, мы должны глубоко сознавать, что наше собственное воспитание было далеко не удовлетворительно, что результаты его большею частью печальны и жалки и что, во всяком случае, нам надо изыскивать средства сделать детей наших лучше нас.
Как бы ни казались обширны требования, которые мы делаем воспитателю, но эти требования вполне соответствуют обширности и важности самого дела. Конечно, если видеть в воспитании только обучение чтению и письму, древним и новым языкам, хронологии исторических событий, географии и т. п., не думая о том, какой цели достигаем мы при этом изучении и как ее достигаем, тогда нет надобности в специальном приготовлении воспитателей к своему делу; зато и самое дело будет идти, как оно теперь идет, как бы ни переделывали и ни перестраивали наших программ: школа по-прежнему будет чистилищем, через все степени которого надо пройти человеку, чтобы добиться, того или другого положения в свете, а действительным воспитателем будет по-прежнему жизнь, со всеми своими безобразными случайностями. Практическое значение науки в том и состоит, чтобы овладевать случайностями жизни и покорять их разуму и воле человека. Наука доставила нам средство плыть не только по ветру, но и против ветра; не ждать в ужасе громового удара, а отводить его; не подчиняться условиям расстояния, но сокращать его паром и электричеством. Но конечно, важнее и полезнее всех этих открытий и изобретений, часто не делающих человека ни на волос счастливее прежнего, потому что он внутри самого себя носит многочисленные причины несчастья, было бы открытие средств к образованию в человеке такого характера, который противостоял бы напору всех случайностей жизни, спасал бы человека от их вредного, растлевающего влияния и давал бы ему возможность извлекать отовсюду только добрые результаты.