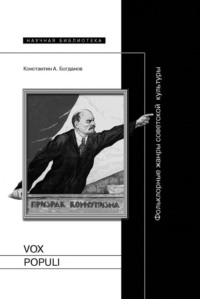Kitobni o'qish: «Vox populi. Фольклорные жанры советской культуры»
ПРЕДИСЛОВИЕ, ИЛИ ЧТО ФОЛЬКЛОРНОГО В СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Изучение советского прошлого так или иначе имеет дело с вопросом «КАК это могло быть?». Начиная с первых послереволюционных лет, очевидцы событий, происходящих в советской России, охотно прибегали к эпитетам и метафорам, изображавшим советскую действительность как противоречащую не только известному социальному опыту, но и здравому смыслу. Несомненно, что поводов для таких оценок было достаточно как у современников, так и у тех, кто судил и судит об истории, культуре и повседневном быте советских людей ретроспективно. Происходившее в стране легко напрашивалось на то, чтобы видеть в нем коллективное умопомешательство, результат недомыслия и проявление античеловеческого в человеке, торжество культурной энтропии и антигуманизма1. Пафос подобных суждений не обошел стороной и собственно научные исследования в области советской истории и культуры. Примеры нелепицы и абсурда – абсурда зловещего, пугающего или пусть только курьезного – изначально составляли контекст, симптоматично объединивший традицию (анти)советской сатиры (от романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова до Александра Зиновьева и Владимира Войновича) с предметом советологии (если понимать под советологией не только политологическое «кремлеведение», но изучение явлений и событий, разноаспектно характеризующих специфику советского социального опыта2).
Концепции и методики, призванные прояснить особенности внутренней и внешней политики советских властей, заведомо апеллировали при этом к объяснению не нормы, но патологии. В наиболее элементарном виде «антропологические» аргументы на этот счет сформулировал немецкий историк античности Отто Зеек, настаивавший на излюбленном им (и восходящем к истории древнегреческой политической мысли) тезисе о принципиальном неравенстве людей, изначально конфликтном сосуществовании высокоодаренных одиночек и бездарной, завистливой толпы. В введении к «Истории развития христианства» (1921) Зеек объяснял происходившее в советской России как наглядное воспроизведение ситуации гибели античной цивилизации – победой «худших» над «лучшими»3. В последующие годы в объяснение видимых несообразностей советской действительности ученые-советологи часто обращались к историческим аналогиям, демонстрирующим эксцессы властного произвола и пределы социального терпения. Терминология, позволяющая представить особенности политического управления в терминах нормы и ее нарушения, оказывается уместной и в этом случае – и не только, конечно, применительно к истории СССР, – в нелишнее напоминание о том, что история самих институтов политической власти является примером процесса, который, по давнему замечанию Харольда Лассвела, делает особенно явными иррациональные основы социальности. Если целью политики является разрешение тех противоречий, которые изначально присущи человеческому общежитию, то ясно и то, что способы такого разрешения не ограничиваются сферой рационального4. Сам Лассвел считал на этом основании возможным изучать политику с точки зрения психопатологии. Соблазн медицинской и психиатрической терминологии в еще большей мере коснулся тех историков культуры и литературоведов, кто, вслед за Лойдом Де Моссом, пытался понять прошлое с опорой на методы психиатрии и, особенно, психоанализа5. Исторические аналогии, позволяющие усмотреть в советском прошлом закономерности (или превратности) общечеловеческой истории, варьировали – в сопоставлениях соратников Ленина с якобинцами, Сталина с Иваном Грозным и Петром I, советского тоталитаризма с немецким фашизмом и китайским маоизмом и т.д.6, – но в целом подразумевали предсказуемый вывод: происходящее в советской России может быть названо иррациональным и абсурдным, но рационально объяснимо насилием власти, зомбирующей пропагандой, страхом и социальным фанатизмом.
Девальвация «тоталитарной парадигмы» западной советологии осложнила представление об однонаправленности механизмов социального контроля в советском обществе и придала большее значение детализации дискурсивного взаимодействия между властью и обществом (с учетом того, что инстанции властного контроля являются не только внешними по отношению к субъекту)7, но не изменила – или даже усилила – представление о советском обществе как обществе, уверовавшем в идеологическую утопию и потому принявшем в качестве неизбежного или должного вещи, труднообъяснимые для человека западной демократии8. В целом результат советологической ревизии выразился в том, что прежняя патология была объявлена нормой, а прежняя норма (например, те, кто изнутри оценивали советскую действительность глазами старорежимных либералов и западников) – патологией. Авторитетами в репрезентации советской культуры стали отныне не критики режима, но «простые советские люди», носители «интериоризованного советского опыта», усвоившие базовые ценности идеологии и не искавшие им социальной или культурной альтернативы, искренне (или не очень) одобрявшие решения партии и правительства, искренне (или не очень) готовые «к труду и обороне» и т.д. Между тем в своих крайностях тоталитарная и ревизионистская парадигмы советологии предстают вполне взаимозаменимыми. И та и другая предъявляют читателю метанарратив, который равно позволяет задуматься об иерархии факторов, способствовавших живучести советского социального опыта (будь это наследство дореволюционных традиций власти, инерция культуры, воздействие террора на массовое сознание и социальную психологию и т.д.)9. Старые доводы о привлекательности коммунистических идеалов остаются небесполезными и здесь – хотя бы в том отношении, в каком они проясняют готовность советского человека претерпевать невзгоды настоящего в виду безальтернативно счастливого будущего10.
Эсхатологически «ретроспективное» отношение к текущей истории, оценка ее как бы из уже состоявшегося будущего вычитываются из советской версии марксизма вполне определенно. «Воспоминания о будущем» характеризуют советскую пропаганду с первых послереволюционных лет, закономерно соответствуя давно отмеченному противоречию постулатов о детерминированности мировой истории и ее зависимости от революционного вмешательства, с одной стороны11, и квазирелигиозному характеру марксистского учения – с другой12. Мирча Элиаде, концептуально противопоставивший ощущение линейного (мирского) и кругового (священного) времени, неслучайно связал последнее не только с архаическими культурами, но и с реализацией марксистской утопии, ставящей своей целью построение общества, созвучного мифологическим грезам о Золотом Веке. Маркс, по Элиаде, лишь осложнил этот столь распространенный в архаических культурах миф мессианской идеологией иудеохристианства – ролью проповедника-пролетариата, чья избавительная миссия приведет к последней борьбе Добра и Зла (Христа и Антихриста) и окончательной победе Добра13.
Риторика советской пропаганды согласуется с рассуждениями Элиаде уже в том отношении, что метафизика истории и психология терпения предстают в ретроспективе советского социального опыта взаимодополняющими условиями революционного проекта, изначально обязывавшего советских людей, с одной стороны, к лишению и невзгодам, а с другой – к спасительному ожиданию. Социологические опросы начала 1990-х годов показывают, что представление о «советском человеке» как «человеке терпения» (homine patienti), разделявшем вместе с тем относительную веру в лучшее будущее, в основном остается определяющим для суждений о социально-психологической атмосфере, в которой жило советское общество14. О широком доверии советских людей к самому коммунистическому проекту в это время говорить уже не приходится15, но до начала 1970-х годов ситуация представляется иной, – иначе невозможно объяснить, например, социологически удостоверенный успех, выпадавший на долю авторов и книг, сочетавших незамысловатую пропагандистскую дидактику с морально-нравственными проповедями спасительного стоицизма. Таковы, в частности, бестселлеры конца 1940 – 1950-х годов – «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого (1946), «Далеко от Москвы» Василия Ажаева (1946), «Счастье» Петра Павленко (1947), «Молодость с нами» и «Журбины» Всеволода Кочетова (1947, 1952), «Времена года» и «Сентиментальный роман» Веры Пановой (1953, 1958), «Хуторок в степи» Валентина Катаева (1956), «Битва в пути» Галины Николаевой (1957)16. Очевидная из сегодняшнего дня идеологическая тенденциозность советского кинематографа тех же лет не препятствовала широчайшей популярности «Молодой гвардии» Сергея Герасимова (1948), «Большой семьи» Иосифа Хейфица (1954), «Коммуниста» Юлия Райзмана (1957), «Все остается людям» Георгия Натансона (1963), киноленинианы Сергея Юткевича и Евгения Габриловича («Последняя осень», 1958, «Ленин в Польше», 1966) и многих других кинофильмов, в которых современный зритель зачастую не видит ничего, кроме назойливой пропаганды и эстетического примитива. Можно утверждать, что горизонт «культурных ожиданий» 1960 – 1970-х годов в значительной мере определяется схожим умонастроением. Тиражирование пропагандистских лозунгов странным образом уживается в советской культуре с патетикой искренности, интимности и этической самоотверженности. Зачитывавшиеся до дыр издания «Роман-газеты» с произведениями Александра Фадеева и Константина Федина, Семена Бабаевского и Эммануила Казакевича, Антонины Коптяевой и Александра Чаковского, Федора Панферова и Михаила Шолохова, Афанасия Коптелова и Ивана Стаднюка, Константина Симонова и Вадима Кожевникова, Валентина Овечкина и Александра Бека, Сергея Смирнова и Марии Прилежаевой, Виталия Закруткина и Владимира Тендрякова, Сергея Сартакова и Виля Липатова, Сергея Воронина и Юрия Бондарева, Сергея Крутилина и Михаила Алексеева, Ефима Пермитина и Владимира Солоухина своеобразно сочетали ключевые темы и мотивы советской литературы: с одной стороны – «партийность», «идейность», «народность», а с другой – любовь и совестливость, сердечность и порядочность. Герой снискавшей широкий зрительский успех пьесы Александра Крона «Кандидат партии» (1950) воодушевлял ту же аудиторию рассуждением о том, каким должен быть настоящий коммунист:
Настоящий коммунист – это человек, который в коммунистическом Завтра был, видел счастливую жизнь на земле, прикоснулся уже к этой жизни. <…> В мыслях своих переносился, внутренним взором видел, сердцем прикоснулся. И отпущен он оттуда на короткий срок, для того чтоб рассказать о ней людям, сказать, что близко она, и дорогу указать. А придется с боями идти – биться в первом ряду, вдохновлять и вести, жизнь положить, если надо…17
Приведенное рассуждение подразумевает представление об истории, превращающее современность в некое квазисакральное переживание того, что уже произошло в будущем. Применительно к христианской историософии Карл Лёвит удачно определил такую ситуацию (теоретически воспроизводящую ход мысли, известный европейской философии начиная с Платона, у которого обретение истины тоже есть своего рода воспоминание о будущем – воспоминание души о том, что было ей дано до ее рождения в мир) как «совершенное настоящее» (perfectum praesens)18. Повторение в этом случае – залог того, что будущее предопределено хотя бы в отношении своего прошлого. Сколь бы туманным ни виделось советскому человеку коммунистическое завтра, он мог быть уверен, что у этого завтра останется сегодняшее позавчера: Ленин, Сталин, революция, Отечественная война, первые полеты в космос и т.д. Вся риторика советской и особенно сталинской пропаганды предсказуемо строилась на фигуре воспоминания19, обязывавшего к такому переживанию истории, в которой время то ли остановилось, то ли движется по кругу – подобно смене времен года (вспомним стишок советского времени: «Прошла весна, настало лето, – спасибо Партии за это!»).
Лучше всего вышесказанное иллюстрируется применительно к советской культуре сталинского времени, и прежде всего применительно к ее главному творцу – самому Сталину. По выводу Бориса Илизарова, детально изучившего личную библиотеку и маргиналии Сталина-читателя, любимым историком вождя «без всяких скидок» следует считать академика Роберта Виппера – автора книг «Очерки истории Римской империи» (1908), «Древняя Европа и Восток» (1916) и «История Греции в классическую эпоху. IX – IV вв. до Р.Х.» (1916), обильно испещренных сталинской рукой20. Исследователь-архивист не останавливался на исторической концепции Виппера: между тем последняя замечательна именно тем, что проективные историософские концепции неизменно описывались Виппером как концепции ретроспективные. Особенно недвусмысленно Виппер высказывался о социализме, видя в нем не проект будущего, но современный отклик на опыт прошлого – на уже известные из истории попытки создания общественного строя, основанного на «добровольно-принудительном» труде21. «Человек эпохи сталинизма» изначально призван к тому, чтобы быть избавленным от страха перед историей ритуальным возвращением к неизменной святыне – истории партии (печатный текст канонического «Краткого курса истории ВКПб» характерно заканчивался крупно набранным извещением: «Конец»)22 и ее корифею – «Ленину сегодня» (впервые в агиографическом пылу так назовет Сталина Анри Барбюс)23. Не удивительно и то, что политико-теологический портрет сталинского правления строился на идее вездесущности Сталина, присутствие которого мыслилось всевременным и повсеместным:
Шахтер, опускаясь под землю, связывает с именем Сталина свои рекорды. Кузнец на заводе посвящает свои достижения великому вождю. Колхозник, борясь за новый урожай, клянется именем Сталина. Ученый, садясь за письменный стол, мысленно беседует со Сталиным24.
Цитаты и примеры, созвучные вышеприведенному пассажу, можно приводить страницами, но именно поэтому сомнительно полагать, что их появление продиктовано исключительно сервилизмом, страхом или беспринципным цинизмом25. Более оправданными в этих случаях представляются объяснения, дополняющие рассуждения о социальных механизмах идеологического контроля психологическими наблюдениями за типологически схожими примерами массовой истерии и коллективного психоза, обнаруживающего не только политико-идеологические, но также религиозные и фольклорно-этнографические аналогии. Здесь, быть может, достоин грустной иронии тот факт, что в российской истории примеры массовых истерий, демонстрирующих (по знаменитой фомулировке Гюстава Лебона) «замену сознательной деятельности индивидов бессознательной деятельностью толпы», спорадически давали о себе знать на протяжении всего XIX столетия (массовые формы «кликушества», широкое распространение хлыстовства и скопчества)26, но участились именно в конце XIX – начале XX века, положив начало социально-психологическим, этнографическим и религиоведческим исследованиям закономерностей коллективного (само)внушения. Основоположники таких исследований в отечественной науке – И.М. Балинский, А.А. Токарский, В.Н. Ергольский, В.Х. Кандинский, Н.В. Краинский, П.И. Якобия, В.И. Яковенко, но прежде всего И.А. Сикорский и В.М. Бехтерев – рассматривали бытовые проявления массовой одержимости («Малеванщина», «Тираспольские самопогребения», «Балтское движение», деятельность Б. Ваисова в Казанской губ., «дело Бейлиса» и др.) как результат «патологического подражания», «индуцированного умопомешательства», обнаруживающего психоконтагиозный эффект, усиливающийся при определенных социальных условиях (наличии сильного психологического лидера, групповой обособленности, роли медиальных средств и т.д.)27. Социальные проявления революционного утопизма описывались (уже у Кандинского, а позже у Сикорского и Бехтерева) схожим образом. В послереволюционные годы такие описания детализует работавший в Праге после своей эмиграции из России профессор психиатрии Г.Я. Трошин, подразделявший многообразие социальных форм «психической заразительности» на формы «коллективного психоза», этнографические эпидемии, а также демономанические, идейные, революционные и бытовые эпидемии «текущего времени»28. Характерно при этом, что представления и идеи, транслируемые внутри религиозно-мистических и революционных групп (т.е. групп, в той или иной степени охваченных «психопатическими эпидемиями»), объяснялись Бехтеревым – в предвосхищение этнологическо-семиотических интерпретаций мифа и ритуала – со ссылками на принцип «символической экономии»: «ибо символика стремится заместить сложные явления какими-либо бьющими в глаза и во всяком случае выразительными и легко улавливаемыми знаками»29. В эти же годы называются и наиболее главные источники социальной патологии, выразившейся в российской революции: по мнению Николая Бердяева, таковыми следует считать апокалиптические идеи радикального сектантства30. В популярной в конце 1920-х годов книге Рене Фюлоп-Миллера «Дух и лицо большевизма» эта идея приобретет «религиоведческую» и фольклорно-этнографическую определенность с оглядкой на традицию хлыстовства31, положив почин поиску возможных аналогий между политической деятельностью большевиков и «многообразием религиозного опыта» в дореволюционной России32.
Религиоведческий, а также этнографический и фольклористический подходы к описанию тоталитарных обществ сегодня представляются продуктивными прежде всего потому, что они имеют дело, с одной стороны, с устойчиво воспроизводимыми дискурсами социального насилия, а с другой – поведенческими и психологическими тактиками «добровольного» подчинения, компенсирующими до известной степени то, что извне предстает как «террор среды» и «насилие власти»33. Физическое и «символическое насилие», проблематизированное Пьером Бурдье как неотъемлемый механизм легитимизации любой власти, в ретроспективе советской истории принимает откровенно (квази)религиозные и (квази)фольклорные формы, дающие основание говорить о самом советском обществе как об обществе традиционного или даже архаизированного типа34. Будем ли мы рассматривать такую «архаичность» как закономерное следствие политико-экономической регенерации дореволюционного общинного уклада через модернизацию35 или искать их источник в демографической ситуации в СССР ( многократном преобладании крестьянского населения и устойчивой инерции «аграрного менталитета» в общественном сознании36), – в любом случае основанием для самих этих объяснений так или иначе служат тексты, позволяющие судить о преимущественных дискурсах социального самоописания. Для историка и экономиста такое самоописание представляет в известной степени вторичный интерес – в отличие от самих «исторических событий»; для социологов и филологов, напротив, важнее содержательные и формальные особенности как раз тех текстов, которые коррелируют с «историческими событиями». Однако и в том и в другом случае исследователю, допускающему возможность разговора о советском обществе как о целом37, приходится считаться с конвенциональной целостностью советской культуры, а значит, и со структурной соотнесенностью репрезентирующих ее текстов.
С филологической точки зрения это означает, помимо прочего, возможность выделения не только собственно содержательных (например – понятийно-концептуальных) особенностей советской культуры38, но и тех содержательно-формальных критериев, по которым мы судим о различии и сходстве самих текстов (прежде всего – в терминах риторики и поэтики). Можно предполагать, что в самом общем виде искомые критерии небезразличны к типологическому соотнесению властной и речевой организации общества (скажем, в терминах парадигмы «монархия, тирания, аристократия, олигархия, полития, демократия»)39. Однако на уровне синхронной детализации функционирующие в обществе тексты обнаруживают разные типы системности как лингвистического, так и экстралингвистического (например – когнитивного, эмоционально-психологического или какого-либо социально-ограничительного) порядка40. Так, одной из дискурсивных особенностей советской культуры я склонен считать всепронизывающий дидактизм, обнаруживающий себя на разных уровнях самоописания советского общества. Сложившаяся традиция «литературоцентристского» описания культур эпохи модерна заведомо подразумевает в данном случае представление о преимущественной «литературности» советской культуры и, соответственно, необходимости исследовательского акцента на произведениях советской литературы. Но насколько самодостаточна советская, да и всякая любая «литературность»? Вправе ли исследователь считаться при этом также и с теми социально-психологическими и медиальными обстоятельствами, которые, вероятно, содействовали актуальному существованию самой советской литературы?
Разговор о «фольклорности/фольклоризме» советской культуры при таком подходе столь же законен, как и разговор о ее «литературности». Однако описание советской культуры с использованием фольклористической (а значит – и этнографической) терминологии по определению подразумевает не индивидуальную, но коллективную специфику «дискурсивного потребления» – большее внимание к аудитории, а не к автору, преимущественный акцент на рецепции, а не на интенции текста. В целом литературоцентристский и фольклористический анализы могут считаться взаимодополнительными методами в выявлении эстетических, этических, а в конечном счете – тематических и мотивных доминант, предопределяющих собою дискурсивную динамику культурной (само)репрезентации. Степень определенности в этих случаях пропорциональна мере редукционизма. При аналитической достаточности образных или идеологических обобщений русская культура может быть описана, например, как тяготеющая к «тоталитаризму» и/или «соборности»41, «грустным текстам»42 и танатографии43. Психоаналитическая редукция выявляет в ней же конфигурацию кастрационных, садистских, мазохистических и иных комплексов44. В принципе во всех этих случаях мы имеем дело с мифопоэтикой, которая выражает собою психосоциальные и когнитивные предпочтения как творцов, так и потребителей культурных дискурсов и артефактов. Так, к примеру, известная работа Евгения Трубецкого об исключительной важности для русского фольклора образа Ивана-дурака подразумевает, что у этого образа есть не только соответствующая репрезентация в тех или иных фольклорных (кон)текстах, но и коллективная востребованность45. Можно спорить в этих случаях, что чем порождается: предложение – спросом или, напротив, спрос – предложением. Но было бы странно полагать, что устойчивое воспроизведение чего бы то ни было в культуре безотносительно к его рецептивной целесообразности в рамках той или иной «целевой группы».
В динамике социального общения и литература и фольклор выступают в функции символического регулятора социальных и культурных практик, закрепляя за определенными текстами и жанрами как определенную аудиторию, так и, главное, опознаваемые и прогнозируемые формы социальной коммуникации46. Подобная коммуникация служит опытом социализации субъекта, т.е. опытом «превращения индивида в члена данной культурно-исторической общности путем присвоения им культуры общества», а в узком смысле – опытом овладения социальным поведением47. Изучение такого опыта с опорой на изучение «потребителей» текстов, читавшихся и слушавшихся в советской культуре, существенно осложняет расхожие представления о монологической простоте той же советской литературы, так как обнаруживает за ее дидактической предсказуемостью не «приукрашивание» и/или «искажение» социальной действительности, а ритуализованные маркеры групповой идентичности. О. Давыдов, публицистически сформулировавший в свое время тезис о соцреализме как о своего рода дискурсивном устройстве, призванном отрабатывать «совковую программу», высказал в данном случае, как мне представляется, плодотворную и по сей день недостаточно востребованную идею, подразумевающую изучение литературной поэтики и риторики в терминах социальной технологии и коммуникативного взаимоопознания48.
Обстоятельства, предопределившие интерес советской культуры к фольклору, в существенной степени могут быть объяснены коллективизирующей эффективностью самой фольклорной традиции, «подсказывающей» обществу дискурсивные приметы культурной, национальной и групповой идентичности. Представление о «фольклоре» по определению строится на основе представления о том или ином коллективе – «народе» (folk), наделенном неким общим для него знанием (lore). Объем понятия «народ» при этом может существенно разниться – примеры тому легко отыскиваются и в истории отечественной фольклористики, некогда хрестоматийно определявшей дореволюционный русский фольклор как творчество «всех слоев населения, кроме господствующего», а послереволюционный – как «народное достояние в полном смысле этого слова»49. Но сколь бы произвольными ни были рассуждения о том, кого включает подразумеваемый фольклором «народ» и из чего состоит соотносимое с ним «знание», востребованность всех этих понятий остается функционально взаимосвязанной: «фольклор» призван указывать на некую коллективность, заслуживающую идеологической (само)репрезентации.
Возникновение и развитие фольклористической науки выражает задачи такой репрезентации различным образом. В одних случаях акцент делается на пафосе цивилизаторских усилий, в других – на политике внешней и внутренней колонизации, в третьих – на риторике социокультурного самоопознания и т.д. Представление о предмете фольклористики при этом также варьирует. В разное время и в разных научных контекстах «фольклором» назывались вещи и явления, «собирательным» критерием которых (помимо расплывчатых понятий «народ» и «знание») эффективно служило лишь понятие «традиция». Вслед за Альбертом Мариню, писавшим некогда о том, что традиции составляют область фольклора, хотя и не все традиции являются фольклорными, можно сказать, что фольклор – это понятие, которое используется для указания на коллективную («народную») экспликацию тех или иных традиций50. Дискуссии о формах и способах такой экспликации и определяют собственно теоретическую основу фольклористики как науки.
Убеждение в традиционности фольклора, обнаруживающего свое существование до и/или вне литературы, теоретически предрасполагает к тому, чтобы видеть в нем не только источник самой литературы, но и ее инфраструктуру: литература как бы «сгущает» в себе ингредиенты, растворенные в фольклоре. Но ситуация усложняется, если мы задаемся вопросом о том, на каком основании мы выделяем в таком «аморфном» фольклоре те или иные фольклорные жанры. Жанровые классификации в фольклористике относительны уже потому, что большинство терминов, которые в ней используются, изобретены (как, собственно, и сам термин «фольклор») не носителями и творцами фольклора, а литераторами и учеными. «Былины» и «новины», «сказки» и «сказы», «легенды» и «исторические песни» – все это термины, появление которых связано с идеологическим и эстетическим контекстом фольклористической науки. При необходимости учитывать это обстоятельство изучение фольклора чревато парадоксом, который хорошо демонстрирует книга Джэка Зайпса «Снимая заклятие» («Breaking the Magic Spell»): связывая распространение понятий «волшебная сказка» (conte de fée, fairy tale) и «народная сказка» (Volksmärchen) с идеями Просвещения и литературой романтизма, исследователь по умолчанию остается верен терминологической иерархии, в которой не только сказки, но и вся литературная культура возводятся к некоему исходному для них повествовательному фольклору (folk tales)51.
Риск таких противоречий в рассуждениях о фольклоре, по-видимому, неизбежен, поскольку понятие жанра в фольклористике обусловлено не только «объективным» существованием фольклора, но также его идеологической, научной, общественной и иной востребованностью в значении данного жанра. Каков в этих случаях зазор между «объективностью» фольклорного содержания и его идеологическим ангажементом – один из наиболее сложных вопросов фольклористики. В конце 1960-х Ричард Дорсон объединил очевидно инспирированные, претендующие считаться фольклорными тексты удачным названием «фальшлор» (fake lore), предостерегая фольклористов от некритического отношения к «фольклорным» подделкам52. Не приходится спорить с тем, что тексты «фальшлора», о которых писал Дорсон, искажают предшествующую фольклорную традицию, но в функциональном отношении они подразумевают, а часто и воспроизводят закономерности самой этой традиции53. Использование «фальшлора» в непосредственно пропагандистских целях оказывается таким образом хотя и внешним, но вполне закономерным следствием фольклорной прагматики.
В истории отечественной культуры идеологически ангажированные (псевдо) фольклорные тексты, комментирующие злободневные политические события, появлялись и до советской власти – например, известная в нескольких вариантах песня на кончину Александра II54. Но в 1930 – 1950-е годы производство подобных текстов (а также кустарных артефактов – вроде «палехских» шкатулок с сюжетами на темы революции, Гражданской войны и колхозной жизни)55 становится едва ли не плановым.
Преимущественно именно такие тексты, призванные выражать собою «настроения и чаяния всего советского народа», и представляли собою традицию нового, «советского фольклора»56. Сегодня во многих случаях нам известны как «заказчики», так и «изготовители» текстов советского «фальшлора»57, но в гораздо меньшей степени прояснено восприятие этих текстов той аудиторией, на которую они были рассчитаны. Представление о том, что значение (псевдо)фольклорных текстов советского времени сводится исключительно к идеологическому «заказу» (как это, например, сделано в известной книжке Франка Миллера с характерным названием «Фольклор для Сталина»), ошибочно хотя бы потому, что наделяет такой заказ эффективностью, соизмеримой с динамикой культурного процесса58. Между тем существование «фальшлора» труднопредставимо вне аудитории, демонстрирующей свое согласие на его потребление.

«На страже СССР». П.Д. Баженов. Палех. 1934
Былинообразные «новины» о советских полководцах, песни и «сказы» о Ленине и Сталине, пословицы и поговорки на темы колхозной жизни строились на формальном инвентаре традиционного фольклора, на использовании приемов гиперболичности, параллелизма, звукового повтора, метафорики, антитетичности и т.д. Тематические «подсказки», позволяющие сегодня причислять такие тексты к идеологически ангажированным, не являются достаточным признаком их «псевдофольклорности» – в этом случае пришлось бы думать, что «монархолюбивые» тексты дореволюционного фольклора также являются неаутентичными. Но самое главное состоит даже не в этом, а в «добавочной действительности» самой советской культуры, обнаруживающей и помимо фольклора достаточно свидетельств ее социальной востребованности и суггестивной эффективности59. В социально-психологическом отношении советский «фальшлор», с этой точки зрения, мало чем отличается от «настоящего» фольклора: более того, чем шире «целевая группа» такого «фальшлора», тем он «фольклорнее» и «аутентичнее»60. Верно и обратное: традиционные фольклорные тексты получают статус неподлинных по мере того, как они теряют свою реальную или воображаемую аудиторию.