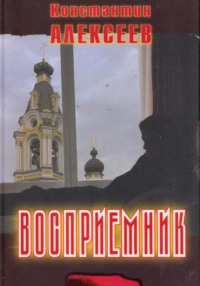Kitobni o'qish: «Восприемник»
ВОСПРИЕ́МНИК – при православном христианском обряде крещения – лицо, принимающее на руки ребенка, вынутого из купели. Полное официальное церковное название: восприемник от купели; то же, что крестный отец. Восприемник принимает ответственность перед Богом за духовное воспитание и благочестие крещаемого.
Толковый словарь Д.Н. Ушакова. 1935–1940 гг.
1
Он торопился покинуть вокзальную площадь. Спешил к метро, лавируя и петляя между остальными пассажирами. В его бегстве было что-то от обложенного охотниками зверя, который ломится в самую непролазную чащу, в надежде оторваться от погони. И то, что творилось на душе, тоже походило на чувства преследуемой дичи: страх, смятение, стремление запутать следы. Шаховцев вдруг поймал себя на том, что идет, низко опустив голову, словно боясь быть узнанным. И нет-нет да и косится исподлобья по сторонам: не мелькнет ли в людской толчее кто-нибудь из знакомых.
Несмотря на будний день, на «Комсомольской» было полно народа. В вестибюле стояла привычная сладковато-удушливая вонь, характерная для привокзальных станций. Почти круглый год здешние бичи постоянно просачивались в метро, отравляя и без того несвежий воздух тошнотворным запахом бомжатины. Все это добавило Шаховцеву еще больше нервозности, и он с облегчением перевел дух, когда, миновав турникеты, сбежал вниз по эскалатору и вскочил в первый же подошедший состав.
Угнездившись на сиденье в конце вагона, сквозь прикрытые веки он напряженно наблюдал за попутчиками. Казалось, каждый из них исподволь с подозрением косится на него, распознав его нарочитую безмятежность и притворную усталость…
– Шах! – вдруг отчетливо донеслось сквозь шум поезда.
Он вздрогнул, инстинктивно вжавшись в сиденье.
«Узнали!..»
– Шах! – повторил все тот же высокий и, как показалось, злорадный голос. – Ну, чего тормозишь?
Шаховцев медленно повернул голову и увидел двоих юнцов, по виду старшеклассников, уткнувшихся в экраны дорогих, навороченных мобильников.
– Ну? – в который раз с нетерпеливым азартом произнес тот, что сидел ближе.
– Не ну, а вот тебе! – отозвался его приятель. – Пока ты моего короля обкладывал, твоему ферзю кирдык пришел!
Шаховцев перевел дух и нервно усмехнулся: совсем дошел – уже везде соглядатаи мерещатся да слышится собственная кличка! А всего-то пацаны режутся через блютуз в сетевые шахматы. Ну а если бы даже это оказался кто-то из знакомых – что тут такого? Уж неужели бы не нашел чего сказать, придумать? Тем более, о том, что произошло, еще никто не знает…
«Вот так и сходят с ума!»
Он взглянул на свое отражение в окне вагона. Из темной глубины на него смотрел крупный молодой мужик с помятым угрюмым лицом. Настороженный, почти затравленный взгляд, двухдневная щетина, всклокоченные, как со сна, волосы – к этому его нынешнему облику меньше всего подходило то давнее прозвище.
Получил он его, как водится, в первом классе. Школьники вообще редко величают друг друга по именам, да и по фамилиям тоже нечасто, переиначивая их во что-то уменьшительно-смешное и часто обидное. К примеру, отличницу Ленку Лагутину сходу нарекли Гутей, главного заводилу Юрку Петрова – Петриком, а его, Ваньку Шаховцева, в первые же дни окрестили Шахом.
Поначалу он не на шутку обижался и бросался в драку, безжалостно разбивая в кровь носы обидчикам. После нескольких таких стычек с одноклассниками испуганная учительница даже вызвала в школу мать, и та потом целый вечер объясняла Ване, что прозвища в детстве бывают у всех и его – нисколько не обидное, а даже наоборот. Ведь шах, поведала сынишке Ольга Григорьевна, это большой правитель и очень уважаемый человек.
Это неожиданное воспоминание, проклюнувшееся откуда-то из глубин памяти, заставило невольно улыбнуться. Тотчас же Иван ощутил настойчивый зуд под ложечкой и понял, что дико хочет есть.
Поезд, вынырнув из туннеля, мягко притормозил на станции. Поднявшись, Шаховцев подхватил сумку и, выскочив из вагона, почти бегом направился к эскалатору.
Пройдя мимо теснившихся на асфальтовом пятачке ларьков с шаурмой и аляповатых павильонов с киосками, он обогнул торговый центр и наконец нашел, что искал: маленькое кафе с неприметной вывеской.
Внутри было безлюдно. За угловым столиком размеренно хлебал чай чернявый, южного вида мужчина с пышными смоляными усами. По-видимому, он был хозяином заведения, поскольку взглянул на вошедшего не коротко-равнодушно, а пристально, оценивающе и тут же подал знак молодой девчонке, по виду молдаванке, лениво протирающей столы. Та мгновенно сделала стойку, обозначив какую-то уж чересчур приветливую и потому кажущуюся фальшивой улыбку:
− Здравствуйте! Проходите, пожалуйста. Желаете покушать?
Фраза была явно заученной, причем последнее слово сто к одному было из обихода владельца забегаловки − так обычно говорят на Востоке. Усмехнувшись своей проницательности, Шаховцев принял от девушки меню в огромной кожаной папке, похожей на ту, что носят к докладу чиновники, и, сделав заказ, расположился за дальним столиком.
В ожидании еды он попытался отвлечься от мрачных мыслей, подглядывая за хозяином кафе и официанткой, стараясь угадать, связывают ли их только деловые отношения или нечто большее. Шах знал, что многие гастарбайтерши из бывшего Союза спят со своими хозяевами. В свое время у Ивана на «Университете» квартировала такая же девица-молдаванка с редким именем Виорика. Трудилась она на маленьком рынке около метро, где Шаховцев отоваривался продуктами. Днем стояла за прилавком, зазывая покупателей, а вечером предавалась плотским утехам с хозяином «точки» − седовласым бакинцем Арзу. Пока того не отбила новая продавщица – блондинистая хохлушка с пышными формами и наглым напористым характером. Виорика же, считавшая хозяина в душе чуть ли не законным мужем, оскорбившись, съехала от него к Шаховцеву.
Стоит отдать должное – девушка не делала никаких попыток окольцевать Ивана, дабы обосноваться в столице. Напротив, они с ней сходу договорились, что Виорика поживет у него пару месяцев, а в качестве платы будет мыть-стирать-готовить. Ну и, естественно, скрашивать его холостяцкие ночи…
Все время, пока девушка обитала у Ивана, она, очевидно, из оскорбленного женского самолюбия, с упоением рассказывала, как Арзу даже в постели журил ее за разные огрехи в торговле, наставлял, как лучше зазывать покупателей и впаривать им товар. Помнится, тогда, услышав про эти нравоучения, Иван долго смеялся, представив себе, как Арзу, слившись в объятиях с любовницей, с придыханием шепчет ей: «Дорогая, в следующий раз клади на виду только самые спелые помидоры…» А та, обвив шею партнера гибкими, как лозы, руками, нежно отвечает: «Я постараюсь, милый…»
Вот и теперь, наблюдая за хозяином и официанткой, Шах попытался представить их в иной обстановке и не смог. То ли на людях они ничем не показывали своих чувств, то ли и вправду между ними ничего не было.
…Расправившись с салатом и макаронами, Шаховцев отхлебнул крепкого, обжигающего кофе и вновь вернулся к прежним невеселым раздумьям, которые сводились в основном к одному: куда податься дальше?
О возвращении домой не возникало и мысли. На миг Шах подумал, что можно было бы спрятаться в деревенской глуши, подобно отшельнику…
«Да-а, зря я тогда Галатенко не послушал, − с запоздалой досадой подумал он. – Ведь предлагал же он осенью у себя в деревне полдома купить, добротного, кирпичного, и всего за каких-то сорок тысяч! Санек рассказывал − у них там такие места классные! Недаром они с Анькой на свою фазенду каждую свободную минутку норовят выбраться… Стоп, он же давеча говорил, что собирается туда на Пасху! Точно, как раз вроде сегодня, в четверг, отчаливать собирался… А что, если пару дней у него перекантоваться?»
Шаховцев нащупал в кармане мобильник, включил, набрал пин-код – и тут же телефон ожил, завибрировал, разразившись короткими треньканьями, замигал экраном: «Принято новое сообщение… Принято новое сообщение…» Почти все они извещали о пропущенных звонках. Первые два были от жены, остальные − от того, от кого и следовало ожидать. В последний раз, очевидно, отчаявшись отловить Шаха, он отстучал гневную «эсэмэску»: «Ты где, придурок? Срочно перезвони, слышишь?»
«Та-ак… кажись, началось!»
Удалив сообщения, он отыскал в памяти мобильника номер Галатенко, ткнул кнопку вызова – и через десять секунд в эфире зазвучал веселый тенорок Саньки:
− Здорово, Шах! С праздником!
− Привет… С каким еще праздником?
− Как с каким? Сегодня же Чистый четверг! Или запамятовал?
− Точно, запамятовал, − поспешно, стараясь придать голосу устало-досадливые нотки, произнес Шаховцев. – Работой завалили – мама не горюй!
− Смотри, так и Пасху проморгаешь!
− Не говори… Слушай, ты, кстати, когда в деревню отчаливаешь? Не сегодня случайно?
− Случайно нет. Мы уже со вчерашнего здесь.
− Да-а, вот незадача… − вырвалось у Шаховцева.
− А что такое?
− Да хотел тебя кой о чем попросить…
− Что-то случилось? − голос приятеля заметно посерьезнел.
− Нет-нет, ничего страшного. Просто хотел у вас пару дней у вас перекантоваться…
− Ты чего, со своей, что ли, поругался?
− Ты что, Бог с тобой! Просто позавчера к нам друзья с Кубани нагрянули, − мигом нашелся и соврал он. − Да притом не одни, а с киндерами. В общем у нас сейчас не дом, а зоопарк на выезде: эти оглоеды день и ночь на головах ходят… А мне тут, как назло, работа срочная привалила, вот и думал у тебя на пару-тройку дней обосноваться, пока гости не съедут.
− Так в чем вопрос? Сейчас звякну Петровне и предупрежу, что ты поживешь у нас.
− Кому-кому?
− Ну, Лидии Петровне из квартиры напротив. Мы же ей ключи оставили, чтобы она за Маркизом присматривала. Короче, езжай, а я пока ей наберу и скажу насчет тебя…
− Спасибо, Санек! С меня причитается.
− Брось, было бы за что…
Иван облегченно выключил телефон и, подхватив сумку, двинул на выход.
Доехав на метро до Алтуфьево, Шаховцев поднялся наружу, осмотрелся, вспоминая, как в прошлый раз он добирался до Саньки. Кажется, садился на автобус вон там, возле универсама… И в следующий момент взгляд наткнулся на припаркованную у тротуара маршрутку.
− До Челобитьевского идет? – поинтересовался Шах, наклонившись к открытой дверце салона.
− Идет-идет, − почти хором ответили ему сразу несколько голосов.
«Вот и ладненько!»
Дмитровка была свободна, и до развилки с шоссе машина домчалась меньше чем за четверть часа. Выйдя на повороте, Шаховцев с минуту соображал, куда идти дальше. Высившиеся внизу новостройки казались одинаковыми, а адрес он уточнить не догадался, лишь помнил, что Санькин дом находился сразу за автобусным кругом. Да-да, именно там: второй подъезд, последний этаж. Единственное, что отпечаталось в памяти, это номер квартиры соседки по площадке, которой приятель оставил ключи.
Шах неуверенно направился вниз. Отступившее было чувство страха овладело им вновь. Опасность мерещилась во всем: в катящей по дороге одинокой легковушке, в стае бездомных собак, трусивших по газону в сторону леса, в вынырнувшем из-за угла милицейском капитане, по виду – участковом, с потрепанной папкой под мышкой…
Однако страж порядка равнодушно прошел мимо, даже не покосившись в его сторону. Зато шествующий следом высокий священник в наброшенной поверх рясы куртке неожиданно замедлил шаг, провожая Шаховцева цепкими внимательными глазами.
«Ишь как уставился, аж всю душу вывернул! Тебе, батя, не в попы − в сыщики надо было податься!»
Миновав автобусный круг, Шах сходу узнал краснокирпичную новостройку, где был на новоселье полгода назад. Вошел в подъезд, поднялся на лифте, направился к указанной приятелем квартире. Но не успел он поднести руку к звонку, как дверь распахнулась и на пороге возникла маленькая благообразная старушка.
− Здравствуйте, Иван! С праздником!
− Добрый день… − Шаховцев даже немного растерялся.
− Заходите, что же вы? Я как раз обед согрела… Вы же небось с дороги, проголодались? У меня борщик свежий, с петрушкой и сельдереем… − лицо Лидии Петровны буквально лучилось какой-то неземной радостью, словно перед ней стоял не незнакомый человек, а любимый сын, которого она не видела Бог знает сколько времени.
− Спасибо, я только-только поел… − Шаховцев через силу улыбнулся.
− Зря, ой, зря… Вы только попробуйте! Борщик-то не простой – целебный. Я им уже сколько лет в Страстную неделю спасаюсь… А может, вы стесняетесь? Так зря опять же…
− Что вы, Лидия Петровна, нисколько не стесняюсь. Просто я действительно сыт. Мне бы сейчас как раз отдохнуть не помешало…
− Да-да, это уж обязательно, − старушка торопливо начала копаться в карманах своего цветастого фартука. – Сейчас-сейчас… − она наконец-то вытащила связку. − Смотрите: вот этот здоровенный – от верхнего замка, а вот этот от нижнего… − ворковала она, отпирая тяжелую металлическую дверь, за которой, едва заскрежетал замок, послышалось протяжное нетерпеливое мяуканье.
Огромный сибирский кот вначале ринулся было с урчанием к Петровне, но тут же настороженно замер, увидев Шаховцева.
− Свои, Маркизушка, свои, − успокаивающе потрепала его бабка по пышному загривку. – Это Иван, он поживет тут, − объясняла она ему, словно тот понимал человеческий язык. – Не бойся, он хороший…
Пока старушка ворковала с котом, Шаховцев снял куртку, вытащил из сумки шлепанцы и встал в ожидании, пока Санькина соседка уберется восвояси.
Но не тут-то было. Вначале она начала менять наполнитель в кошачьем лотке. После взялась наводить блеск в квартире, протирая тряпкой столы, комод, подлокотники кресел и дивана. В довершение всего Петровна все-таки настояла на своем и притащила от себя две кастрюльки: одну с вареной, пересыпанной луком картошкой, другую – со своим знаменитым «борщиком».
− Вот, покушаете, как проголодаетесь. Не бойтесь, все постное, без масла, как положено. А к вечеру я вам гречки с луком отварю да пирожков постных напеку… Как раз перед службой в храме… Вы ведь идете на Двенадцать Евангелий?
− Конечно. Обязательно иду! − ради того, чтобы болтливая бабка наконец исчезла, он был готов пообещать ей все, что угодно.
− А Саша вам объяснил, где наш храм?
− Да-да, конечно, − с трудом скрывая нарастающее раздражение, повторил Шах.
− Он тут совсем рядом, за автобусным кругом. Хотя что, я же зайду за вами…
− Хорошо, договорились… − он выдавил из себя некое подобие улыбки. – Извините, я устал с дороги.
− Все-все, ухожу. Отдыхайте с Богом… − Петровна в который раз оглядела квартиру, поправила висящую в стенном шкафу куртку гостя и шагнула за порог.
2
Заперев дверь, Шах перевел дух и быстро прошелся по квартире, окидывая ее цепким тревожным взглядом. Так попавший в окружение боец осматривает свое укрытие, прикидывая, как скоро его обнаружат враги и сколько времени он сумеет продержаться до подхода своих. Вот только сегодня ему, Шаховцеву, ждать помощи было неоткуда…
На душе было не то чтобы неспокойно: ее как будто выжигало изнутри ощущение тоскливой обреченности. «Шила в мешке не утаишь – все равно наверх всплывет!» − пришел на память один из любимых перлов крестного. Подобными хохмочками он любил сыпать к месту и не к месту, даже в те минуты, когда было совсем не до смеха.
…С лестницы долетел едва различимый шум открывающихся дверей лифта, и Шаховцев тотчас же неслышно метнулся к двери и приник к глазку. Но в просторном, на шесть квартир, «предбаннике» было пусто. «Это на соседний этаж кто-то пожаловал…» − наконец дошло до него, и он вновь отступил в коридор, чувствуя, как ухает в груди сердце.
Он вдруг поймал себя на мысли, что подобное уже происходило с ним. И не только тогда, четыре года назад, а и многим раньше, в декабре девяносто восьмого… И точно так же, как и в те дни, Иван томился ожиданием расплаты. И, словно пытаясь хоть ненадолго забыть страшную действительность, вспоминал все, что произошло, вновь и вновь мысленно прокручивая все предшествующие этому события, словно надеялся отмотать назад неумолимое время. Отмотать до того самого дня, когда можно было все изменить, поступить иначе.
Все было почти один к одному. Разве что теперь он метался, как по клетке, в чужой квартире, а тогда нервно ворочался на жесткой солдатской койке, проклиная все на свете и в первую очередь себя, по дурости вслед за Крысой сунувшегося к этому чертовому «мерседесу». И еще раньше, когда сглупил, переведясь в институте с дневного на заочное, польстившись на денежную работу, совершенно забыв о вездесущем военкомате. И потом, когда было можно съехать из общаги, став на время недосягаемым для повесток, или, на худой конец, попытаться откупиться от призыва, а он, идиот, послушал крестного и пошел отдавать ратный долг. А ведь как отговаривала его мать, как талдычила ему: «Нашел кого слушать! Вот пошлют тебя в Чечню, и что тогда я делать буду?!»
Впрочем, слово свое восприемник сдержал: ни в какую Чечню Шаховцева не законопатили и даже оставили в Москве. И притом не в какой-нибудь армейской части, где процветали или безумная уставщина, или полнейший беспредел, а определили в знаменитую «милицейскую» дивизию.
Дивизию прозвали так, потому что все, кто служил там, носили не зеленую, а серую форму, как у обычных стражей порядка, да и занимались солдаты практически тем же, чем и менты – вместе с ними патрулировали улицы, дежурили в оцеплении на футбольных матчах, концертах или митингах.
О подобных частях Шах до того момента слыхом не слыхивал и поначалу очень удивился и даже испугался, когда на городском сборном пункте за ним явился не «покупатель» в обычной защитного цвета форме, а молодой милицейский капитан. Держа в руках какую-то папку, он, заглянув в расположение, сурово поинтересовался:
− Шаховцев есть такой?
− Есть… − отозвался Иван.
− Собирайся живо!
Пока Иван запихивал в рюкзак полотенце и зубную щетку с бритвенным станком, остальные с каким-то обреченным сочувствием смотрели на него. Очевидно, они решили, что приятель по несчастью что-то натворил перед призывом и теперь его настигло возмездие. В те годы от армии, особенно среди москвичей, «косили» практически все, за исключением полных, как теперь говорят, лохов, не сумевших ни поступить в мало-мальски захудалый институт, ни накопить на взятку в военкомате. Если кто и шел служить, то это были, как правило, либо единицы, воспитанные в старорежимном духе: «Кто не был в армии – тот не мужик», – либо те, кому светила тюрьма и они намеревались спрятаться от правосудия за забором войсковой части. Кстати, и в числе тех, кто с тревогой наблюдал за Шаховцевым, таковые имелись: рыжий пацан с перебитым носом и блатными повадками подошел к нему и утешающе потрепал по плечу:
− Держись, братан. Много хоть светит?
− Хрен его знает… − неопределенно отозвался Иван.
− Ты, главное, не колись, а сразу в отказ иди: типа, не был, не знаю, не помню… У меня таким макаром кореш «условно» получил.
Шах и сам не знал, за что его забирают прямо со сборного пункта. По идее за ним ничего такого не было. Разве что тот случай неделю назад, когда он сцепился с конкурентами на рынке и накостылял одному из них…
Вот потому, пока он шагал по коридору сборного пункта вслед за милиционером, в сознание нет-нет да и закрадывалась леденящая душу мысль: а вдруг все же тот торгаш-молдаванин заявил на него?
Во дворе их ждал милицейский «УАЗик», за баранкой которого скучал совсем юный водитель в погонах рядового и причудливым треугольным шевроном, на котором был изображен сокол. На удивление, Ивана не запихнули в отгороженный решетками «обезьянник», а велели залезать на заднее сиденье.
− А куда мы едем-то? – опомнившись, наконец-то спросил он.
− Куда положено, туда и едем, − сердито отозвался капитан. – Чем недоволен-то? И так тебя одного, как фон-барона, везут!
− Да нет, просто…
− А если просто, то помолчи! Мало того что меня из-за тебя после суток сюда послали!
Тон милиционера был таким раздраженным, что Шаховцев не решился больше приставать к нему с расспросами.
Миновав Садовое, шофер вырулил на Дмитровку и вскоре свернул на неприметную улочку недалеко от Савеловского вокзала. Остановился перед массивными выкрашенными в серое воротами. Дважды коротко просигналил. Створки со скрежетом разъехались, и «УАЗик» медленно покатил вдоль одинаковых трехэтажных строений. Остановился у одного из них, перед входом с козырьком.
− Вылезай!
Вслед за капитаном Иван поднялся по лестнице и вошел в двойные деревянные двери, на которых висела потрескавшаяся табличка: «Учебный сбор».
Внутри обнаружился пост дневального, где стоял лопоухий, стриженный наголо парнишка в милицейской форме. Завидев вошедших, он вскинул руку к козырьку серой форменной кепи и надрывно прокричал: «Дежурный по роте на выход!»
На зов тут же выскочил другой милиционер, в погонах сержанта, по виду ровесник Шаховцева. Следом откуда-то сбоку появился еще один страж порядка, немолодой, в чине прапорщика.
− Принимайте! − устало бросил капитан, кивнув на Ивана.
Тем временем Шах огляделся и с удивлением увидел, что находится в самой что ни на есть солдатской казарме, где между рядов двухъярусных коек, заправленных уставными синими одеялами, надраивали с мылом пол двое стриженных наголо парнишек. Вот только одеты они были не в камуфляж, а в серую милицейскую «пэпээску»1.
А прапорщик, в свою очередь, пролистав бумаги, окликнул одного из них, высокого носатого парня:
− Пригарин! А ну дуй сюда! – и дождавшись, пока тот подбежит, распорядился: − Приведи-ка его в божеский вид. И поживее – чтоб до обеда успели в баню сводить!
Вместе с высоким они зашли в бытовку. Провожатый кивнул Ивану на табурет:
− Снимай рубашку.
Шах замешкался и настороженно уставился на милиционера.
− Снимай-снимай, − ободряюще повторил Пригарин, доставая из выдвижного ящика машинку для стрижки.
− Слышь, может, хоть ты скажешь, куда это я попал? – наконец решился задать главный мучивший его вопрос Иван.
− Куда-куда… Как положено, на КМБ! – усмехнулся высокий. – То бишь, на курс молодого бойца… Приходилось про такой слышать?
− Да я понял. А почему здесь все в ментовской форме?
− Так это специальная часть, тут все так ходят.
− Что же это за войска такие?
− Внутренние.
− Так у них вроде обычная зеленая форма.
− Это у оперативных и конвойников2. А кроме них, еще вот такие части есть, которые вместе с ментами за порядком следят. Вот потому и одевают так, чтобы внешне не отличить было, кто ты – солдат или урядник… Кстати, как тебя звать-то?
− Иваном.
− А меня Ромкой. Откуда сам будешь?
− Да вроде как уже местный…
− Москвич, что ли? – в голосе нового знакомца явственно послышалось презрение вкупе с тайной завистью.
− Да нет, просто почти два года тут в институте проучился. А так – с Куранска.
− Да? Считай, земляки. А я с Тамбова. Ну давай, шагай, а то тебя уже старшина заждался.
Потом в сопровождении прапорщика Иван отправился в баню, где после десятиминутной помывки ему выдали милицейскую «пэпээску», а вдобавок к ней новенькие «берцы» − высокие ботинки на шнурках, и через полчаса он уже маршировал в общем строю.
Время, что оставалось до присяги, занял учебный сбор, который в части почему-то называли «карантином». Новобранцы усиленно зубрили главную военную клятву и до седьмого пота упражнялись в строевой. А уж затем – кто призвался пораньше, отправились по ротам, а прочие, в том числе и Иван, остались на КМБ еще недели на две, доучиваться.
Но сначала была присяга. О ее точной дате Шаховцев узнал в первый же день и тут же накатал об этом письмо матери, а кроме того – еще Владу Короткову и Жанне.
Вообще-то он не рассчитывал, что возлюбленная придет – накануне они рассорились вдрызг. Причем все это началось не когда-нибудь, а с того дня, когда он, после внушений крестного, чуть ли не с гордостью заявил своей пассии: так и так, мол, иду служить! На что та вытаращила глаза со словами: «Ты что, совсем чокнулся?» А дальше была долгая перепалка: подруга пыталась убедить его, что в армию нынче идут одни лохи и отщепенцы, а любой мало-мальски уважающий себя человек сделает все, чтобы отвертеться. Кончилось это тем, что она впервые не осталась ночевать у него в общежитии, а укатила к себе, в Подольск. А за день до призыва вообще заявила, что жених просто-напросто подло бросает ее на произвол судьбы. Помнится, Иван тогда подумал: надо же, у него в Куранске до сих пор девки на парней, кто не служил, косо смотрят, а тут, в столице, выходит, все наоборот!
И все же, на удивление, Жанка соизволила явиться на присягу вместе с Владом и его женой Ленкой. Естественно, приехала и мать. И если друзья-однокурсники сочли, что Шаховцеву повезло (как же, в Москве оставили!), то Ольга Григорьевна тяжко вздохнула: «Ну вот, будешь два года всякую пьянь подбирать, да еще, не дай Бог, кто-нибудь из них тебя ножом пырнет!»
С похожим выражением смотрела на Ивана и подруга. Но если во взгляде матери было больше тревоги, то в глазах Жанки явственно читалось презрение и разочарование. А когда новоиспеченного солдата отпустили в увольнение и в общежитии их намеренно оставили в комнате вдвоем, то она сходу отвергла приставания возлюбленного, сославшись на нездоровье.
Всем этим, возвратясь в часть, он поделился с Пригариным.
− Ну и хрен с ней! Забей ты на нее, − выслушав печальный рассказ приятеля, успокаивающе махнул рукой Ромка. – Тоже мне ценность нашлась! Откуда она, говоришь, с Подольска? И небось в какой-нибудь зачуханной «двушке» с родоками живет?
− Ага. С матерью и еще с сестрой.
−Так нашел о ком заморачиваться! Найдешь себе в сто раз лучше, из Москвы, с хатой отдельной! Знаешь, сколько тут классных телок? У меня брательника друг сюда в институт поступил и через год женился на бабе с полным комплектом: дача, квартира на Таганке, к тому же ее папаня не кто-нибудь, а зам префекта в районной управе! Пацан тот теперь как сыр в масле катается! А ты что, хуже?
Все последующие дни Пригарин старался быть рядом, подбадривал, как мог, утешал – и горечь обиды на Жанку нет-нет да и отступала. Но через неделю Ромку услали на полгода в сержантскую «учебку», и Иваном вновь овладела тоска.
Хотя грустить времени было мало. Оставшееся время перед распределением новобранцев по ротам их гоняли до седьмого пота, так что к концу дня сил оставалось лишь добрести до койки и тут же провалиться в сон до самой побудки.
То же самое продолжилось и после «карантина», когда бойцов распределили по ротам. Только там, кроме сержантов и офицеров, постигать мудреную ратно-милицейскую науку помогали еще и старослужащие, которым поручали опекать того или иного из новобранцев.
Шаховцеву достался вечно сосредоточенный двадцатишестилетний ефрейтор Головчак, которого даже приятели-солдаты величали не иначе, как по имени-отчеству. Да-да, так и говорили: «Ну что, Егор Иваныч, курить идешь?» Называли его так вроде бы в шутку, но с ощутимым уважением в голосе. До призыва он успел окончить у себя в Омске высшую школу милиции и два года проработать в угрозыске. За неполный год службы в роте Головчак сумел повязать несколько десятков серьезных злодеев, несколько из которых числились во всероссийском розыске, и двое из них имели при себе «волыны». А кроме того, как минимум раз в две недели он умудрялся брать с поличным то воришку, то грабителя.
У напарника на них было чутье. Так, однажды, когда они с Иваном наматывали километры на маршруте, Головчак вдруг замедлил шаг, уставившись на спешащую навстречу девушку. Барышня была совершенно приличного вида, и Шах сперва подумал, что старший наряда попросту положил на нее глаз. Но когда они остановили ее и потребовали документы, девица заметно занервничала, и Егор тут же дал знак подопечному вызывать по рации патрульную машину. А уже в отделении, при досмотре, под шубкой задержанной обнаружилась пара дорогих итальянских босоножек, которые она десять минут назад умыкнула из магазина.
− Как же ты ее вычислил? – после недоуменно спросил у наставника Шаховцев.
− Нервничала она слишком. Так обычно себя и ведут начинающие воровки в первые минуты после кражи…
За те полгода, которые Шаховцев проходил в паре с Егором, тот хорошенько натаскал подопечного, и к концу осени Иван в службе нисколечко не уступал, а кое-где и мог дать фору на «пэпээсе»3 самым матерым «дедам». Понятное дело, он не умел взять с поличным того же карманника, но почти на раз вычислял его в толпе – и тот, заметив интерес к себе со стороны стража порядка, мгновенно ретировался, так никого и не обчистив. Научился он распознавать и наркоманов, причем не просто, а определять, имеют они при себе тянущую на статью «дозу» или нет. Сходу узнавал и уличных грабителей, из числа тех же самых «торчков», которые в состоянии ломки любили выхватывать у зазевавшихся горожанок сумочки. Как правило, если такой злодей выбирал себе жертву, то все его внимание сосредоточивалось исключительно на ней, и оставалось лишь дождаться, пока он вырвет ридикюль, а потом ринуться ему наперерез и заломать.
Стоит ли говорить, что через несколько месяцев фотография Шаховцева прочно обосновалась на стенде полка под названием «Передовики службы», по соседству с портретами начальника штаба, командира первой роты и, само собой, родного учителя и наставника – ефрейтора Головчака.
Но спустя полгода, когда тому подошло время увольняться в запас, Егора, как отличника, демобилизовали в числе первых, и Шаховцева начали ставить в пару то к одному, то к другому бойцу. Вот и в тот проклятый декабрьский вечер старшим наряда с Иваном заступил один из самых противных «дедов», вертлявый, нечистый на руку Киреев, которого не любили даже сами старослужащие, презрительно называя его Крысой.
Как и других нерадивых бойцов, Киреева демобилизовывали в самую крайнюю очередь, почти под Новый год. И надо же было такому случиться, что в последнее дежурство его назначили в пару к Шаховцеву. Дурное предчувствие возникло сразу, как только Шах узнал, с кем он заступает. Лишь только после инструктажа в отделении они отправились на маршрут, напарник тут же стал высматривать среди прохожих выпивших. Причем не абы кого, а из тех, кто был одет поприличнее. Подобным промышляли некоторые из патрульных: тормознут такого – и начинают тонко намекать, мол, либо забираем тебя, либо заплатишь нам и расходимся по-хорошему.
Вот и тогда, поздним вечером, Крыса нашел-таки свою жертву. Вначале к тротуару подрулил черный «мерседес», из задней двери которого вылез высоченный тучный мужик в дорогущем кожаном пальто и нетвердой походкой потопал за здание универсама.
− Стопудово отлить пошел! Ну все, я не я буду, если с этого бобра не слуплю сотку баксов! – азартно произнес Киреев и двинулся за кожаным. Эх, зачем тогда он, Шаховцев, поперся следом?! Не пойди он – может, и обошлось бы все…