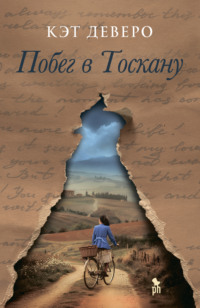Kitobni o'qish: «Побег в Тоскану»
У меня, ваше великолепие, нет ни коней, ни златотканых одежд, ни роскошных украшений, ни оружия. Все это будет в книге, которую вы держите в руках
Kat Devereaux
Escape to Tuscany
Copyright © 2023 by Kat Devereaux
Книга издана при содействии P. & R. Permissions & Rights Limited
© Елена Тепляшина, перевод, 2024
© «Фантом Пресс», издание, 2024
1
Тори
Церковь Святой Гиты,
Кэнонфорд, Соединенное Королевство
Февраль 2019 года
– Ибо я верю: ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни власти, ни настоящее, ни грядущее, ни могущество, ни высота, ни глубина и ни прочие твари не в силах отлучить нас от любви Божией, которая есть Господь наш Иисус Христос.
Голос викария звонко отдается под сводами почти пустой церкви. Викарий – приятная женщина средних лет с розовыми, как сахарная вата, волосами, акцент выдает в ней уроженку одного из юго-западных графств. Она сразу представилась нам как Энджи. Она мне страшно нравится.
– Маргарет приехала в нашу деревню двадцать пять лет назад, после смерти своего любимого мужа Хьюго, – продолжает викарий. – Ее достоинство, ее сострадание, ее христианская вера и острое чувство справедливости внушали любовь всем, кто был с ней знаком. Сегодня мы вместе с ближайшими родственниками Маргарет собрались на частную службу, чтобы воздать должное ее жизни и вверить ее душу Господу. Давайте помолимся.
Мать – она сидит рядом со мной – складывает руки в черных перчатках на обтянутых черным коленях. Прямая как палка, она излучает неприязнь ко всему, что ее окружает: к каменным стенам приземистой церкви, к разноцветным викторианским витражам, к хоругвям с нашитыми на них белыми пухлыми голубями и кривыми крестами. Могу вообразить себе, что она думает про волосы Энджи. В который уже раз я поражаюсь, как бабушка с дедушкой, чье зыбкое и нежное присутствие я сейчас ощущаю (замахрившаяся шерсть, трубочный табак…), умудрились вырастить такую поразительную конформистку.
За спиной у меня раздаются приглушенные голоса, я оборачиваюсь и вижу кучку женщин, притулившихся в дальнем конце церкви у доски объявлений. Я узнаю кое-кого из бабушкиных подруг по местному Женскому клубу. Улыбаюсь им, киваю, жестами приглашаю присесть, но мама пинает меня в лодыжку. Я, видите ли, нарушаю правила. На этой службе могут присутствовать лишь члены семьи, хотя папа умер, когда я была маленькой, дети Чарли, моей сестры, болеют чем-то очень заразным, а мой муж Дункан слишком занят, чтобы приехать, поэтому в церкви только мы с мамой. Получается, мы похороним мою замечательную, щедрую, любящую бабушку по-тихому, без пафоса. Это неправильно. Нечестно.
Энджи читает псалом – тот, где «Господь – пастырь мой». Я оглядываюсь через плечо и вижу, что старушки из Женского клуба сгрудились на задних скамьях, молитвенно склонив головы в шелковых платочках. В горле у меня встает ком, я зажимаю рот ладонью, но плач все же прорывается безобразным полузадушенным иканием.
Мать напрягается. На секунду ее рука в перчатке задерживается на моем локте, после чего она снова складывает руки на коленях и устремляет взгляд перед собой, прямая как палка.
* * *
Пока мама в раздражении шествует по церковной парковке к своему престарелому «ягуару», ко мне подходит Энджи.
– Тори, вы не спешите? Я успею вам кое-что сказать? Это недолго.
– Да, конечно, – отвечаю я. – Поезда мне еще ждать да ждать.
Она улыбается мне.
– Вот и хорошо. Тогда, если хотите, выпьем чаю и поговорим как следует. Я расскажу вам про бдение. Такая красивая была служба! Жаль, что вы не смогли приехать, но я не сомневаюсь – душой вы были с нами.
Я хлопаю глазами. О бдении я слышу впервые и не могу представить себе, чтобы мама это допустила. Что это, как не пафос?
– Бдение?
– Ночное бдение, последняя ночь, в часовне при похоронной конторе. Очень хорошие люди собрались. В основном, конечно, местные, но слухами земля полнится – друзья вашей бабушки приехали и из Лондона, и еще много откуда. Двое даже из Италии прилетели – у нее ведь и там были друзья, да? Она мне рассказывала, как вы с ней летали в Италию.
– Были, – говорю я. – Летали.
– Чудесные, наверное, были поездки. В любом случае, я понимаю, вам было слишком тяжело присутствовать на бдении. Просто подумала – вдруг вы захотите послушать. – Теперь она сама выглядит озадаченно. – Вы не в курсе, о чем я, да?
– Не в курсе, – отвечаю я.
– Хорошо, – говорит Энджи. – Хорошо. Да, правда, давайте лучше чаю выпьем. Я живу прямо через дорогу. Идемте.
Она берет меня под руку и ведет через крытые ворота кладбища, через узенькую улочку к симпатичному невысокому домику из серого известняка. Если честно, мне становится плоховато – я сама не своя. Мне кажется, что я сейчас по-настоящему расплачусь – впервые с того дня, как я узнала от Чарли, что бабушку отвезли в больницу. А потом Чарли позвонила еще раз – сказать, что бабушка умерла.
– Заходите. – Энджи открывает боковую дверь и ведет меня в уютную кухню, нежно-голубую с зеленым; на подоконнике выстроились кактусы, а перед большой чугунной печкой дремлет старая кошка.
Я сажусь за чисто выскобленный сосновый стол, передо мной тарелка печенья и глиняная кружка с пацифистским символом, а Энджи со своей кружкой садится напротив меня.
– Во-первых, – начинает она, – все, о чем мы здесь будем говорить, останется только между нами. Во-вторых, если вам надо поплакать – плачьте, не стесняйтесь. Я вам не судья. – Она кивает на коробку бумажных платков возле моего локтя. – И ругаться можете сколько хотите, меня это не смутит. Меня ничто не смутит. Договорились?
Какой у нее серьезный вид. Серьезный и даже обеспокоенный. У меня появляется предчувствие – поганое, тревожное предчувствие, я нутром чую, что она собирается сказать.
– Договорились.
– Хорошо. Итак, бдение. Вам действительно о нем не сказали?
– Не сказали. И я, если честно, не знаю толком, что это такое.
– Понимаю. В англиканской церкви эта практика не слишком распространена, но в нашем приходе есть обычай устраивать ночное бдение над телом умершего накануне похорон – это вроде поминок в католической традиции. Мы устраиваем его в честь тех, кто много значил для нашей церковной общины. Предполагалось, что на похоронах будут только члены семьи, так что… для нас это была возможность проститься с Маргарет, тем более что она умерла так неожиданно. Мы спросили у вашей матери, можем ли мы устроить бдение над телом Маргарет, и она дала согласие.
– Как так?
Мама считает англиканскую церковь недостойной. Не понимаю, как она могла дать добро на что-то, что хоть немного отдает католицизмом.
– Ну, не сразу, – признается Энджи. – По-моему, она беспокоилась, что такая служба – это лишний труд и нервы, а вам сейчас и так тяжело. Конечно, я ее полностью понимаю, но мы собирались все организовать сами, ей не пришлось бы ничем заниматься, даже присутствовать было необязательно. И когда я ей все это объяснила, она согласилась. Естественно, мы хотели первым делом пригласить вас. Для меня не секрет, что вы нечасто бываете в церкви…
– Увы.
– Да нет, все нормально. Но я знаю, что у вас с Маргарет были особые отношения. Ваша бабушка постоянно говорила о вас. Моя мама умерла от инсульта, и мне известно, какое это страшное потрясение, как больно, когда даже проститься не можешь. Поэтому я позвонила вам.
Я ставлю кружку на стол.
– Позвонили?
– Да. На мобильный не дозвонилась, даже гудка не было. Наверное, связь там, в горах, неважная.
– Ага, – говорю я, – у нас в доме сигнал плохо ловится.
– Понятно. – Энджи кивает. – В общем, я позвонила на домашний телефон, и трубку снял ваш муж. Дункан, правильно? Я рассказала ему о бдении. Он ответил, что уверен – вы захотите приехать. Сказал, что спросит у вас и перезвонит мне. И перезвонил, через полчаса. По его словам, он все вам передал, но у вас нет сил ехать. Утрата бабушки для вас ужасное потрясение, от которого вы еще не оправились. Ваш муж говорил очень убедительно. – Энджи кривит губы. – Говорил так, что я и на похоронах не ожидала вас увидеть.
Поначалу я не знаю, как отвечать. Я думаю только о том, как ругалась с Дунканом, чтобы он вообще отпустил меня на похороны. Дункан говорил, что похороны устраивают для живых, что мое присутствие бабушку не вернет. Говорил, что цены на железнодорожные билеты грабительские, что самолет – это для лохов, что номер в гостинице – это роскошь, которой мы не можем себе позволить. Говорил, что в хозяйстве без меня никак и что рваться на похороны – чистый эгоизм с моей стороны. Говорил, что я только разозлюсь на свою мать, а злость буду вымещать на нем, когда вернусь. Говорил, что я не вывезу. Не вывезу.
– Тори? – напоминает о себе Энджи.
Уставившись на нее, я говорю:
– Какой же мудак. Полнейший мудак.
* * *
Энджи не говорит мне, что делать. И не говорит, как поступил бы Христос. Она просто слушает, как я матерюсь, плачу и пытаюсь собраться с мыслями, подавая мне еще чаю, печенья и, наконец, солидную порцию виски из бутылки, которую она держит у себя в кабинете. И только когда Энджи уже везет меня на станцию на своем дряхлом «рендж-ровере», она наконец говорит:
– Тори, если вам когда-нибудь понадобится угол, то у меня в доме есть комната, в которой вы можете оставаться сколько вам нужно. Хорошо?
– Хорошо, – киваю я. – Спасибо вам за доброту.
– Не за что. Ну вот, мы на месте. – Она тормозит у станции. Здание живописно, как и все в этой деревушке, идеально побеленное, с фиолетовыми цикламенами в горшках. – И еще, пока вы не ушли… Я собиралась отдать вам это раньше, но мы отвлеклись на более насущные темы.
Порывшись в сумочке, Энджи протягивает мне конверт из плотной кремовой бумаги. На конверте бабушкиным безупречным каллиграфическим почерком написано: «Виктории».
Какое-то время я держу конверт в руках и просто смотрю на него. Последняя весточка от бабушки.
– Это… – Мне надо откашляться. – Она написала это в больнице?
– Нет. Маргарет отдала мне этот конверт в прошлом году, когда переписывала завещание. Она сказала… – Энджи издает придушенный смешок. – Знаете, я тогда не очень ее поняла. Ваша бабушка беспокоилась, что если заболеет, то перед смертью не успеет проститься с вами. Не с вашей сестрой, не с вашей матерью – именно с вами. Помню, я тогда решила, что она суетится, как люди суетятся, когда думают о смерти. Им надо сосредоточиться на чем-то, чтобы избавиться от настоящего страха. – Энджи качает головой. – Но теперь… Понимаете, Маргарет никогда не говорила о вашем муже, то есть не говорила о нем ничего плохого. Но я вот думаю, не раскусила ли она его.
Теперь смеюсь я – икая, сквозь слезы.
– Не исключено, – соглашаюсь я, вытирая глаза. – Меня бы это не удивило. Бабушкин дерьмометр всегда был лучше моего. Сколько раз она видела Дункана? По пальцам одной руки пересчитать. Но не исключено…
Я осекаюсь. Мне вдруг приходит в голову, что бабушка с Дунканом встречались очень редко, мне то и дело приходилось разрываться между ними. Сколько поездок на юг мне пришлось отменить, потому что на ферме в последний момент что-то стряслось? Сколько раз мне приходилось прерывать телефонный разговор с бабушкой, потому что Дункану что-то понадобилось?
– Наверное, вам нужно многое обдумать, – мягко произносит Энджи. – Если хотите о чем-то поговорить…
Слышится отчужденный, жестяной голос диктора; подняв глаза, я вижу, что поезд – мой поезд – уже подтягивается к перрону.
– Боже мой, – спохватываюсь я, – мне пора. Еще раз большое спасибо.
Я испытываю смешанные чувства – паники и облегчения. Подавшись к Энджи, я быстро обнимаю ее, после чего выбираюсь из машины и хватаю с заднего сиденья свою сумку.
– Не за что! – кричит она, когда я бросаюсь ко входу. – Приезжайте в любое время!
В вагон я вбегаю вовремя. Плюхаюсь на сиденье, пристраиваю сумку в ногах и смотрю на конверт, не зная, как поступить. Страшно хочется узнать, что там внутри. Но стоит мне распечатать конверт, стоит прочитать все, что бабушка хотела мне передать, – и я не смогу пережить этот момент откровения снова. Все слова будут уже сказаны.
Когда поезд приближается к бристольскому вокзалу Темпл Мидз, любопытство побеждает. Я разрываю конверт. Внутри один-единственный листок.
Милая Тори,
Возможно, мы с тобой больше не увидимся, поэтому хочу сказать, что я оставила вам с сестрой по 30 000 фунтов. Можешь использовать их на любые цели, как тебе угодно. Мое единственное условие – не тратить их больше ни на кого. Это деньги для тебя и только для тебя. Как ты ими распорядишься – не мне решать.
Но будь это в моей воле, моя дорогая Тори, я сказала бы тебе: поезжай во Флоренцию. У меня остались о ней такие дивные воспоминания! Мои флорентийские воспоминания прекрасны. Конечно, они о тебе, но я помню и себя – молодую женщину, свободную, имевшую средства, чтобы жить так, как хочется. Я не могу дать тебе этой свободы, хотя я часто жалею, что ты не взяла ее сама. Возможно, я смогу дать тебе средства.
С любовью,Nonna1
2
Стелла
Ромитуццо,
Тоскана, Италия
Февраль 1944 года
Моя подруга Берта Галлури была героиней Сопротивления. Если бы она осталась в живых, то наверняка вошла бы в число великих женщин двадцатого столетия, интеллектуалок и борцов вроде Лидии Менапаче, Ады Гобетти, Тины Ансельми, Карлы Каппони, Россаны Россанды2. Если бы только она осталась в живых.
В сентябре 1943 года, когда пришли нацисты, Берте было девятнадцать. Одаренная девушка из семьи антифашистов, дочь нашего местного аптекаря, она изучала литературу во Флорентийском университете. В тот день, когда, открыв ставни, она увидела, как по виа Романа марширует колонна немецких солдат, она тут же решила уехать домой в Ромитуццо. Не как связная вроде меня, не как боец вроде ее брата Давиде – хотя женщины тоже сражались с оружием в руках, и их было больше, чем вы думаете, – а как организатор.
Берта была прирожденным организатором. Через несколько недель после ее возвращения в нашем городке уже работала и ширилась сеть из девушек и женщин, которые передавали сообщения, тайком проносили нелегальную литературу и фальшивые документы, доставляли все необходимое партизанским отрядам, собиравшимся в горах к югу от Флоренции. Среди наших партизан были старые и молодые, коммунисты и социалисты, монархисты и либералы, католики, троцкисты и анархисты. Одни впервые взяли в руки оружие, другие уже успели послужить в армии или полиции. И если все эти столь разные люди готовы были сплотиться для борьбы, следовало помогать им во всем.
Берта отлично это понимала. Женщины из ее сети не принадлежали ни к какой партии, не поддерживали никакой лагерь. Мы просто в нужное время отправлялись туда, где нас ждали, мы работали для всех, кто в нас нуждался, и никогда не увиливали. Это и было мое Сопротивление: повседневная рутина, состоявшая из записок на папиросной бумаге и пистолетов в хозяйственных сумках, из вылазок вокруг школы, церкви и дома. И если я не могу рассказать вам ничего примечательного, то лишь потому, что мое Сопротивление было неприметным, тихим, необходимым. Но оно тоже было опасным.
Вечером пятнадцатого февраля сорок четвертого года Берта Галлури возвращалась из Флоренции – она ездила туда за экземплярами подпольного бюллетеня «Рабочая борьба»3, которые собиралась распространить в Ромитуццо. Бюллетень она, как обычно, зашила в подкладку сумочки. Когда она сошла с поезда, ее остановил немецкий солдат, проверил у нее документы и заглянул в сумку. Обычная проверка, Берте не раз случалось проходить такие, но на этот раз солдат попался остроглазый. Может, расползлась старая изношенная подкладка, много раз распоротая и снова зашитая, а может, черная типографская краска мелькнула через прореху в шелке. Солдат забрал у Берты сумочку, разодрал подкладку и нашел спрятанное.
Сладить с Бертой оказалось непросто – так рассказывают те, кто там был. Когда немцы запихивали ее в грузовик, она дралась, как кошка, визжала и царапалась. На рассвете следующего дня ее изуродованное, поруганное тело подкинули к дверям отцовской аптеки на пьяцца Гарибальди, в центре города, в назидание тем, кто отважится сопротивляться.
Моя подруга Берта Галлури была сильной женщиной – вы и представить себе не можете, насколько сильной. Она умерла, не выдав ни единого имени. Я знаю об этом, потому что наша небольшая сеть продолжила существовать. Я знаю это, потому что немцы не пришли за мной.
* * *
Тем утром я, слава богу, не видела тела несчастной Берты. Я даже не знала, что ее схватили. Я собралась в школу, но когда спустилась, чтобы приготовить себе завтрак, то увидела, что отец сидит за кухонным столом, закрыв лицо руками, и поняла: что-то стряслось.
– Папа, что случилось? – спросила я. – Почему ты не в гараже?
Отец поднял голову. Он был крупный, импозантный мужчина, чем-то похожий на Пеппоне из «Дона Камилло», но в тот день он казался изможденным и старым.
– Акилле ушел открывать гараж, – сказал он каким-то не своим голосом. – Мама дома, она прилегла.
Если мать все еще в постели, значит, наверняка стряслось что-то серьезное. Я села рядом с отцом и стала смотреть, как он трет ладонью лицо. Я, честно сказать, не знала, что делать, да и отец вряд ли знал. Наконец я положила руку ему на запястье, и он ненадолго стиснул мою ладонь своими грубыми пальцами. А потом вынул из кармана чистую тряпку и прижал к глазам.
– Стелла, обещай, что не станешь связываться с партизанами. Мы и так тревожимся за твоего брата, хватит с нас. Дай честное слово.
– Даю тебе честное слово, что не стану связываться с партизанами, – сказала я. И формально даже не соврала, потому что я уже с ними связалась. К тому времени я состояла в сети Берты уже несколько месяцев.
– Хорошо. – Несколько минут мне казалось, что отец хочет что-то прибавить и как будто ищет слова, но он откашлялся и повторил: – Хорошо.
Отец встал и подошел к печи – слегка прихрамывая, как всегда по утрам. Мать рассказывала, что он как-то отказался ремонтировать машину вожака местных фашистов, дело было еще в двадцатые. Фашист и его прихвостни раздробили ему обе коленные чашечки. Отец никогда об этом не вспоминал – во всяком случае, при мне.
– Я сварю кофе, – предложила я. – До школы еще есть время.
Но он уже насыпал в кофейник гадость – порошок цикория.
– Я сам сварю. А в школу ты не пойдешь.
Вот теперь я встревожилась по-настоящему. Отец никогда ничего для меня не готовил, а школу он мне разрешал пропускать, только если я тяжело болела. Сегодня мне надо было в школу позарез – предполагалось, что по дороге я кое-кому кое-что передам. Я часто выполняла задания именно таким манером. Я была способная, хотела стать учительницей, и родители разрешили мне учиться дальше, хотя ближайшая школа, где имелись старшие классы, находилась в Кастельмедичи, а это двадцать минут езды на флорентийском поезде. А так как я была маленькая, не особо красивая, выглядела моложе своих четырнадцати лет и ездила одним и тем же поездом в одно и то же время шесть дней в неделю, то я могла тайком доставлять всякие нужные вещи, не возбуждая подозрений ни у фашистов, ни у немцев. Или у родителей, если уж на то пошло.
– Папа, в чем дело? Скажи! Пожалуйста, скажи. Мама заболела? Да?
Отец покачал головой, не отрывая взгляда от кофейника, который уже начал шипеть и булькать. Теперь-то я знаю: он боролся с собой, не зная, рассказать ли мне то, что он слышал, – а может быть, и видел – или утаить от меня правду, оставив меня в блаженном неведении. Наконец отец сказал:
– На станции немцы. Больше, чем всегда. Они проверяют всех.
– Ну и что? – сказала я, хотя сердце у меня отчаянно заколотилось. – Мне прятать нечего.
– И все-таки мне это не нравится, – мрачно ответил отец. – Я тебя туда одну не отпущу.
– Пусть Акилле меня проводит. Или Энцо. Ну, папа! Мне надо сдать сочинение по латыни, очень важное. Я столько над ним просидела! Ну пожалуйста.
Отец проворчал что-то себе под нос, налил чашку цикория и поставил ее передо мной, положив рядом кусок хлеба.
– Если тебе так уж надо, пусть Энцо тебя проводит, – согласился он. – Он сегодня в гараже.
Я постаралась скрыть облегчение. Энцо, друг моего брата Акилле, помогал в гараже, когда там требовались лишние руки. Оба были убежденными коммунистами, хотя Энцо, в отличие от Акилле, хватало ума не распространяться моему отцу о своей подпольной работе. Папа считал, что Энцо оказывает на нас положительное влияние. Я считала, что он просто замечательный, а главное – я знала, что ему известно о задании, которое мне поручили. Насколько проще, насколько легче ему будет передать мне все, что я должна доставить по адресу, когда мы окажемся в каком-нибудь тихом месте подальше от гаража, подальше от недреманного ока моего отца.
– Он посадит меня на поезд, а когда я вернусь, то встретит, вот и волноваться не о чем, – продолжала я. – Ну правда, папа, ничего со мной не случится. Вот увидишь.
Я понимала, что веду себя на грани наглости. Я и так нажала на отца куда сильнее, чем он обычно позволял, но он, кажется, этого не заметил.
– Ну пожалуйста, – повторила я.
Отец надолго задумался, а потом кивнул – всего один раз.
– Ладно. Доедай, а я схожу через дорогу, скажу Энцо, чтобы приготовился.
Он вышел, прежде чем я успела его поблагодарить, – сунув руки в карманы брюк, подавленный.
Утро было холодное и мглистое, Энцо ждал меня у ворот. Он выглядел серьезным, но я не придала этому значения, потому что Энцо всегда выглядел серьезным. Его отец погиб в аварии еще до войны, а недавно Энцо потерял и мать – случайная бомба угодила в завод возле Кастельмедичи, на котором она работала. Родители Энцо перебрались в Ромитуццо вскоре после свадьбы, и родственников у них здесь не было. Поэтому его приютили Фрати, жившие на соседней улице, на самой окраине города. Для него было вполне естественно поселиться у них, он и так уже, считай, был членом семьи. Сандро Фрати, Акилле и Энцо сбились в компанию в первый же школьный день, и вот им уже по пятнадцать – а они все еще лучшие друзья.
– Ciao, Стеллина. – Энцо поцеловал меня в обе щеки. Поцелуя невиннее и представить себе нельзя, но я до сих пор помню, как он меня взбудоражил. – Пошли, доставим тебя на станцию.
– И убедись, что она села на поезд, – раздался голос Акилле. Брат стоял во дворе перед гаражом: замасленный комбинезон, кепка на черных кудрях, шея обмотана толстым шерстяным шарфом. – А то оставишь ее там, а сам сдриснешь.
– Ma dai!4 – Энцо закатил глаза.
Мы зашагали по дороге, ведущей на станцию. Убедившись, что из гаража нас больше не видно, Энцо, по-прежнему серьезный, потащил меня в узкий переулок и обнял за плечи. На мгновение мне показалось, что он сейчас поцелует меня по-настоящему.
– Как ты, Стеллина? – тихо спросил он. – Если ты думаешь, что сегодня не справишься, я как-нибудь отпрошусь у твоего отца и съезжу за тебя.
– Конечно, справлюсь! – воскликнула я, обиженная и не на шутку разочарованная. – Думаешь, я сдрейфила из-за каких-то немцев?
– Нет-нет. Просто после того, что случилось… – Он нахмурился. – Ты что, не знаешь?
– Что? Что я должна знать? Сегодня все какие-то странные! Не понимаю, в чем дело.
И Энцо, взяв мои ладони в свои, простыми и страшными словами рассказал мне, что случилось с Бертой. Потом я плакала, а он обнимал меня.
* * *
На вокзальной площади – тогда она называлась пьяцца Буррези – народу было больше, чем обычно. Знал папа про немцев или нет, но он, вольно или невольно, сказал правду. Площадь была оцеплена бронированными машинами, солдаты останавливали всех, кто шел на станцию, и проверяли документы. Я поняла, какой опасности Энцо подвергается из-за меня – молодой рабочий в глазах немцев всегда подозрительнее, чем девочка в школьной форме. Они могли подумать, что он партизан, и не ошиблись бы, или что он уклонист, хотя он им не был, потому что еще не достиг призывного возраста.
– Тебе необязательно идти со мной, – сказала я по возможности беззаботно. Везде немцы, и лучше, чтобы страха в голосе не было. – Дальше я могу сама.
– Не говори ерунды. Я хочу тебя проводить. – Голос Энцо тоже звучал беспечно, но рука, обнимавшая меня за плечи, напряглась.
Мы, однако, не вызвали у солдат особого интереса. Они вскользь взглянули на пропуск Энцо, а от моего и вовсе отмахнулись. Энцо вместе со мной дождался поезда и легонько поцеловал меня в губы.
– Удачи, Стеллина. Возвращайся, я тебя встречу.
С пылающими щеками я вошла в вагон, протолкалась через толпу пассажиров и исхитрилась наконец втиснуться в угол, зажав ранец между бедром и стеной. В ранце лежали учебники, тетради и комедия Макиавелли «Мандрагора» в бумажной обложке, которую дал мне Энцо. Она могла содержать шифрованное сообщение, написанное, например, уксусом или еще какими-нибудь невидимыми чернилами. А может, в страницах книги было прорезано углубление. Я не открывала книжку и уж тем более не спрашивала о подробностях. Чем больше я знала, тем большей опасности подвергла бы товарищей, если бы меня схватили. Знать как можно меньше было моей обязанностью.
В Кастельмедичи меня ждала обычная дорога в школу, но сегодня мне следовало задержаться у ворот городского сада и перебросить ранец с правого плеча на левое. По этому знаку меня должен был узнать связной. Я уже привыкла к таким заданиям, но мне все же больше нравилось просто шагать в школу, не твердя про себя очередной пароль в надежде, что ко мне подойдет нужный человек.
Поезд сегодня шел еще медленнее обычного, то и дело останавливаясь и трогаясь снова. Мне было жарко и неуютно – не только из-за духоты в вагоне, но и от страха, что я не узнаю своего связного и не сумею передать книгу.
– Наверняка коммунисты опять подорвали рельсы, – довольно громко произнесла дама в шубе и огляделась, словно ища поддержки. – А результат один: нам, всем остальным, просто жить станет еще труднее. – Однако в ответ последовало отрадное молчание, а кое-кто из пассажиров покачал головой.
Наконец поезд дернулся и снова остановился. Вот и Кастельмедичи. Теперь надо протолкаться к дверям – вряд ли еще кто-нибудь здесь выходит. С этой задачей я справилась, а когда вышла на утренний холод, то обнаружила, что уже опоздала в школу на десять минут. Хотелось припустить бегом, но я заставила себя идти медленно, уверенно глядя вперед, словно день сегодня самый обычный. Немцев в Кастельмедичи оказалось меньше, чем в Ромитуццо, – я никогда не могла разобраться в этих закономерностях – и мне удалось пройти мимо кучки солдат, усердно изучавших документы какого-то старичка, и выйти на площадь. Я ускорила шаг и, обдумывая задание, едва не прошла мимо ворот сада. Однако вовремя спохватилась и, притворившись, что мне неудобно, остановилась на мгновение – ровно настолько, чтобы успеть перекинуть тяжелый ранец с плеча на плечо. Потом я пошла дальше, потому что главным в этих «свиданиях на бегу», как мы их называли, было не выглядеть так, будто ты кого-то ждешь.
– Мимма! – окликнул меня женский голос, веселый и беспечный. «Мимма» – моя конспиративная кличка. – Мимма, подожди!
Я немного замедлила шаг, и меня нагнала какая-то женщина, катившая велосипед, в корзинке которого сидел довольный малыш. Одета она была в поношенное пальто, на голове платок. На вид обычная молодая мать, которая выскочила по делам.
– Хорошо, что я тебя увидела. – Женщина улыбалась мне, как давней подруге. Ребенок, послушный, тоже улыбнулся. – Ты, наверное, в школу? Мы с Тонино составим тебе компанию, если ты не против. Поболтать хочется.
Ее взгляд был сосредоточен на мне, она держалась уверенно и весело. Я взглянула через ее плечо: за нами, на углу, что-то увлеченно обсуждали двое жандармов в черных фуражках, до них было не так уж далеко. Фашисты, члены Национальной республиканской гвардии Муссолини, чья задача – выискивать и уничтожать тех, кто помогает партизанам.
– Конечно, – согласилась я. – Давай пройдемся.
И мы пошли дальше. Женщина щебетала о людях и местах, о которых я не имела ни малейшего понятия. Кажется, она просто сочиняла на ходу. Вместе мы прошли пару кварталов – фашисты, слава богу, не двинулись с места, нас никто не преследовал. Наконец женщина изобразила сожаление, быстро обняла меня и сказала, что ей нужно идти.
– Вот хорошо, что удалось перекинуться словечком, – сказала я. – Да, чуть не забыла! Спасибо, что дала почитать.
Я достала из ранца «Мандрагору» и вручила женщине; та сунула книгу в корзинку, к Тонино, сказала «Чао, Мимма!», села на велосипед и, помахав мне, укатила. Я помахала ей в ответ и заторопилась в школу.
* * *
Когда я вернулась в Ромитуццо, Энцо ждал меня на платформе, как и обещал. Все время, пока я сидела на уроках, известие о смерти Берты не шло у меня из головы, и мне захотелось рухнуть Энцо на грудь, но я сдержалась. Мы прошли мимо немцев, которые в этот раз на нас даже не взглянули, и зашагали к дому.
– Как в школе? – спросил Энцо, когда мы благополучно покинули пьяцца Буррези.
– А ты как думаешь?
Энцо рассмеялся. Конечно, он все понимал. Знал, как мне тошно целыми днями притворяться послушной девочкой и правильной фашисткой.
– Ты же могла покончить со школой еще прошлым летом5, – напомнил он.
Я вздохнула:
– Знаю. Но тогда я не смогла бы поступить учиться на учительницу, так что…
Энцо взял меня за руку.
– Просто представь себе, Стеллина, – тихо сказал он. – Просто представь себе, как в один прекрасный день ты будешь вести урок.
Удивительное дело. Мне было страшно и грустно, повсюду опасность, и все же как это чудесно – коснуться его кожи! Наверное, это и есть молодость.
– Акилле на работе, – сказал Энцо. – Его позвали чинить сломанный велосипед.
– Где? В Санта-Марте?
Санта-Мартой мы на нашем тайном языке называли старый хутор высоко в горах, там обосновалась независимая коммунистическая бригада, к которой принадлежали Энцо и Акилле. Оба были связными, но Акилле заодно исполнял и обязанности механика, ремонтируя велосипеды и мотоциклы и добывая где мог бензин и запчасти.
Энцо покачал головой:
– Нет. В Сант-Аппиано.
Сант-Аппиано, горная деревушка к северу от Ромитуццо, располагалась по дороге во Флоренцию. Я знала, что там действует небольшая партизанская ячейка – но не коммунисты, а монархисты.
– Значит, новые клиенты, – сказала я, стараясь говорить беспечно. – Как они узнали об Акилле?
Энцо состроил рожу.
– Слухами земля полнится.
Мы повернули на нашу улицу, и я вынула свою ладонь из ладони Энцо. Отец ждал во дворе, скрестив руки на груди. При нашем появлении он кивнул.
– Пока, – тихо сказал Энцо и поспешил через дорогу к гаражу.
Мать была там, где я и ожидала, – в задней комнате, служившей нам прачечной и кладовой. В этой комнатушке всегда стоял холод, но только оттуда матери была видна дорога, которая начиналась за нашими домами и уходила в горы. Акилле, чтобы не наткнуться на патруль, предпочитал возвращаться именно этой дорогой. Мать сидела у окна, закутанная в старое одеяло, которое почти не грело, и перебирала в корзине носки для штопки. Она казалась такой маленькой и хрупкой, что мне тотчас стало ее жалко.
Бабушка (ит.).
[Закрыть]
Лидия Менапаче (1924–2020) – участница Сопротивления, сенатор от Партии коммунистического возрождения. Ада Гобетти (1902–1968) – журналистка, антифашистка. Тина Ансельми (1927–2016) – первая женщина-министр в истории Итальянской Республики. В годы Второй мировой войны связная партизанского отряда. Карла Каппони, «Маленькая англичанка» (1918–2000), – политик, в годы Второй мировой войны участница партизанского движения. Россана Россанда (1924–2020) – журналистка, участница Сопротивления, левый политик, деятельница феминистского движения. – Здесь и далее примеч. перев.
[Закрыть]
Еженедельный орган троцкистского Коммунистического союза.
[Закрыть]
Да ладно! (ит.)
[Закрыть]
В Италии обязательной являлась лишь младшая средняя школа, в которой учились до 14 лет.
[Закрыть]