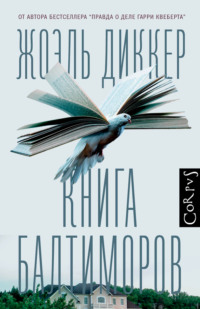Kitobni o'qish: «Книга Балтиморов»
© Éditions de Fallois, 2015
© И. Стаф, перевод на русский язык, 2017
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2017
© ООО “Издательство АСТ”, 2017
Издательство CORPUS ®
* * *
Его памяти
Пролог
воскресенье, 24 октября 2004 года
(за месяц до Драмы)
Завтра моего кузена Вуди посадят в тюрьму. Ближайшие пять лет своей жизни он проведет там.
По дороге из аэропорта Балтимора в Оук-Парк, где прошло мое детство и где мы с ним скоротаем последний его день на свободе, мне уже видится, как он входит в ворота внушительного исправительного заведения в Чешире, штат Коннектикут.
Весь день мы сидим в доме моего дяди Сола, где когда-то были так счастливы. С нами Гиллель и Александра, и на несколько часов мы вновь – великолепная четверка былых времен. В тот момент мне и в голову не приходит, что будет значить этот день в жизни каждого из нас.
Два дня спустя мне звонит дядя Сол.
– Маркус? Это дядя Сол.
– Здравствуй, дядя Сол. Как ты…
Он не дает мне договорить:
– Маркус, слушай меня внимательно. Немедленно приезжай в Балтимор. Не надо задавать вопросы. Случилось нечто серьезное.
В трубке гудки. Сперва я думаю, что разговор прервался, и сразу перезваниваю; он не отвечает. Звоню еще и еще, в конце концов он берет трубку и произносит только:
– Приезжай в Балтимор.
И снова гудки.
Если вам попадется эта книга, прочитайте ее, пожалуйста.
Я хочу, чтобы кто-нибудь знал историю Гольдманов-из-Балтимора.
Часть первая
Книга об утраченной юности
(1989–1997)
1
Я – писатель.
Так меня называют все. Друзья, родители, родственники и даже незнакомые люди; меня узнают в общественных местах и спрашивают: “Вы, случайно, не тот писатель, который?..” Я писатель, и этим все сказано.
Люди думают, что, раз вы писатель, значит, жизнь у вас безмятежная. На днях один мой друг жаловался, что ему далеко ездить на работу, и заявил: “Тебе-то что, ты утром встал, сел за стол и пиши себе. Вот и все”. Я промолчал; тяжко сознавать, насколько твой труд выглядит для всех полнейшим бездельем. Люди думают, что вы прохлаждаетесь, а вы пашете как проклятый, именно когда ничего не делаете.
Писать книгу – это как открыть летний лагерь. В вашу одинокую мирную жизнь вдруг без предупреждения врывается целая толпа шумных персонажей и переворачивает все вверх дном. Приезжают поутру, вываливаются из большого автобуса, возбужденно галдят, готовясь сыграть свои роли. И никуда вы не денетесь: придется о них заботиться, кормить их, расселять по комнатам. Вы в ответе за все. Ведь вы же писатель.
Эта история началась в феврале 2012 года; я собрался писать новый роман и уехал из Нью-Йорка в свой новый дом в Бока-Ратоне, во Флориде. Купил я его три месяца назад – продал права на экранизацию своей последней книги – и теперь отправился туда в первый раз, не считая коротких набегов в декабре и январе, когда завозили мебель. Дом был просторный, весь в панорамных окнах, и стоял у озера, вокруг которого любили гулять местные жители. В этом зеленом, очень тихом районе обитали в основном состоятельные пенсионеры, и я среди них выглядел белой вороной. Я был вдвое моложе, но место понравилось мне именно своим абсолютным покоем. Как раз такое мне и было нужно, чтобы писать.
В отличие от предыдущих кратких наездов, теперь я никуда не спешил и отправился во Флориду на машине. Путь в тысячу двести миль нисколько меня не пугал: в последние годы я часто катался из Нью-Йорка проведать дядю, Сола Гольдмана, который после Драмы, постигшей его семью, поселился в пригороде Майами. Дорогу я знал как свои пять пальцев.
Выехав из запорошенного снегом Нью-Йорка, где термометр показывал минус десять, я через два дня очутился в теплых зимних тропиках Бока-Ратона. Когда вдоль залитого солнцем шоссе замелькали привычные пальмы, я невольно вспомнил дядю Сола. Мне его страшно не хватало. Осознал я это, когда чуть не проскочил поворот на Бока-Ратон: мне хотелось ехать дальше, повидаться с ним в Майами. Мне даже подумалось, что в предыдущие разы я приезжал, наверно, не столько ради мебели, сколько затем, чтобы заново освоиться во Флориде. Без него она была совсем другой.
Моим ближайшим соседом в Бока-Ратоне оказался симпатичный семидесятилетний старичок, Леонард Горовиц, бывшее светило конституционного права в Гарварде; он проводил во Флориде каждую зиму и, чтобы чем-то себя занять после смерти жены, писал книгу, но никак не мог ее начать. Познакомились мы в тот день, когда я купил дом. Он явился ко мне с целой упаковкой пивных банок и поздравил с приездом; мы сразу нашли общий язык. С тех пор это вошло у него в привычку, он наведывался каждый раз, когда я приезжал. Мы быстро подружились.
Он ценил мое общество и, по-моему, был рад, что я поживу здесь некоторое время. Я сказал, что собираюсь писать очередной роман, и он тут же заговорил про свой. Он вкладывал в него всю душу, но сюжет никак не хотел сдвигаться с мертвой точки. Он повсюду таскал с собой большую тетрадь на пружине, на обложке которой начертал фломастером “Тетрадь № 1”, как бы давая понять, что есть и другие. Он вечно сидел, уткнувшись в нее носом – прямо с утра, на террасе своего дома или за кухонным столом; иногда я заставал его за тем же занятием где-нибудь в кафе в центре города. А он, наоборот, видел, что я гуляю, купаюсь в озере, отправляюсь на пляж или на пробежку. По вечерам он звонил в дверь, приносил свежее пиво. Мы пили его у меня на террасе, на фоне чудесного озера и розовеющих в закатном солнце пальм, играли в шахматы и слушали музыку. Сделав ход и не сводя глаз с шахматной доски, он всегда задавал мне один и тот же вопрос:
– Ну что, Маркус, как ваша книжка?
– Движется, Лео, движется.
Так прошло две недели, но однажды вечером, нацелившись съесть мою ладью, он вдруг убрал руку и произнес с неожиданной досадой:
– Вы зачем сюда приехали, разве не роман писать?
– Да, писать, а что?
– А то, что вы ни черта не делаете, и меня это бесит.
– С чего вы взяли, что я ничего не делаю?
– Что я, не вижу? Вы целыми днями мечтаете, занимаетесь спортом да любуетесь облаками. Мне семьдесят восемь лет, это я должен почивать от трудов праведных, а вы должны вкалывать!
– Что вас бесит-то, Лео? Моя книга или ваша собственная?
Я попал в точку. Он смягчился:
– Просто хочу понять, как у вас так получается. У меня роман не идет. Вот мне и любопытно, как вы работаете.
– Сажусь вот тут, на террасе, и думаю. Это нелегкий труд, поверьте. А вы пишете, чтобы чем-то голову занять. Совсем другое дело.
Он двинул вперед слона и объявил мне шах.
– Вы не могли бы подсказать мне хороший сюжет для романа?
– Это невозможно.
– Почему?
– Вы должны его сами придумать.
– По крайней мере, не пишите ничего про Бока-Ратон, очень вас прошу. Не хватало еще, чтобы все ваши читатели приперлись сюда поглазеть на ваш дом.
Я улыбнулся:
– Не надо искать сюжет, Лео. Он сам появится. Сюжет – это какое-нибудь событие, и оно может случиться в любую минуту.
Мог ли я вообразить, что ровно в тот момент, когда я произносил эти слова, все так и произойдет? Я заметил на берегу озера силуэт собаки. Рыщет взад-вперед, уткнувшись носом в траву; мускулистая, но поджарая, с острыми ушами. Гуляющих поблизости не наблюдалось.
– А пес вроде сам по себе бегает, – сказал я.
Горовиц поднял голову, взглянул на собаку и отрезал:
– У нас тут нет бродячих собак.
– Я не сказал, что собака бродячая. Я сказал, что она гуляет сама по себе.
Собак я безумно люблю. Я встал, сложил руки рупором и свистнул, подзывая пса. Пес навострил уши. Я свистнул еще раз, и он побежал к нам.
– С ума сошли, – проворчал Лео, – кто вам сказал, что собака не бешеная? Ваш ход.
– Никто, – ответил я, рассеянно двигая ладью.
Горовиц в наказание за нахальство съел у меня ферзя.
Пес подбежал к террасе. Я сел перед ним на корточки. Кобель, довольно крупный, темного окраса, с черной полумаской и длинными тюленьими усами. Прижался ко мне головой, я его погладил. С виду очень ласковый. Я сразу почувствовал, что между нами возникает связь, что-то вроде любви с первого взгляда; собачники меня поймут. Ни ошейника, ни каких-либо опознавательных знаков.
– Вы раньше видели эту собаку? – спросил я Лео.
– Ни разу.
Пес обнюхал террасу, развернулся и, презрев мои попытки его удержать, скрылся за пальмами и кустарником.
– Похоже, знает, куда идти, – заметил Горовиц. – Наверняка собака кого-то из соседей.
Вечер стоял очень душный. Когда Лео уходил, на небе даже в темноте виднелись свинцовые тучи. Вскоре надвинулась сильнейшая гроза, за озером сверкали ослепительные сполохи, а потом небо разверзлось и пролилось стеной воды. Около полуночи я читал в гостиной и вдруг услышал тявканье со стороны террасы. Пошел взглянуть, в чем дело, и через стеклянную дверь увидел того самого пса – шерсть намокла, вид жалкий. Я открыл, он тут же проскользнул в дом и с умоляющим видом уставился на меня.
– Ладно, оставайся, – разрешил я.
Поставил ему вместо мисок две кастрюли с едой и водой, уселся рядом, вытер его банным полотенцем, и мы стали смотреть, как по окнам струятся потоки дождя.
Ночь он провел у меня. Наутро, проснувшись, я обнаружил, что он мирно спит на кафельном полу кухни. Я соорудил поводок из веревки – просто так, на всякий случай, он и без него послушно ходил за мной по пятам, – и мы отправились искать его хозяина.
Лео пил кофе на крыльце, под навесом; перед ним лежала “Тетрадь № 1”, открытая на безнадежно чистой странице.
– Вы что там чикаетесь с этим псом, Маркус? – спросил он, увидев, что я сажаю собаку в багажник.
– Он ночью явился ко мне на террасу. Я его впустил, в такую-то грозу. По-моему, он потерялся.
– И куда вы направляетесь?
– Повешу объявление у супермаркета.
– Вам лишь бы не работать, честное слово.
– Я как раз работаю.
– Смотрите не перетрудитесь, старина.
– Постараюсь.
Повесив объявление в двух ближайших супермаркетах, я решил прогуляться с псом по главной улице Бока-Ратона в надежде, что кто-нибудь его узнает. Тщетно. В конце концов я зашел в полицейский участок, оттуда меня отправили к ветеринару. Иногда у собак есть чипы, по ним можно найти владельца. У пса чипа не было, ветеринар ничем не мог помочь. Предложил мне отдать собаку в приют, я отказался и пошел домой в сопровождении своего нового товарища; тот, надо сказать, несмотря на внушительные размеры, вел себя на редкость спокойно и послушно.
Лео сидел у себя на крыльце и ждал, когда я вернусь. Завидев меня, бросился навстречу, размахивая какими-то распечатками. Недавно он открыл для себя волшебный поисковикGoogle и целыми днями вбивал в него все вопросы, какие в голову взбредут. На него, университетского деятеля, большую часть жизни просидевшего в библиотеках в поисках нужных ссылок, магия поисковых алгоритмов действовала особенно сильно.
– Я тут провел небольшое расследование, – заявил он таким тоном, словно раскрыл дело Кеннеди, и протянул мне с десяток страниц; скоро придется помогать ему сменить картридж в принтере.
– И что выяснили, профессор Горовиц?
– Собаки всегда находят дорогу домой. Некоторые пробегают тысячи миль, чтобы вернуться.
– Что вы мне посоветуете?
Лео напустил на себя вид старого мудреца:
– Вместо того чтобы таскать пса за собой, ступайте за ним. Он знает, куда идти, а вы нет.
Сосед был прав. Я решил спустить пса с веревочного поводка, пусть бежит, куда хочет. Он рысью двинулся вперед, сперва вдоль озера, потом по пешеходной дорожке. Мы пересекли поле для гольфа и оказались в другом, незнакомом мне жилом квартале на берегу узкого морского залива. Пес потрусил по дороге, потом дважды свернул направо и в конце концов остановился у ворот, за которыми виднелся великолепный дом. Тут он сел и гавкнул. Я позвонил в домофон. Мне ответил женский голос, я сказал, что нашел их собаку, и ворота открылись. Пес, явно радуясь возвращению, побежал к дому.
Я вошел следом. На крыльце появилась женщина, и пес в порыве счастья запрыгал вокруг нее. Я слышал, как она назвала его по имени – Дюк. Пока они ласкали друг друга, я подошел поближе. Она подняла голову, и я остолбенел.
– Александра? – еле выговорил я.
– Маркус?
Она тоже не верила своим глазам.
Семь с лишним лет прошло после Драмы, разлучившей нас, и вот мы встретились. Она широко раскрыла глаза и вдруг воскликнула:
– Маркус, это ты?!
Я стоял как громом пораженный.
Она подбежала ко мне:
– Маркус!
В порыве неподдельной нежности она обхватила ладонями мое лицо. Словно тоже не верила своим глазам и хотела убедиться, что это не сон. Я по-прежнему не мог выдавить из себя ни слова.
– Маркус, – сказала она, – даже не верится, что это ты.
* * *
Вы наверняка слышали – если, конечно, живете не в пещере – об Александре Невилл, самой известной нынешней певице и музыкантше. В последние годы она стала кумиром, которого давно ждала вся страна; она вывела из застоя музыкальный бизнес. Три ее альбома разошлись тиражом в двадцать миллионов экземпляров; она второй год подряд входила в список наиболее влиятельных персон по версии журнала “Тайм”, а ее личное состояние оценивалось в 150 миллионов долларов. Публика ее обожала, критики ею восторгались. Ее любили и подростки, и глубокие старики. Ее любили все; по-моему, вся Америка только и делала, что неистово скандировала четыре любимых слога.А-лек-сан-дра.
Жила она с хоккеистом Кевином Лежандром, выходцем из Канады, который в этот момент как раз возник у нее за спиной.
– Вы нашли Дюка! Мы его со вчерашнего дня ищем! Алекс так волновалась. Спасибо вам!
Он протянул мне руку. Я увидел, как вздулся его бицепс, когда он сдавил мне пальцы. Кевина я знал только по таблоидам, наперебой обсуждавшим его отношения с Александрой. Он был вызывающе красив, еще лучше, чем на фотографиях. На миг он с любопытством вгляделся в мое лицо и спросил:
– Я вас где-то видел, нет?
– Меня зовут Маркус. Маркус Гольдман.
– Писатель, верно?
– Он самый.
– Читал вашу последнюю книжку. Александра посоветовала, ей очень нравится то, что вы пишете.
Происходило что-то невероятное. Я снова встретил Александру, в доме ее жениха. Кевин ничего не понял и предложил мне у них поужинать; я охотно согласился.
Мы пожарили громадные стейки на гигантском барбекю, стоявшем на террасе. За последними переменами в карьере Кевина я не уследил: думал, он по-прежнему защитник “Нэшвилл Предаторз”, а оказывается, за время летних трансферов его продали во “Флорида Пантерз”. Дом принадлежал ему. Он теперь жил в Бока-Ратоне, а Александра в перерыве между записями нового альбома приехала с ним повидаться.
Только под конец ужина Кевин наконец догадался, что мы с Александрой хорошо знакомы.
– Ты из Нью-Йорка? – спросил он.
– Да. Живу я там.
– А что тебя привело во Флориду?
– Я привык сюда заезжать в последние годы. У меня дядя жил в Коконат-Гроув, я его часто навещал. Недавно купил дом в Бока-Ратоне, неподалеку отсюда. Хотелось найти спокойное место, чтобы писать.
– Как поживает твой дядя? – спросила Александра. – Не знала, что он уехал из Балтимора.
Я уклонился от ответа и сказал только:
– Он уехал из Балтимора после Драмы.
Кевин, сам того не заметив, наставил на нас вилку:
– Мне кажется, или вы в самом деле знакомы?
– Я несколько лет жила в Балтиморе, – отозвалась Александра.
– И моя родня тоже жила в Балтиморе, – подхватил я. – Как раз дядя с женой и мои двоюродные братья. Они жили в одном районе с семьей Александры.
Александра почла за лучшее не развивать эту тему, и мы заговорили о другом. После ужина она предложила отвезти меня домой, раз я пришел пешком.
В машине, наедине с ней, я ясно ощутил повисшее в воздухе напряжение. И в конце концов произнес:
– С ума сойти, надо же было твоему псу забежать ко мне…
– Он часто убегает.
Мне некстати пришло в голову пошутить:
– Наверно, ему не нравится Кевин.
– Не начинай, Маркус, – жестко отрезала она.
– Не надо так, Алекс…
– Как – так?
– Ты прекрасно знаешь, о чем я.
Она резко затормозила посреди дороги и посмотрела мне прямо в глаза:
– Почему ты так со мной поступил, Маркус?
Я с трудом выдержал ее взгляд.
– Ты меня бросил!
– Прости. У меня были причины.
– Причины? Не было у тебя никаких причин все угрохать!
– Александра, но они… Они умерли!
– И что? Я, что ли, виновата?
– Нет, – ответил я. – Прости. Прости за все.
Повисло гнетущее молчание. После я лишь подсказывал ей дорогу к дому. Когда мы приехали, она сказала:
– Спасибо за Дюка.
– Я бы с радостью повидал тебя снова.
– По-моему, лучше оставить все как есть. Не приходи больше, Маркус.
– К Кевину?
– В мою жизнь. Не приходи больше в мою жизнь, пожалуйста.
Она уехала.
Домой не хотелось совсем. Ключи от моей машины лежали в кармане, и я решил прокатиться. Свернул на Майами, недолго думая, проехал город насквозь, к тихому району Коконат-Гроув, и припарковался у дядиного дома. Погода стояла теплая, я вышел из машины и, прислонившись к капоту, долго смотрел на дом. Мне казалось, что дядя здесь, что я ощущаю его присутствие. Мне хотелось увидеть его снова, а для этого был лишь один способ. Написать о нем.
* * *
Сол Гольдман был братом моего отца. До Драмы, до событий, о которых я собираюсь вам рассказать, он был, по словам моих дедушки и бабушки, “очень большой человек”. Возглавлял одно из крупнейших адвокатских бюро в Балтиморе и благодаря своему опыту вел самые громкие дела по всему Мэриленду. Дело Доминика Пернелла – это он. Дело “Город Балтимор против Морриса” – тоже он. Дело о незаконных сделках “Санридж” – тоже он. В Балтиморе его знали все. О нем писали в газетах, его показывали по телевизору, и я помню, какое впечатление на меня это в свое время производило. Женился он на своей юношеской любви, на той, что стала для меня тетей Анитой, самой красивой женщиной и самой ласковой матерью, на мой тогдашний детский взгляд. Она была ведущим врачом-онкологом в знаменитой местной клинике, госпитале Джона Хопкинса. С их чудесным сыном Гиллелем, добрым и необычайно умным мальчиком, почти моим ровесником, мы относились друг к другу как братья.
С ними я провел лучшие дни своей юности, и еще долго при одном упоминании их имени преисполнялся живейшей гордости и счастья. Тогда они казались мне лучше всех семей, лучше всех людей, каких я только встречал: самые счастливые, самые удачливые, самые целеустремленные, самые уважаемые. Долгие годы жизнь подтверждала мою правоту. Они были другой породы. Меня завораживала легкость, с какой они шли по жизни, ослепляло их сияние, покорял их достаток. Я восхищался их манерой держаться, их вещами, их положением в обществе. Их громадным домом, их шикарными машинами, их летней виллой в Хэмптонах1, их квартирой в Майами, тем, что каждый год в марте они ездят кататься на лыжах в Уистлер, в Британскую Колумбию. Их простотой, их счастьем. Их радушным отношением ко мне. Их великолепным превосходством, за которое их нельзя было не любить. Они не внушали зависти – несравненным не завидуют. Любимчики богов. Я долго верил, что с ними никогда ничего не случится. Я долго верил, что они будут жить вечно.
2
Назавтра после своей нечаянной встречи с Александрой я целый день просидел взаперти в кабинете. Разве что на рассвете, по холодку, вышел пробежаться вдоль озера.
Мне пришло в голову записать основные вехи истории Гольдманов-из-Балтимора, хоть я пока и не знал, что буду со своими заметками делать. Для начала нарисовал генеалогическое древо нашего рода, потом понял, что оно требует некоторых пояснений, особенно по части родителей Вуди. Древо быстро превратилось в целый лес комментариев на полях, и я решил для ясности переписать его на карточки. Передо мной лежала фотография, которую два года назад обнаружил дядя Сол. На фото был я, семнадцатью годами младше, а вокруг – трое самых моих любимых людей: обожаемые кузены, Гиллель и Вуди, и Александра. Она послала снимок каждому из нас, написав на обороте:
я люблю вас, гольдманы.
В то время ей было семнадцать, моим кузенам и мне – всего по пятнадцать. В ней уже было все, за что ее полюбят миллионы людей, но для нас она не стала яблоком раздора. Глядя на фото, я погружался в перипетии нашей далекой юности, когда я еще не потерял кузенов, не превратился в надежду американской литературы, а главное, когда Александра Невилл еще не сделалась нынешней эстрадной суперзвездой. Когда вся Америка еще не влюбилась в нее, в ее песни, когда каждый ее новый альбом еще не приводил в неистовство миллионы фанатов. Когда она еще не ездила в турне, еще не стала долгожданным кумиром Америки.
Под вечер Лео, верный своим привычкам, позвонил ко мне в дверь.
– С вами все в порядке, Маркус? Вас со вчерашнего дня не видно. Нашли хозяина собаки?
– Да. Это новый бойфренд девушки, которую я любил долгие годы.
Он страшно удивился:
– До чего тесен мир. Как ее зовут?
– Вы не поверите. Александра Невилл.
– Певица?
– Она самая.
– Вы ее знаете?
Я сходил за фотографией и протянул ему.
– Это Александра? – спросил Лео, ткнув пальцем в фото.
– Да. В те времена, когда мы были счастливыми юнцами.
– А мальчики кто?
– Мои кузены из Балтимора и я.
– И что с ними теперь?
– Это долгая история…
В тот вечер мы с Лео играли в шахматы допоздна. Я был рад, что он меня отвлек, позволил несколько часов думать не об Александре, а о чем-то другом. Встреча с ней перевернула мне всю душу. За все эти годы я так и не смог ее забыть.
На следующий день я не удержался и снова поехал к дому Кевина Лежандра. Не знаю, на что я надеялся. Наверно, встретить ее. Поговорить с ней еще. Но она рассердится, что я опять приехал. Я сидел в машине на дороге, что шла параллельно их участку, и вдруг заметил какое-то шевеление в живой изгороди. Пригляделся из любопытства и вдруг увидел, как из кустов вылезает тот самый славный Дюк. Я вышел из машины и тихонько позвал его. Он прекрасно меня помнил и подбежал приласкаться. Мне пришла в голову идиотская, но неотвязная мысль: а не попробовать ли снова завязать отношения с Александрой с помощью Дюка? Я открыл багажник, и он послушно в него запрыгнул. Он мне доверял. Я поскорей вернулся к себе. Дом был ему знаком. Я уселся за письменный стол, он улегся рядом и так и лежал, пока я заново погружался в историю Гольдманов-из-Балтимора.
* * *
Имя “Гольдманы-из-Балтимора” было парным к нашему, моему и моих родителей, – “Гольдманы-из-Монклера”: мы жили в Монклере, штат Нью-Джерси. Со временем длинные названия сократились, они стали Балтиморами, а мы Монклерами. Имена эти придумали бабушка и дедушка Гольдманы: чтобы не путаться в разговоре, они для удобства поделили наши семьи на две географических единицы. Тем самым, когда мы все, к примеру, собирались у них во Флориде на Рождество и Новый год, они могли сказать: “Балтиморы приедут в субботу, а Монклеры в воскресенье”. Поначалу это были всего лишь ласковые обозначения, но в итоге они превратились в способ выразить превосходство Гольдманов-из-Балтимора даже внутри собственного клана. Факты говорили сами за себя. Балтиморы – это адвокат и врач, а их сын учится в лучшей частной школе города. Что же до Монклеров, то мой отец был инженером, мать работала продавщицей в местном филиале нью-йоркского бренда люксовой верхней одежды, а я честно учился в муниципальной школе.
Интонация, с какой старшие Гольдманы произносили эти семейные словечки, вобрала в себя все высокие чувства, которые они питали к племени Балтиморов: слово “Балтимор” перекатывалось у них на языке золотым шариком, тогда как слово “Монклер”, казалось, было начертано слизью улитки. Все хвалы доставались Балтиморам, вся хула – Монклерам. Если не работал телевизор, значит, это я сбил настройки, а если хлеб оказался черствым, то только потому, что его купил мой отец. Булочки, привезенные дядей Солом, всегда были отменного качества, а телевизор снова работал, потому что его наверняка починил Гиллель. Даже в одних и тех же ситуациях они обходились с нами по-разному. Если кто-то из нас опаздывал к ужину, то про Балтиморов бабушка с дедушкой говорили, что бедняги наверняка застряли в пробке. Но если задерживались Монклеры, они тут же начинали сетовать на наши якобы вечные опоздания. Что бы ни случилось, Балтимор был средоточием всего прекрасного, а Монклер – всегдашним “могло-бы-быть-и-получше”. Самая изысканная икра из Монклера не стоила и ложки гнилой капусты из Балтимора. А когда мы все вместе ходили в ресторан или бродили по торговым центрам, бабушка, встретив знакомых, представляла нас так: “Это мой сын Сол, он известный адвокат. Его жена, Анита, ведущий врач у Джона Хопкинса, и их сын Гиллель, юный гений”. В ответ каждый из Балтиморов получал рукопожатие и почтительный поклон. Затем бабушка продолжала свое соло и неопределенно тыкала пальцем в меня и моих родителей: “А это мой младший сын с семейством”. И мы удостаивались кивка, примерно такого, каким благодарят шофера или домработницу.
Единственное, в чем Гольдманы-из-Балтимора и Гольдманы-из-Монклера времен моего детства были равны, – это в количестве: обе наши семьи состояли из трех членов. Но если по официальным бумагам Гольдманов-из-Балтимора числилось трое, то люди, близко их знавшие, сказали бы, что их четверо. Ибо моему кузену Гиллелю, с которым я до тех пор делил все минусы положения единственного ребенка, вскоре повезло – жизнь подарила ему брата. После событий, о которых я чуть ниже расскажу подробнее, он стал всегда и везде появляться с другом, которого, если его не знать, можно было счесть воображаемым. Вудро Финн, или Вуди, как мы его называли, был красивее, выше и сильнее его, заботлив, способен на все и всегда оказывался рядом, если в нем появлялась нужда.
Вуди вскоре занял в семье Гольдманов-из-Балтимора особое место, стал одновременно и одним из них, и одним из нас, племянником, кузеном, сыном и братом. Его наличие среди них было настолько самоочевидным, что – высший знак его принадлежности к Гольдманам! – если он вдруг отсутствовал на каком-нибудь семейном сборище, все немедленно начинали спрашивать, где он, и беспокоиться, отчего он не пришел. Его присутствие считалось не только законным, но необходимым для того, чтобы вся семья была в сборе. Спросите любого, кто знал Гольдманов-из-Балтимора в те времена, и он, не задумываясь, назовет среди них Вуди. Так что они и в этом нас обошли: если раньше в матче Монклер – Балтимор была ничья 3:3, то отныне они вели в счете – 4:3.
Вуди, Гиллель и я были самыми верными друзьями на свете. С Вуди я провел лучшие годы у Балтиморов, благословенное время с 1990-го по 1998-й, послужившее, однако, фоном, на котором сложились все предпосылки Драмы. С десяти до восемнадцати лет мы трое были неразлучны, образуя триединое братское целое, триаду или троицу, и гордо именовали ее “Банда Гольдманов”. Редкие братья так любят друг друга, как любили мы: мы скрепили наш союз самыми торжественными обетами, смешали кровь, поклялись друг другу в верности и обещали любить друг друга вечно. Несмотря на все, что случится потом, я всегда буду вспоминать эти годы как нечто невероятное: эпопею о трех счастливых подростках в благословенной богами Америке.
Ездить в Балтимор, быть с ними – в этом я видел смысл жизни. Только с ними я по-настоящему чувствовал себя самим собой. Спасибо родителям, разрешавшим мне в том возрасте, когда мало кто из детей путешествует в одиночку, проводить в Балтиморе все длинные выходные и видеться с теми, кого я так любил. Для меня это стало началом новой жизни, вехами которой служило расписание школьных каникул, выходных и праздников в честь героев Америки. ПриближениеVeteran’s Day, Martin Luther King Day или President’s Day2 преисполняло меня неистовой радости. Я не мог усидеть на месте от возбуждения. Слава солдатам, павшим за родину, слава доктору Мартину Лютеру Кингу-младшему за то, что был таким хорошим человеком, слава нашим честным и доблестным президентам, добавившим нам выходной в каждый третий понедельник февраля!
Чтобы выгадать лишний день, я уговорил родителей отпускать меня сразу после школы. Когда уроки наконец кончались, я пулей мчался домой собираться. Сложив сумку, ждал, когда мать придет с работы и отвезет меня в Ньюарк на вокзал. Садился в кресло у входной двери, в ботинках и в куртке, топоча ногами от нетерпения. Обычно я бывал готов раньше времени, а она запаздывала. От нечего делать я разглядывал фотографии обеих семей, лежавшие рядом на тумбочке. Наша казалась мне пошлой и бесцветной, их – восхитительной. Между тем жил я в Монклере, красивом пригороде Нью-Джерси, и жил прекрасно, спокойно и счастливо, ни в чем не зная нужды. Но наши машины в моих глазах выглядели не такими сверкающими, разговоры – не такими интересными, солнце у нас – не таким ярким, а воздух – не таким чистым.
Потом раздавался гудок маминой машины. Я вылетал на улицу и садился в ее старенькую “хонду-cивик”. Она красила ногти, или пила кофе из картонного стаканчика, или жевала сэндвич, или заполняла налоговую декларацию. Иногда все одновременно. Она всегда была элегантна, хорошо одета. Красивое лицо, красивый макияж. Но, возвращаясь с работы, она не снимала с пиджака бейдж со своим именем и надписью под ним: “К вашим услугам”, которая казалась мне страшно унизительной. Балтиморов обслуживали, а мы были обслугой.
Я ругал мать за опоздание, она просила прощения. Я не прощал, и она ласково гладила меня по голове. Целовала меня, оставляя на щеке следы помады, и сразу стирала их любящей рукой. Потом отвозила меня на вокзал, и я садился на вечерний поезд до Балтимора. По пути она говорила, что любит меня и уже по мне скучает. Перед посадкой в вагон протягивала мне бумажный пакет с сэндвичами, купленными вместе с ее кофе, и просила обещать быть “вежливым и умным мальчиком”. Прижимала меня к себе, совала мне в карман двадцатидолларовую бумажку и говорила: “Я тебя люблю, котик”. Целовала в обе щеки, иногда по три-четыре раза – говорила, что одного раза мало, хотя, по мне, и он был лишний. Сегодня, вспоминая об этом, я злюсь на себя за то, что не давал целовать себя по десять раз при каждом отъезде. Даже за то, что слишком часто уезжал от нее. Злюсь, что редко вспоминал, как уязвимы наши матери, редко повторял себе: люби мать свою.
Неполных два часа – и поезд подходил к центральному вокзалу Балтимора. Наконец начинался переход в другую семью. Я сбрасывал с себя слишком тесный костюм Монклера и облачался в тогу Балтимора. На перроне, в сумерках, меня ждала она. Прекрасная как королева, ослепительная и изящная как богиня, та, чей образ порой постыдно смущал мои юношеские сны, – тетя Анита. Я бежал к ней, я обхватывал ее руками. Я и сейчас чувствую ее руку на своей голове, тепло ее тела. Слышу ее голос: “Марки, дорогой, как же я рада тебя видеть”. Не знаю отчего, но чаще всего встречать меня приезжала именно она, одна. Наверно, потому, что дядя Сол допоздна работал у себя в конторе, а таскать с собой Гиллеля и Вуди ей не очень хотелось. К встрече с ней я готовился, как к свиданию: за несколько минут до прибытия поезда приводил в порядок одежду, причесывался, глядя в оконное стекло, а когда поезд наконец останавливался, выходил из вагона с бьющимся сердцем. Я изменял матери с другой.