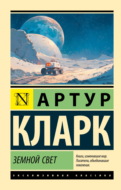Kitobni o'qish: «Портрет художника в юности»
© Перевод. М. Богословская, наследники, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
* * *

1
Однажды, давным-давно, в старое доброе время, шла по дороге коровушка Му-му, шла и шла и встретила на дороге хорошенького-прехорошенького мальчика, а звали его Бу-бу…
Папа рассказывал ему эту сказку, папа смотрел на него через стеклышко. У него было волосатое лицо.
Он был мальчик Бу-бу. Му-му шла по дороге, где жила Бетти Берн: она продавала лимонные леденцы.
О, цветы дикой розы
На зеленом лугу.
Он пел эту песню. Это была его песня.
О, таритатам лозы…
Когда намочишь в постельку, сначала делается горячо, а потом холодно. Мама подкладывает клеенку. От нее такой чудной запах.
От мамы пахнет приятнее, чем от папы. Она играет ему на рояле матросский танец, чтобы он плясал. Он плясал:
Тра-ля-ля, ля-ля.
Тра-ля-ля, тра-ля-ля-ди.
Тра-ля-ля, ля-ля.
Тра-ля-ля, ля-ля.
Дядя Чарлз и Дэнти хлопали в ладоши. Они старее папы и мамы, но дядя Чарлз еще старее Дэнти.
У Дэнти в шкафу две щетки. Щетка с коричневой бархатной спинкой в честь Майкла Дэвитта, а щетка с зеленой бархатной спинкой в честь Парнелла. Дэнти давала ему мятный леденец всякий раз, когда он приносил ей листик папиросной бумаги.
Вэнсы жили в доме семь. У них другие папы и мамы. Это папа и мама Эйлин. Когда они вырастут большие, он женится на Эйлин. Он спрятался под стол. Мама сказала:
– Проси прощения, Стивен.
Дэнти сказала:
– А не попросишь, прилетит орел и выклюет тебе глаза.
И выклюет тебе глаза,
Проси прощенья, егоза,
Проси прощенья, егоза,
И выклюет тебе глаза…
Проси прощенья, егоза,
И выклюет тебе глаза,
И выклюет тебе глаза,
Проси прощенья, егоза.
На больших спортивных площадках толпились мальчики. Все кричали, и воспитатели их громко подбадривали. Вечерний воздух был бледный и прохладный, и после каждой атаки и удара футболистов лоснящийся кожаный шар, как тяжелая птица, взлетал в сером свете. Он топтался в самом хвосте своей команды, подальше от воспитателя, подальше от грубых ног, и время от времени делал вид, что бегает. Он чувствовал себя маленьким и слабым среди толпы играющих, и глаза у него были слабые и слезились. Роди Кикем не такой: он будет капитаном третьей команды, говорили мальчики.
Роди Кикем хороший мальчик, а Вонючка Роуч – противный. У Роди Кикема щитки для ног в шкафу в раздевалке и корзинка со сладостями в столовой. У Вонючки Роуча огромные руки. Он говорит, что постный пудинг – это месиво в жиже. А как-то раз он спросил:
– Как тебя зовут?
Стивен ответил:
– Стивен Дедал.
А Вонючка Роуч сказал:
– Что это за имя?
И когда Стивен не нашелся что ответить, Вонючка Роуч спросил:
– Кто твой отец?
Стивен ответил:
– Джентльмен.
Тогда Вонючка Роуч спросил:
– А он не мировой судья?
Он топтался в самом хвосте своей команды, делая иногда короткие перебежки. Руки его посинели от холода. Он засунул их в боковые карманы своей серой подпоясанной куртки. Пояс – это такая штука над карманами. А вот в драке о тех, кто победил, говорят: за пояс заткнул.
Как-то один мальчик сказал Кэнтуэллу:
– Я бы тебя мигом за пояс заткнул.
А Кэнтуэлл ответил:
– Поди тягайся с кем-нибудь еще. Попробуй-ка Сесила Сандера за пояс заткнуть. Я посмотрю, как он тебе даст под зад.
Так некрасиво выражаться. Мама сказала, чтобы он не водился с грубыми мальчиками в колледже. Мама такая красивая. В первый день в приемной замка она, когда прощалась с ним, слегка подняла свою вуаль, чтобы поцеловать его, и нос и глаза у нее были красные. Но он притворился, будто не замечает, что она сейчас расплачется. Мама красивая, но когда она плачет, она уже не такая красивая. А папа дал ему два пятишиллинговика – пусть у него будут карманные деньги. И папа сказал, чтобы он написал домой, если ему что-нибудь понадобится, и чтобы он ни в коем случае не ябедничал на товарищей. Потом у двери ректор пожал руки папе и маме, и сутана его развевалась на ветру, а коляска с папой и мамой стала отъезжать. Они махали руками и кричали ему из коляски:
– Прощай, Стивен, прощай.
– Прощай, Стивен, прощай.
Вокруг него началась свалка из-за мяча, и, страшась этих горящих глаз и грязных башмаков, он нагнулся и стал смотреть мальчикам под ноги. Они дрались, пыхтели, и ноги их топали, толкались и брыкались. Потом желтые ботинки Джека Лотена наподдали мяч, и все другие ботинки и ноги ринулись за ним. Он пробежал немножко и остановился. Не стоило бежать. Скоро все поедут домой. После ужина, в классе, он переправит число, приклеенное у него в парте, с семидесяти семи на семьдесят шесть.
Лучше бы сейчас быть в классе, чем здесь, на холоде. Небо бледное и холодное, а в главном здании, в замке, огни. Он думал, из какого окна Гамильтон Роуэн бросил свою шляпу на изгородь и были ли тогда цветочные клумбы под окнами. Однажды, когда он был в замке, тамошний служитель показал ему следы солдатских пуль на двери и дал ореховый сухарик, какие едят в общине. Как хорошо и тепло смотреть на огни в замке. Совсем как в книжке. Может быть, Лестерское аббатство было такое. А какие хорошие фразы были в учебнике д-ра Корнуэлла. Они похожи на стихи, но это только примеры, чтобы научиться писать правильно:
Уолси умер в Лестерском аббатстве,
Где погребли его аббаты,
Растения съедают черви,
Животных съедает рак.
Хорошо бы лежать сейчас на коврике у камина, подперев голову руками, и думать про себя об этих фразах. Он вздрогнул, будто по телу пробежала холодная липкая вода. Подло было со стороны Уэллса столкнуть его в очко уборной за то, что он не захотел обменять свою маленькую табакерку на игральную кость, которой Уэллс выиграл сорок раз в бабки. Какая холодная и липкая была вода! А один мальчик раз видел, как большая крыса прыгнула в жижу. Мама с Дэнти сидели у камина и дожидались, когда Бриджет подаст чай. Мама поставила ноги на решетку, и ее вышитые бисером ночные туфли нагрелись, и от них так хорошо и тепло пахло. Дэнти знала массу всяких вещей. Она учила его, где находится Мозамбикский пролив, и какая самая длинная река в Америке, и как называется самая высокая гора на Луне. Отец Арнолл знает больше, чем Дэнти, потому что он священник, но папа и дядя Чарлз оба говорили, что Дэнти умная и начитанная женщина. А иногда Дэнти делала такой звук после обеда и подносила руку ко рту: это была отрыжка.
Голос с дальнего конца площадки крикнул:
– Все домой!
Потом голоса из младшего и приготовительного классов подхватили:
– Домой! Все домой!
Мальчики сходились со всех сторон раскрасневшиеся и грязные, и он шагал среди них, радуясь, что идут домой. Роди Кикем держал мяч за скользкую шнуровку. Один мальчик попросил поддать еще напоследок, но он шел себе и даже ничего не ответил. Саймон Мунен сказал, чтобы он этого не делал, так как на них смотрит надзиратель. Тогда тот мальчик повернулся к Саймону Мунену и сказал:
– Мы все знаем, почему ты так говоришь. Ты известный подлиза.
Какое странное слово «подлиза». Мальчик обозвал так Саймона Мунена потому, что Саймон Мунен связывал иногда фальшивые рукава на спине надзирателя Макглэйда, а тот делал вид, что сердится. Противный звук у этого слова. Однажды он мыл руки в уборной гостиницы в Уиклоу, а потом папа вынул пробку за цепочку и грязная вода стала стекать через отверстие в раковине. А когда она вся стекла потихоньку, отверстие в раковине сделало такой звук: длизс. Только громче.
Он вспоминал это и белые стены уборной, и ему делалось сначала холодно, а потом жарко. Там было два крана, которые надо было повернуть, и тогда шла вода, холодная и горячая. Ему сделалось сначала холодно, а потом чуть-чуть жарко. И он видел слова, напечатанные на кранах. В этом было что-то странное.
А в коридоре тоже было холодно и воздух был какой-то особенный и сырой. Но скоро зажгут газ, и он будет тихонечко так петь, точно какую-то песенку. Все одну и ту же, и, когда мальчики не шумят в рекреационной зале, ее слышно.
Урок арифметики начался. Отец Арнолл написал на доске трудный пример и сказал:
– Ну, кто победит? Живей, Йорк! Живей, Ланкастер!
Стивен старался изо всех сил, но пример был очень трудный, и он сбился. Маленький шелковый значок с белой розой, приколотый к его куртке на груди, начал дрожать. Он был не очень силен в арифметике, но старался изо всех сил, чтобы Йорки не проиграли. Отец Арнолл сделал очень строгое лицо, но он вовсе не сердился, он смеялся. Вдруг Джек Лотен хрустнул пальцами, и отец Арнолл посмотрел в его тетрадку и сказал:
– Верно. Браво, Ланкастер! Алая роза победила. Не отставай, Йорк! Ну-ка поднатужьтесь.
Джек Лотен поглядывал на них со своего места. Маленький шелковый значок с алой розой казался очень нарядным на его синей матроске. Стивен почувствовал, что его лицо тоже покраснело, когда он вспомнил, как мальчики держали пари, кто будет первым учеником в приготовительном: Джек Лотен или он. Были недели, когда Джек Лотен получал билет первого ученика, а были недели, когда он получал билет первого ученика. Его белый шелковый значок дрожал и дрожал все время, пока он решал следующий пример и слушал голос отца Арнолла. Потом все его рвение пропало, и он почувствовал, как лицо у него сразу похолодело. Он подумал, что оно, должно быть, стало совсем белым, раз так похолодело. Он не мог решить пример, но это было не важно. Белые розы и алые розы: какие красивые цвета! И билеты первого, второго и третьего учеников тоже очень красивые: розовые, бледно-желтые и сиреневые. Бледно-желтые, сиреневые и розовые розы тоже красивые. Может быть, дикие розы как раз такие; и ему вспомнилась песенка о цветах дикой розы на зеленом лугу. А вот зеленых роз не бывает. А может быть, где-нибудь на свете они и есть.
Раздался звонок, и все классы потянулись один за другим по коридорам в столовую. Он сидел и смотрел на два кусочка масла у своего прибора, но не мог есть липкий хлеб. И скатерть была влажная и липкая. Но он проглотил залпом горячий жидкий чай, который плеснул ему в кружку неуклюжий служитель в белом фартуке. Вонючка Роуч и Сорин пили какао, которое им присылали из дома в жестяных коробках. Они говорили, что не могут пить этот чай, он как помои. У них отцы – мировые судьи, говорили мальчики.
Все мальчики казались ему очень странными. У них у всех были папы и мамы и у всех разные костюмы и голоса. Ему так хотелось очутиться дома и положить голову маме на колени. Но это было невозможно, и тогда ему захотелось, чтобы игры, уроки и молитвы уже кончились и он бы лежал в постели.
Он выпил еще кружку горячего чая, а Флеминг спросил:
– Что с тобой? У тебя что-нибудь болит?
– Я не знаю, – сказал Стивен.
– Наверное, живот болит, – сказал Флеминг, – от этого ты и бледный такой. Ничего, пройдет.
– Да, – согласился Стивен.
Но у него болел не живот. Он подумал, что у него болит сердце, если только это место может болеть. Флеминг очень добрый, что спросил его. Ему хотелось плакать. Он положил локти на стол и стал зажимать, а потом открывать уши. Тогда всякий раз, как он открывал уши, он слышал шум в столовой. Это был такой гул, как от поезда ночью. А когда он зажимал уши, гул затихал, как будто поезд входил в туннель. В ту ночь в Доки поезд гудел вот так, а потом, когда он вошел в туннель, гул затих. Он закрыл глаза, и поезд пошел – гул, потом тихо, снова гул – тихо. Приятно слышать, как он гудит, потом затихает, и вот опять выскочил из туннеля, гудит, затих.
Потом мальчики старших классов построились и пошли по дорожке посреди столовой. Пэдди Рэт, и Джимми Маги, и испанец, которому разрешалось курить сигары, и маленький португалец, который ходил в шерстяном берете. Потом поднялись из-за стола младшие классы и приготовительные. И у каждого мальчика была своя, особенная походка.
Он сидел в углу рекреационной, делая вид, что следит за игрой в домино, и раз или два ему удалось услышать песенку газа. Надзиратель стоял у двери с мальчиками, и Саймон Мунен завязывал узлом его фальшивые рукава. Он рассказывал им что-то о Таллабеге.
Потом он отошел от двери, а Уэллс подошел к Стивену и спросил:
– Скажи-ка, Дедал, ты целуешь свою маму перед тем, как лечь спать?
– Да, – ответил Стивен.
Уэллс повернулся к другим мальчикам и сказал:
– Слышите, этот мальчик говорит, что он каждый день целует свою маму перед тем, как лечь спать.
Мальчики перестали играть и все повернулись и засмеялись. Стивен вспыхнул под их взглядами и сказал:
– Нет, я не целую.
Уэллс подхватил:
– Слышите, этот мальчик говорит, что он не целует свою маму перед тем, как лечь спать.
Все опять засмеялись. Стивен пытался засмеяться вместе с ними. Он почувствовал, что ему стало сразу жарко и неловко. Как же надо было ответить? Он ответил по-разному, а Уэллс все равно смеялся. Но Уэллс, верно, знает, как надо ответить, потому что он в третьем классе. Он попробовал представить себе мать Уэллса, но боялся взглянуть Уэллсу в лицо. Ему не нравилось лицо Уэллса. Это Уэллс столкнул его накануне в очко уборной за то, что он не захотел обменять свою маленькую табакерку на его игральную кость, которой он сорок раз выиграл в бабки. Это было подло с его стороны, все мальчики так говорили. А какая холодная и тинистая была вода! А один мальчик раз видел, как большая крыса прыгнула – плюх! – прямо в жижу.
Холодная тина проползла по его телу, и, когда прозвонил звонок на занятия и классы потянулись из рекреационной залы, он почувствовал, как холодный воздух в коридоре и на лестнице забирается ему под одежду. Он все еще думал, как нужно было ответить. Как же нужно – целовать или не целовать маму? Что значит целовать? Поднимешь вот так лицо, чтобы сказать маме «спокойной ночи», а мама наклонит свое. Это и есть целовать. Мама прижимала губы к его щеке, губы у нее мягкие, и они чуть-чуть холодили его щеку и издавали такой коротенький тонкий звук: пц. Зачем это люди прикладываются так друг к другу лицами?
Усевшись на свое место, он открыл крышку парты и переправил число, приклеенное внутри, с семидесяти семи на семьдесят шесть. Рождественские каникулы были еще так далеко, но когда-нибудь они придут, потому что ведь Земля все время вертится.
На первой странице его учебника географии была нарисована Земля. Большой шар посреди облаков. У Флеминга была коробка цветных карандашей, и однажды вечером во время пустого урока Флеминг раскрасил Землю зеленым, а облака коричневым. Это вышло как две щетки у Дэнти в шкафу: щетка с зеленой бархатной спинкой в честь Парнелла и щетка с коричневой бархатной спинкой в честь Майкла Дэвитта. Но он не просил Флеминга раскрашивать в такие цвета. Флеминг сам так сделал.
Он открыл географию, чтобы учить урок, но не мог запомнить названий в Америке. Все разные места с разными названиями. Все они в разных странах, а страны на материках, а материки на Земле, а Земля во Вселенной.
Он опять открыл первую страницу и прочел то, что когда-то написал на этом листе: вот он сам, его фамилия и где он живет.
Стивен Дедал
Приготовительный класс
Клонгоуз Вуд Колледж
Сэллинз
Графство Килдер
Ирландия
Европа
Земля
Вселенная
Это было написано его рукой, а Флеминг однажды вечером в шутку написал на противоположной странице:
Стивен Дедал – меня зовут,
Родина моя – Ирландия,
Клонгоуз – мой приют,
Небо – моя надежда.
Он прочел стихи наоборот, но тогда получились не стихи. Тогда он прочитал снизу вверх всю первую страницу и дошел до своего имени. Вот это он сам. И он опять прочел все сверху вниз. А что после Вселенной? Ничего. Но, может быть, есть что-нибудь вокруг Вселенной, что отмечает, где она кончается и с какого места начинается это ничего? Вряд ли оно отгорожено стеной; но может быть, там идет вокруг такой тоненький ободок. Все и везде – как это? – даже подумать нельзя. Такое под силу только Богу. Он попытался представить себе эту огромную мысль, но ему представлялся только Бог. Бог – так зовут Бога, так же как его зовут Стивен. Dieu – так будет Бог по-французски, и так тоже зовут Бога, и, когда кто-нибудь молится Богу и говорит Dieu, Бог сразу понимает, что это молится француз. Но хотя у Бога разные имена на разных языках и Бог понимает все, что говорят люди, которые молятся по-разному на своих языках, все-таки Бог всегда остается тем же Богом, и его настоящее имя Бог.
Он очень устал от этих мыслей. Ему казалось, что голова у него сделалась очень большой. Он перевернул страницу и сонно посмотрел на круглую зеленую Землю посреди коричневых облаков. Он начал раздумывать, что правильнее – стоять за зеленый цвет или за коричневый, потому что Дэнти однажды отпорола ножницами зеленый бархат со щетки, которая была в честь Парнелла, и сказала ему, что Парнелл – дурной человек. Он думал – спорят ли теперь об этом дома? Это называлось политикой. И было две стороны: Дэнти была на одной стороне, а его папа и мистер Кейси – на другой, но мама и дядя Чарлз не были ни на какой стороне. Каждый день про это что-нибудь писали в газетах.
Его огорчало, что он не совсем понимает, что такое политика, и не знает, где кончается Вселенная. Он почувствовал себя маленьким и слабым. Когда еще он будет таким, как мальчики в классе поэзии и риторики? У них голоса как у больших и большие башмаки, и они проходят тригонометрию. До этого еще очень далеко. Сначала будут каникулы, а потом следующий семестр, а потом опять каникулы, а потом опять еще один семестр, а потом опять каникулы. Это похоже на поезд, который входит и выходит из туннеля, и еще похоже на шум, если зажимать, а потом открывать уши в столовой. Семестр – каникулы; туннель – наружу; гул – тихо; как это еще далеко! Хорошо бы скорей в постель и спать. Вот только еще молитва в церкви – и в постель. Его зазнобило, и он зевнул. Приятно лежать в постели, когда простыни немножко согреются. Сначала, как залезешь под одеяло, они такие холодные. Он вздрогнул, представив себе, какие они холодные. Но потом они становятся теплыми, и тогда можно заснуть. Приятно чувствовать себя усталым. Он опять зевнул. Вечерние молитвы – и в постель; он потянулся, и опять ему захотелось зевнуть. Приятно будет через несколько минут. Он почувствовал, как тепло ползет по холодным шуршащим простыням, все жарче, жарче, пока его всего не бросило в жар и не стало совсем жарко, и все-таки его чуть-чуть знобило и все еще хотелось зевать.
Прозвонил звонок на вечерние молитвы, и они пошли парами всем классом вниз по лестнице и по коридорам в церковь. Свет в коридорах тусклый, и в церкви свет тусклый. Скоро все погаснет и заснет. В церкви холодный, ночной воздух, а мраморные колонны такого цвета, как море ночью. Море холодное и днем и ночью, но ночью оно холодней. У мола, внизу, около их дома, холодно и темно. А дома уж кипит на огне котелок, чтобы варить пунш.
Священник читал молитвы у него над головой, и память его подхватывала стих за стихом:
Господи! Отверзи уста мои,
И уста мои возвестят хвалу Твою,
Поспеши, Боже, избавить меня,
Поспеши, Господи, на помощь мне.
В церкви стоял холодный, ночной запах. Но это был святой запах. Он не похож на запах старых крестьян, которые стояли на коленях позади них во время воскресной службы. То был запах воздуха, и дождя, и торфа, и грубой ткани. Но крестьяне были очень благочестивые. Они дышали ему в затылок и вздыхали, когда молились. Они живут в Клейне, сказал один мальчик. Там были маленькие домики, и он видел женщину, которая стояла у полуоткрытой двери с ребенком на руках, когда они ехали мимо из Сэллинза. Приятно было бы поспать одну ночь в этом домике около очага с дымящимся торфом в темноте, освещенной тлеющим жаром, в теплой полутьме вдыхая запах крестьян, запах дождя, торфа и грубой ткани. Но как темно на дороге среди деревьев! Страшно заблудиться в темноте! Ему стало страшно, когда он об этом подумал. Он услышал голос священника, произносившего последнюю молитву. Он тоже стал молиться, думая все время о темноте там, снаружи, среди деревьев.
«Посети, Господи, обитель сию и избавь нас от козней лукавого, да охранят нас святые ангелы Твои и благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с нами. Аминь».
Пальцы его дрожали, когда он раздевался в дортуаре. Он подгонял их. Ему нужно было раздеться, стать на колени, прочитать молитвы и лечь в постель, прежде чем потушат газ. Он стянул чулки, быстро надел ночную рубашку, стал, дрожа, на колени около кровати и наспех прочел молитвы, боясь, что газ потушат. Плечи его тряслись, когда он шептал:
Господи, спаси папу и маму и сохрани их мне!
Господи, спаси моих маленьких братьев
и сестер и сохрани их мне!
Господи, спаси Дэнти и дядю Чарлза
и сохрани их мне!
Он перекрестился и быстро юркнул в постель, завернув ноги в подол рубашки, съежившись в комок под холодной белой простыней, дрожа всем телом. Он не попадет в ад после смерти, а дрожь скоро пройдет. Голос в дортуаре пожелал мальчикам спокойной ночи. Он выглянул на секунду из-под одеяла и увидел желтые занавески спереди и по бокам кровати, которые закрывали его со всех сторон. Газ тихонько потушили.
Шаги надзирателя удалились. Куда? Вниз по лестнице и по коридорам или к себе, в комнату в конце коридора? Он увидел темноту. Правда ли это про черную собаку, будто она ходит здесь по ночам и у нее глаза огромные, как фонари на каретах? Говорят, что это призрак убийцы. Дрожь ужаса прошла по его телу. Он увидел темный вестибюль замка. Старые слуги в старинных ливреях собрались в гладильной над лестницей. Это было очень давно. Старые слуги сидели тихо. Огонь пылал в камине, но внизу было темно. Кто-то поднимался по лестнице, ведущей из вестибюля. На нем был белый маршальский плащ, лицо бледное и отрешенное. Он прижимал руки к сердцу. Он отрешенно смотрел на старых слуг. Они смотрели на него, и узнали лицо и одежду своего господина, и поняли, что он получил смертельную рану. Но там, куда они смотрели, была только тьма, только темный, безмолвный воздух. Господин их получил смертельную рану на поле сражения под Прагой, далеко-далеко за морем. Он стоял на поле битвы, рука его была прижата к сердцу. У него было бледное, странное лицо, и одет он был в белое маршальское одеяние.
О, как холодно и непривычно жутко думать об этом! Как холодно и непривычно жутко в темноте. Странные, бледные лица кругом, огромные глаза, похожие на фонари. Это призраки убийц, тени маршалов, смертельно раненных на поле сражения далеко-далеко за морем. Что хотят сказать они, почему у них такие странные лица!
«Посети, Господи, обитель сию и избави нас от козней…»
Домой на каникулы! Как это будет хорошо! Мальчики рассказывали ему. Ранним зимним утром у подъезда замка все усаживаются в кебы. Колеса скрипят по щебню. Прощальные приветствия ректору.
Ура! Ура! Ура!
Кебы поедут мимо часовни, все снимут шапки. Весело выезжают на проселочную дорогу. Возчики указывают кнутами на Боденстаун. Мальчики кричат «ура!». Проезжают мимо дома арендатора Джолли. Ура, ура и еще раз ура! Проезжают через Клейн, с криками, весело раскланиваясь, с ними тоже раскланиваются. Крестьянки стоят у полуоткрытых дверей, кое-где стоят мужчины. Чудесный запах в зимнем воздухе – запах Клейна: зимний воздух, дождь, тлеющий торф и грубая ткань крестьянской одежды.
Поезд битком набит мальчиками: длинный-длинный шоколадный поезд с кремовой обшивкой. Кондукторы ходят взад и вперед, отпирая, закрывая, распахивая и захлопывая двери. Они в темно-синих с серебром мундирах; у них серебряные свистки и ключи весело позвякивают: клик-клик, клик-клик.
И поезд мчится по гладким равнинам мимо холмов Эллина. Телеграфные столбы мимо… мимо…
Поезд мчится дальше и дальше… Он знает дорогу. А дома у них в холле фонарики, гирлянды зеленых веток. Плющ и остролист вокруг трюмо, и плющ и остролист, зеленый и алый, переплетаются вокруг канделябров. Зеленый плющ и алый остролист вокруг старых портретов по стенам. Плющ и остролист ради него и ради Рождества.
Как хорошо!
Все домашнее. Здравствуй, Стивен! Радостные возгласы. Мама целует его. А нужно ли целовать? А папа его теперь маршал, это вам почище, чем мировой судья. Вот ты и дома. Здравствуй, Стивен.
Шум…
Это был шум отдергивающихся занавесок, плеск воды в раковинах. Шум пробуждения, одевания и мытья в дортуаре; надзиратель, хлопая в ладоши, прохаживался взад и вперед, покрикивая на мальчиков, чтобы они поторапливались… Бледный солнечный свет падал на желтые отдернутые занавески, на смятые постели. Его постель была очень горячая, и лицо и тело – тоже очень горячие.
Он поднялся и сел на край кровати. Он чувствовал слабость. Он попытался натянуть чулок. Чулок казался отвратительно шершавым на ощупь. Солнечный свет такой странный и холодный.
Флеминг спросил:
– Ты что, заболел?
Он сам не знал. Тогда Флеминг сказал:
– Полезай обратно в постель. Я скажу Макглэйду, что ты заболел.
– Он болен.
– Кто?
– Скажите Макглэйду.
– Ложись обратно.
– Он болен?
Какой-то мальчик держал его под руки, пока он стаскивал прилипший к ноге чулок и ложился обратно в горячую постель.
Он съежился под простыней, радуясь, что она еще теплая. Он слышал, как мальчики говорили о нем, одеваясь к обедне. Подло – столкнуть его в очко уборной, говорили они. Потом их голоса затихли, они ушли. Голос около его кровати сказал:
– Дедал, ты не наябедничаешь на нас, правда?
Перед ним было лицо Уэллса. Он взглянул на него и увидел, что Уэллс боится.
– Я не нарочно. Правда, не скажешь?
Папа его говорил, чтобы он ни в коем случае не ябедничал на товарищей. Он помотал головой и сказал «нет» и почувствовал себя счастливым.
Уэллс сказал:
– Честное слово, я не нарочно. Я пошутил. Не сердись.
Лицо и голос исчезли. Просит прощения, потому что боится. Боится, что это какая-нибудь страшная болезнь… Растения съедают черви, животных съедает рак, или наоборот. Как это было давно, тогда на площадке, в сумерках, он топтался в хвосте своей команды, и тяжелая птица пролетела низко в сером свете. В Лестерском аббатстве зажгли свет. Уолси умер там. Аббаты погребли его сами.
Теперь это было уже лицо не Уэллса, а надзирателя. Он не притворяется. Нет, нет, он в самом деле болен. Он не притворяется. И он почувствовал руку надзирателя на своем лбу и почувствовал, какой горячий и влажный у него лоб под рукой надзирателя. Как будто прикоснулась крыса – скользкая, влажная и холодная. У всякой крысы два глаза, чтобы смотреть. Гладкие, прилизанные, скользкие шкурки; маленькие ножки, поджатые, чтобы прыгать, черные скользкие глазки, чтобы смотреть. Они понимают, как надо прыгать. А вот тригонометрии они никогда не поймут. Дохлые, они лежат на боку, а шкурки у них высыхают. Тогда это просто падаль.
Надзиратель опять вернулся, это его голос говорит ему, что надо встать, что отец настоятель сказал, что надо встать, одеться и идти в лазарет. И в то время, как он одевался, торопясь изо всех сил, надзиратель сказал:
– Вот мы теперь пойдем к брату Майклу и скажем, что у нас в животике бунт.
Надзиратель говорил так, потому что он добрый. Это все для того, чтобы рассмешить его. Но он не мог смеяться, потому что щеки и губы у него дрожали, и тогда надзиратель сам засмеялся. А потом крикнул:
– Живо марш! Сено, солома!
Они пошли вместе вниз по лестнице, и по коридору, и мимо ванной. Проходя мимо двери ванной, он со смутным страхом вспомнил теплую, торфяного цвета болотистую воду, теплый влажный воздух, шум окунающихся тел, запах полотенец, похожий на запах лекарства.
Брат Майкл стоял в дверях лазарета, а из дверей темной комнаты, справа от него, шел запах, похожий на запах лекарства. Это от пузырьков на полках. Надзиратель заговорил с братом Майклом, и брат Майкл отвечал и называл надзирателя «сэр». У него были рыжеватые с проседью волосы и какой-то странный вид. Как странно, что он навсегда останется только братом. И так странно, что его нельзя называть «сэр», потому что он брат и не похож на остальных. Разве он не такой же благочестивый! Чем он хуже других!
В комнате были две кровати, и на одной кровати лежал мальчик, и, когда они вошли, он крикнул:
– Привет, приготовишка Дедал! Что там, наверху?
– Наверху небо, – сказал брат Майкл.
Это был мальчик из третьего класса, и в то время как Стивен раздевался, он попросил брата Майкла дать ему ломоть поджаренного хлеба с маслом.
– Ну дайте, пожалуйста, – просил он.
– Ему еще с маслом! – сказал брат Майкл. – Выпишем тебя из лазарета, когда придет доктор.
– Выпишете? – переспросил мальчик. – Я еще не совсем выздоровел.
Брат Майкл повторил:
– Выпишем, будь уверен. Я тебе говорю.
Он нагнулся помешать огонь в камине. У него была длинная спина, как у лошади, которая возит конку. Он важно потряхивал кочергой и кивал головой мальчику из третьего класса.
Потом брат Майкл ушел, и немного погодя мальчик из третьего класса повернулся лицом к стене и уснул.
Вот он и в лазарете. Значит, он болен. Написали ли они домой, папе и маме? А еще лучше, если бы кто-нибудь из священников поехал и сказал им. Или он мог бы написать письмо, чтобы тот передал.
Дорогая мама!
Я болен. Я хочу домой! Пожалуйста, приезжай и возьми меня домой. Я в лазарете.
Твой любящий сын
Стивен
Как они далеко! За окном сверкает холодный солнечный свет. А вдруг он умрет? Ведь умереть можно и в солнечный день. Может быть, он умрет раньше, чем приедет мама. Тогда в церкви отслужат заупокойную мессу, как было, когда умер Литтл, – ему рассказывали об этом. Все мальчики соберутся в церкви, одетые в черное, и все с грустными лицами. Уэллс тоже придет, но ни один мальчик не захочет смотреть больше на него. И священник будет в черном с золотом облачении, и на алтаре и вокруг катафалка будут гореть большие желтые свечи. И потом гроб медленно вынесут из церкви и похоронят на маленьком кладбище общины за главной липовой аллеей. И Уэллс пожалеет о том, что сделал. И колокол будет медленно звонить.
Он даже слышал звон. Он повторил про себя песенку, которой его научила Бриджет:
Дин-дон, колокол, звени.
Прощай навеки, мама!
На старом кладбище меня схорони
Со старшим братцем рядом.
Гроб с черною каймою,
Шесть ангелов со мною:
Молятся двое, двое поют,
А двое душу понесут.
Как красиво и грустно! Какие красивые слова, где говорится «на старом кладбище меня схорони». Дрожь прошла по его телу. Как грустно и как красиво! Ему хотелось плакать, не о себе, а над этими словами, такими красивыми и грустными, как музыка. Колокол гудит. Прощай навеки! Прощай!
Холодный солнечный свет потускнел. Брат Майкл стоял у его кровати с чашкой бульона в руках. Он обрадовался, потому что во рту у него пересохло и горело. До него доносились крики играющих на площадке. Ведь день в колледже шел своим порядком, как если бы и он был там. Потом брат Майкл собрался уходить, и мальчик из третьего класса попросил его, чтобы он непременно пришел еще раз и рассказал ему все новости из газет. Он сказал Стивену, что его фамилия Этти, и что отец его держит целую уйму скаковых лошадей, все призовые рысаки, и что отец его может сказать брату Майклу, на какую лошадь ему поставить, потому что брат Майкл очень добрый и всегда рассказывает ему новости из газет, которые каждый день получают в общине. В газетах масса всяких новостей, происшествия, кораблекрушения, спорт и политика.