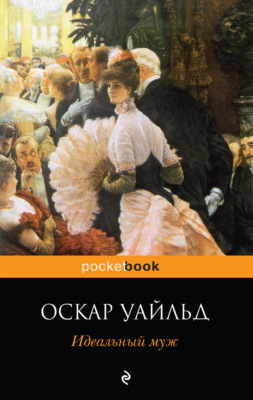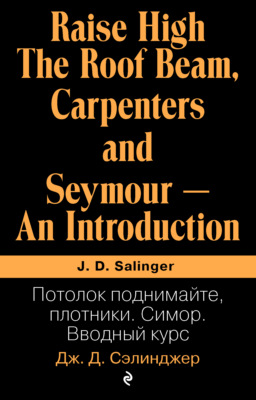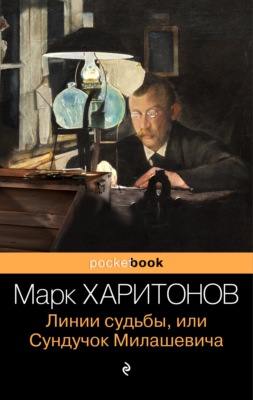Потолок поднимайте, плотники; Симор. Вводный курс

Kitob haqida
Повести «Потолок поднимайте, плотники» и «Симор. Вводный курс» входят в сэлинджеровский цикл о семействе Глассов и являются ключом к пониманию его «Девяти рассказов». Оба произведения посвящены фигуре Симора Гласса – старшего из семи братьев и сестер, философа и поэта, чье загадочное самоубийство взволновало не только членов его вымышленной семьи, но и реальных читателей по всему миру.
Повествование проникнуто духом дзен-буддизма и нонконформизма, и, процитировав мудрого Бо Лэ из даосской сказки, которую ночью читают братья Гласс своей десятимесячной сестре, можно описать творчество самого Сэлинджера: «Постигая сущность, он забывает несущественные черты; прозревая внутренние достоинства, он теряет представление о внешнем. Он умеет видеть то, что нужно видеть, и не замечать ненужного. Он смотрит туда, куда следует смотреть, и пренебрегает тем, на что смотреть не стоит».
Sharhlar, 17 sharhlar17
Книга о неспособности понять тех, кого ты любишь, тех, кто с тобой рядом. Ты можешь обожать любимого человека, молиться на него, сдувать с него пылинки, писать ему дифирамбы и оды, жертвовать для него всем и вся... а вот полностью ПОНЯТЬ, ты его не сможешь, как наверно и любого другого... и дело не в циничности и бездуховности того общества в книге (красивая и умная отмазка), и конечно не в дзен -буддизме (не фига нет никакого там буддизма) ... дело просто в нашей врожденной неспособности понять БЛИЖНЕГО...
О дохлой кошке и беспримерном коне
Выше стропила, плотники! Входит жених, подобный Арею, выше самых высоких мужей. Сафо
Бадди Гласс, я преклоняюсь. Настолько забыть о себе в описании нежно любимого Гения и Сверхчеловека, на котором свет сошелся клином, не удавалось даже Серенусу Цейтблому (а это серьезное заявление). Всегда подозревала, что для полного триумфа Манну не хватило подробного описания ушей или носа Адриана Леверкюна, − что ж, Сэлинджер вполне возместил для человечества эту горькую потерю. Но вообще я пошутила, конечно. Если вы думаете, что, открыв книгу «Симор: Введение» (которую я, например, готовилась читать лет восемь, все время помня про этого странного героя), вы на первой, пятой или двадцатой странице столкнетесь с подробным психологическим анализом или, чем черт не шутит, с подробным описанием носа Симора, то вас постигнет глубокое, глубочайшее разочарование, поскольку Бадди Глассу, особенно поначалу, с трудом удается писать хоть о чем-либо, кроме себя.
Это просто феноменально. Тут я уже не шучу. Читателю манера повествования Бадди, как бы это так сказать, дается нелегко, если только он не мазохист и не эстет в последней стадии, а также не планирует растянуть удовольствие от стостраничной книжки на месяцок-другой: полюбоваться знаменитым букетом первоцветов-скобок, прочитать описание трех типов студентов, которые достают университетских профессоров, или пространные размышления Бадди на тему того, здорово ли сорокалетнему человеку с такой нежностью описывать руки своего старшего брата, который уже десять лет как в могиле (мне одной кажется, что это риторический вопрос?), − прочитать пару страничек и на бочок, я хочу сказать, чтобы завтра, с удовольствием, еще по одной (по две, по три, по тридцать, если вам не дорог ваш рассудок, − мне, очевидно, не дорог).
Однако вы, может быть, не знаете, кто такой Симор и что он вообще делает в творчестве Сэлинджера? Так вот, спешу рассеять мрак неведения: Симор там трагически погибает. Нет, в самом деле. Во всем цикле о семье Глассов (том самом, без которого, как считается, нельзя ничего говорить о творчестве Сэлинджера, а лучше и с ним молчать, тем более что там все равно полный дзен) вы практически нигде не найдете живого Симора. Все о нем говорят, но никто его не видел. Точнее, видел, но давно. Главный повар, скажем так, по своей воле покинул пир жизни, а читатель его не застал, так что ему приходится довольствоваться объедками разговорами о Симоре других персонажей и его эпистолярным наследием (СЛАВАБОГУ, думает читатель, сталкиваясь с эпистолярным наследием Симора в... да практически где угодно, славабогу, наконец-то собственный голос Симора).
Я написала «практически нигде», потому что краем глаза увидеть живого Симора все-таки можно, есть такое исключение. Исключение составляет рассказ «Хорошо ловится рыбка-бананка» − тот самый, где Симор трагически погибает. В общем, вы, наверное, уже поняли, что это очень грустная история. (Зачем, зачем нам видеть живого Симора, кто это вообще, почему он так важен, почему так важен нос Симора, почему без носа Симора не понять творчества Сэлинджера, когда в миг сатори мне даже открылось, куда деваются утки с озера, когда оно замерзает, − словом, много, много выстраданных вопросов может возникнуть у вас, дорогой читатель, покуда я, как видите, подхватив вирус Бадди, разговариваю с химерами авторского воображения, но погодите-ка минутку, я постараюсь внести кое-какую ясность, хотя какая там ясность, конечно в наш-то век кали-юги.)
У нас сейчас Калиюга, брат, Железный век. И любой человек старше шестнадцати лет и без язвы − просто проклятый шпион. Дж.Д. Сэлинджер, «Зуи»
Симор (вообще имя Seymour очень хочется транслитерировать как Сеймур) − духовный наставник шестерых младших братьев и сестер, пишет хокку на четырех языках, включая японский (по этому поводу Бадди Гласс расскажет вам все, что он знает о китайской и японской поэзии, не сомневайтесь), воспитан на текстах даосизма и адвайта-веданты, много лет в детстве выступает в радиопрограмме, посвященной вундеркиндам, с девятнадцати лет преподает в колледже, читает древние притчи десятимесячной сестре, чтобы она не плакала в своей кроватке, и отказывается жениться, покуда он слишком счастлив (кажется, я только что спалила сюжет повести «Выше стропила, плотники...», вот печаль, − но, mon cher ami, цикл о Глассах ради сюжета читать не стоит, даже приступать не надо). Симор − это даосская гнедая кобыла, которая на самом деле вороной жеребец, но это неважно, потому что конь на деле не имеет себе равных. Поскольку это не моя метафора, а метафора Сэлинджера, которой он открывает свои самые «симоровские» произведения (то есть эти два), читатель может представить себе все сложности, с которым автор столкнется при попытке описания этого великого коня и человека. Он выходит из них блистательно. Блистательно. Спешу раскрыть секрет, всё гениальное просто: на сей раз Сэлинджер просто пишет все, что хочет, и не парится − отпускает, так сказать, бессознательное на волю, кормиться на просторных лугах своего воображения (то есть условной памяти Бадди Гласса). Читатель, тебе стало плохо, у тебя закружилась голова? Возьми, пожалуйста, этот букет первоцветов-скобок: (((()))), и, может быть, на бочок? А потом, конечно же, по новой.
Итак, замечательный, добрый, духовный, талантливый (Бадди Гласс намекает, что строго гениальный) Симор кончает с собой. Мы узнаем это сразу, причем в обеих повестях, даже если как-то не довелось прочесть «Рыбку-бананку»: Бадди Гласс, опять-таки, спешит нас просветить. Он так торопится это сделать, что, честно говоря, возникают нелестные предположения, что, будь Симор одним из его героев (Бадди − писатель), он, при всей нежной братской любви, кончил бы точно так же, если не хуже, ведь это же так трагично. Ведь благодаря этому факту, преподнесенному, так сказать, заранее начинается весь психологический детектив, единственный, собственно, сюжет внутриглассовского цикла-о-Симоре, который, может быть, послужит крючком для читательского интереса. Как так вышло, что Симор покончил с собой? (Убийца − садовник кали-юга молчите и хлопайте одной ладонью по пустоте.)
Не скрою, при первом просмотре «Симора: Введение» и воспоминании о прочих произведениях, посвященных этому «повелителю сэлинджеровских дум», меня весьма раздражала одна вещь (вполне возможно, что проблемы моего ума, но тем не менее), а именно − специфика понимания Сэлинджером философии Востока. Когда я читала его в семнадцать, это было − да. Ух! Даосизм. Буддизм. Дзен. Я вообще знаю очень много умных слов. Где уж мне, в мои-то годы, было понять, что же в точности происходит в его повестях (и рассказах, например в «Рыбке-бананке», на которую мой добрый друг-по-переписке тех лет отреагировал просто и безыскусно: что это было?) − я и не пыталась. Например, в рассказе «Тедди» мальчик кончает с собой. Или не кончает. Непонятно. В любом случае, он мог бы это сделать сегодня, а мог бы через несколько лет, так уж предрешено. Полный дзен. Я благоговейно ставила томик Сэлинджера на полку. Благоговейно снимала и перечитывала. Да это моя любимая книга была, зеленая такая. Непонятная, как сама жизнь. (Не к этому ли вообще стремился Сэлинджер?) Сперва утки и мятущаяся душа юного Колфилда, а потом полный дзен. И бедный Симор кончает с собой, напоследок поговорив с людьми, которые в лифте смотрят на его ноги.
− Я вижу, вы смотрите на мои ноги, − сказал он, когда лифт подымался. − Простите, не расслышала, − сказала женщина. − Я сказал: вижу, вы смотрите на мои ноги. − Простите, но я смотрела на пол! − сказала женщина и отвернулась к дверцам лифта. − Хотите смотреть мне на ноги, так и говорите, − сказал молодой человек. − Зачем это вечное притворство, черт возьми? Дж. Д. Сэлинджер, «Хорошо ловится рыбка-бананка»
Но прошли годы, и не то чтобы я постигла дзен, но эти слова в той или иной степени потеряли для меня тот магический ореол, который когда-то их окружал. И мне вдруг стали очень непонятны некоторые вещи. А именно: как человек, воспитанный на адвайте и даосизме и глубоко в этом укорененный может покончить с собой из-за, presumably, глубинного конфликта души с условиями западного общества? Открыть любимый Симором трактат «Чжуан-цзы», так там все просто: бросьте все и уходите. Скитайтесь по Просторам, Которых Нет Нигде. Будьте кривым деревом, которое не нужно ни одному плотнику, − дольше проживете, себе на радость. (После войны я хотел бы быть дохлой кошкой, развивает Симор ту же мысль в «Стропилах», потому что дохлая кошка − единственное, что не имеет цены.) А уж если к вам заявятся чиновники и предложат вам государственный пост, смело отправляйте их по известному адресу, потому что подлинная жизнь, жизнь того, кто не имеет души и следует собственной природе, не может, не должна быть скована ничем. Fine. Интеллект и воображение − два из восемнадцати качеств, которые препятствуют осуществлению жизненной силы. Адвайта же и вовсе − учение об отсутствии двойственности. Нет никакого конфликта и быть не может, поскольку конфликт − взаимодействие между тем и этим, а этого и того нет, есть только иллюзорная игра всеобщего единства. Я не философ и не даос, но мне кажется − может быть, если вы все это понимаете действительно глубоко, если это с детства рядом с вами и вы наставляете в этом целую ораву младших братьев-сестер, вы не будете стреляться оттого, что жена, которая, согласно ведам, должна духовно взрослеть рядом с вами, оказалась гламурной пустышкой, а неразвитые люди в лифте таращатся на ваши ноги? Может быть, вы просто улыбнетесь и будете жить дальше?
Так я думала, стараясь не судить, но не в силах понять. Я рассуждала приземленно, обыденно и здраво: может, дело не в столкновении человека и мира, может быть, у Симора просто было психическое заболевание, ведь недаром говорится, что к концу жизни, в 31 год, он практически облысел? А потом внимательно прочла «Введение». И поняла одну вещь об отношении Сэлинджера к своему герою, к своим героям вообще. И это, пожалуй, самая важная вещь, которая будет в этой рецензии.
Ты не можешь понять другого человека. Не можешь, как бы ни старался. Что извне позволит тебе понять другого, эй-эй? Психоанализ?.. Ох, Сэлинджер не любит психоанализ. Сэлинджер ОЧЕНЬ не любит психоанализ американского пошиба, такое чувство, что этот психоанализ когда-то очень ему насолил. Но вообще, в своем мире, он абсолютно прав, конечно. В его мире дело выглядит так: человек берет ржавую пилу и пытается с ее помощью понять структуру алмаза. Пока Симор не посетит психотерапевта, ты, Мюриель, не должна выходить за него замуж. Мама Мюриель хорошо все знает, ведь она много лет посещает психоаналитика-юнгианца и давно подозревает в Симоре гомосексуальные интенции, боязнь ответственности и то, что он убил Джона Кеннеди. Не то чтобы она всегда объявляла об этом всем окружающим, но раз уж так вышло, что Симор козявка и сбежал со свадьбы, то почему бы не поделиться. Это все «Выше стропила...», почитайте медленно-медленно, вас тоже начнет тошнить, потом рвать, потом вы заречетесь делать выводы о других людях и будете в ужасе хвататься за волосы, вспоминая свое болтливое прошлое, − в общем, очень благородное и воспитательное произведение.
Ты не можешь понять другого человека. Не можешь, как бы ни старался. Ты можешь его любить, и ты можешь попытаться сложить его из частей, как Франкенштейна: такие у него были волосы и такой нос (извините, кажется, страницы про нос поразили меня так, что я до сих пор опомниться не могу), он отлично играет в бильярд и теннис (вот такой у него любимый удар, мне никогда не удавалось повторить), а еще на нем плохо сидела одежда и у него часто была немытая шея, он перед парикмахером стеснялся. Потом он умер, да, я не знаю, у меня просто нет сил рассказывать про его последние годы, так что пусть на моих страницах он будет только ребенок и юноша. (Психологический детектив, читатель? В ... психологический детектив − ничего мы не узнаем, нам не расскажут.) Он еще говорил мне, что после смерти мне как писателю зададут только два вопроса: сияли ли все мои звезды и писал ли я так, что вся душа нараспашку. Так вот я сейчас пишу так, что у меня вся душа нараспашку, Симор.
... *музыкальная пауза: даосские монахи поют даосскую мантру*...
Ну не знаю я, чем это кончить, − поиграю в честного Бадди Гласса. Сэлинджер − знаток человеческих отношений, это самая мощная функция его психологического типа. Он берет эти человеческие отношения и просто, по мере роста своего как писателя, выходит в их описании за границы рационального. Он просто расшатывает любую логику понимания человека, в конечном итоге намеренно лишая логики свои последние произведения, переходя из сознательного в бессознательное (в американской литературе! это вам не Достоевский): это очень тонкое чувство, тончайшее нащупывание, да объясните мне уже кто-нибудь, в чем же все-таки смысл рассказа «Перед самой войной с эскимосами». Да, «Симор: Введение» читать практически невозможно из-за невыносимой рефлексии самого Бадди. Но кто вам сказал, что это не портрет Симора? Наблюдатель и наблюдаемое − это одно и то же. И не то чтобы я сейчас бросаю на ветер пошлый софизм, а просто это повесть о дохлой кошке. Но там нет дохлой кошки. Потому что никто не может описать дохлую кошку. Потому что дохлая кошка не имеет цены.
________________
P.S. Я читала «Симор: Введение» три дня. Я скрипела зубами, местами радовалась, местами поражалась точности наблюдений Сэлинджера насчет людей (наблюдения тоже дохлая кошка или кривое дерево, правда: попробуйте их куда-нибудь применить, они просто через цинизм, скорбь, отвращение, меткую шутку расшатывают привычные основы мировосприятия, спрашивают: что, правда? Правда так − или вы привыкли так видеть? А если отколупнуть вот этот кусочек скальпелем?) Я очень рада, что дочитала сие величественное произведение, теперь я поскорее понесу его в библиотеку и поставлю на полку, такой вот из меня читатель. (Зато я познакомилась через него с нереальным количеством Умных Английских Слов и изящных оборотов, тогда как стилистически на русском, по крайней мере при поверхностном взгляде на начало «Стропил...», дело как-то проще.) Но я знаю кое-что еще. Например, что восемь лет ожидания меня не обманули. Что эта книга всегда будет на меня влиять, потому что это такой пик моих читательских и авторских предпочтений, что даже я сама смотрю на него в ужасе, мвахаха. Что это запредельно нудное, тягучее произведение, как долгие планы Тарковского, переносит нас в другое измерение с другими свойствами внимания и другой его остротой. Что Сэлинджер наконец-то показал мне, как же нужно уметь понимать людей!
Никак. Можно смотреть − молча и внимательно. Сняв шапку и отдавая честь.
Любите и будьте счастливы.
В трёх словах: липко, жарко, печально
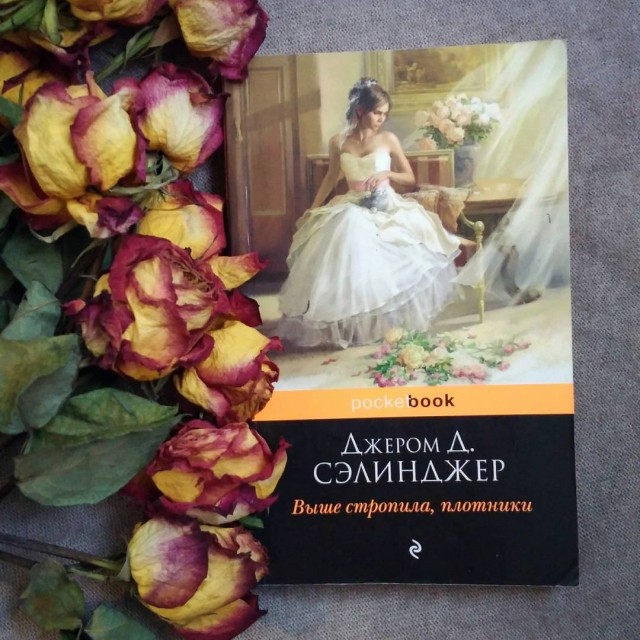 ___
Сэлиндер – мой любимый зарубежный автор. Так что всё, что описано ниже, моё субъективное мнение. Даже суб-субъективное.
___
Книга включает в себя две повести – «Выше стропила, плотники» и «Симор. Введение». Если честно, я запуталась в семейных «хрониках» Глассов, поэтому уже давно воспринимаю всех сэлинджеровских персонажей как отдельных людей в отдельных произведениях.
___
Я читала это произведение дважды. В первый раз – слишком рано, в пятнадцать. И (конечно!) ничего не поняла. В общем, взяв эту книгу недавно, я помнила только то, что главный герой болеет и ему жарко. Спасибо филфаку за то, что он познакомил меня с античной поэзией. Теперь творчество Сэлинджера я понимаю ещё больше. И ещё больше люблю (простите). ___
___
Сэлиндер – мой любимый зарубежный автор. Так что всё, что описано ниже, моё субъективное мнение. Даже суб-субъективное.
___
Книга включает в себя две повести – «Выше стропила, плотники» и «Симор. Введение». Если честно, я запуталась в семейных «хрониках» Глассов, поэтому уже давно воспринимаю всех сэлинджеровских персонажей как отдельных людей в отдельных произведениях.
___
Я читала это произведение дважды. В первый раз – слишком рано, в пятнадцать. И (конечно!) ничего не поняла. В общем, взяв эту книгу недавно, я помнила только то, что главный герой болеет и ему жарко. Спасибо филфаку за то, что он познакомил меня с античной поэзией. Теперь творчество Сэлинджера я понимаю ещё больше. И ещё больше люблю (простите). ___
О сюжете: Бадди Гласс едет на свадьбу к своему брату Симору. Для одних (семья Глассов) Симор – поэт, философ и удивительно глубокий человек, для других(семья невесты) – он неуверенный в себе подкаблучник с явным психическим расстройством. Свадьба срывается, день испорчен, всё ужасно, всё из-за Симора!.. И тут резонный вопрос: кем бы для вас был человек, который признался в том, что «слишком с_ч_а_с_т_л_и_в и потому венчаться не может»?.. Если хотите узнать свой ответ -- прочтите повесть. ___ Я люблю Сэлинджера не только за слог (читаю переводы Райт-Ковалёвой), но и за какую-то необъяснимую странность. Ты открываешь книгу, читаешь произведение, ничего не понимаешь, откладываешь его в сторону со словами "это бред". А потом вдруг осознаёшь всю суть, и тебе становится не по себе.
Все больше люблю и понимаю этого странного дяденьку-затворника. Ведь его эпопея о Глассах (написано не так много о них, но слово почему-то хочется употребить именно такое) по сути посвящена очень близкой мне теме: интеллектуальному неравенству, несовершенству мира, от которого всегда ждешь большего. Желанию зарыться в нору и никогда оттуда не вылезать, чтобы не объяснять людям то, чего они не в состоянии понять.
Семейство Глассов состоит из умников и умниц, эрудитов и философов. Надо выработать иммунитет к их гипертрофированной интеллектуальности, чтобы полюбить, иначе станешь относиться к ним, как с высоколобым снобам, как дерзкая и беспардонная подруга невесты из первой повести сборника, на чем свет стоит ругавшая сбежавшего со свадьбы жениха в присутствии его брата. Ну а Симор Гласс и вовсе - фигура мифическая, исполинская. Мы никогда не видим его в режиме реального времени, но повествование магическим образом крутится вокруг него одного. Для рассказчика, брата и писателя Бадди Гласса (с которым, возможно, Сэлинджер отождествляет себя) Симор был идолом, каждое крохотное воспоминание о котором он хранит и пестует со всех сторон, высасывая из него все возможные смыслы.
Сюжета в обеих повестях почти нет, но сколько магии момента, выраженной в охватившей Нью-Йорк жаре, в позвякивании льда в бокалах, в по-жизненному рваных и путаных диалогах и драгоценных страничках из дневника Симора, где он сам себе боится признаться, что выбрал совсем не подходящую, не дотягивающую до него по всем параметрам невесту... Всем людям сложно добиться того, чтобы их поняли, но в случае Глассов эта проблема достигает непомерных масштабов.
"Симор: Введение" неподготовленным читателям покажется бессмысленной кашей из выборочных субъективных воспоминаний и судорожно-философского потока сознания, но чем-то он завораживает, по-дзеновски уносит потоком вечно меняющейся реки, периодически спотыкаясь о камешки редких и тонких мыслей. Понять и вычленить все нужное с первого раза сложно, поэтому когда-нибудь явно придется перечитать. Уже чувствую, что еще соскучусь по чертовски умным и печальным Глассам и их Божеству - Симору.
"Она человек, навеки лишенный всякого понимания, всякого вкуса к главному потоку поэзии, который пронизывает все в мире. Неизвестно, зачем такие живут на свете. "
Я его не поняла. Ну вот так. Слишком долго ждала встречи, слишком многого ждала от встречи. Все началось с дурацкой песенки в каком-то из советских эстрадных шоу: "И какая вам забота в том, что у межи целовал кого-то кто-то вечером во ржи". Исполнители щеголяли ковбойскими сапогами и шляпами, а дамочки их обряжены были в корсажи с широкими клетчатыми юбками, отороченными кружевом и черные сапожки на каблучке. В общем кантри-кантри. И все вместе наводило на мысли одновременно об Америке и о поцелуях. И о чем-то запретном..
А потом услышала об этой книге. Или прочла где-то. Очень хорошо там о ней отзывались. и название. Ну просто мгновенно очаровало, "Над пропастью во ржи". Диковинным образом соединившее тех фривольных в корсажах с ароматной тяжестью черного хлеба, который обкусывала по кругу, неся домой. И поверх всего манящая жуть пропасти. И захотелось читать. Безумно.
Да только где ж найти? Советское время, книжный дефицит. И все, у кого спрашивала, мечтали прочесть, но ни у кого не было. А потом, как нежданный подарок, старший брат принес: "Классная книга, почитай". Любимый старший брат, из его рук и Карла Маркса, наверное, взяла бы с интересом. Схватила, предвкушая сбычу всех возможных мечт. И... разочаровалась.
Славный он мальчишка, Холден Колфилд, но совсем ребенок. И такой безответственный. То есть, ту высшую, надстоящую над банальным конформизмом, ответственность, какая дарит человеку мечту о том, чтобы ловить детишек, играющих над пропастью во ржи, не поняла. Наверное, она на самом деле гениальная, эта книга. Потому что с тех своих восемнадцати не перечитывала. А смысл сам собой вошел в меня, проявился временем. Как медленная улыбка на старом фото под действием проявителя.
Только убеждена была отчего-то, что Сэлинджер - автор одной книги. Тоже жертва банальной, на сей раз эрудиции. "Выше стропила, плотники" - его повесть. Существует, оказывается, цикл сэлинджеровских рассказов о многодетной семье актеров, таком прообразе общества Эпохи Водолея. Где все необычайно талантливы, умны, привлекательны внешне, реализованы и востребованы с раннего детства.
Питомник юных талантов, живущий по чуть иным, отличным от общепринятых, канонам. С большой внутренней связью между звеньями. У них и внешняя налажена лучше, чем у прочих. Да, сообщения обмылком на зеркале ванной. Прообраз локального интернета для одной отдельно взятой семьи. Нужно только знать, куда смотреть. И все так хорошо, но прожить жизнь внутри семьи никто ведь из них не собирается.
А когда выходят во внешний мир. Умные, талантливые, красивые, успешные, вот тогда и выясняется, что их жизненный уклад и стиль общения, и внутренняя общность, что это не норма, скорее отклонение. И все существует чуть по иным законам. И в целом, понятия не имеет о главном потоке поэзии, пронизывающем все на свете. Пошлость, вульгарность и убожество обретают конкретные имена и черты. Нет-нет, все не так плохо и всякий здесь приспосабливается, заводит собственный оазис. Чаще всего паразитирующий на чужих несовершенствах по типу: "они плохие, глупые, пошлые, я хороший, умный, тонкий").
Ангелы, изгнанные из рая. Или прогрессоры на Саракше. Это трудно, ловить детишек над пропастью во ржи. Невыносимо тяжело, когда изо дня в день. Почти как держать Землю на каменных плечах. Ты устаешь и уходишь до срока. Если не дал себе труда адаптировать понимание потока поэзии, пронизывающего все в мире к его собственному, звучащему под сурдинку. А если дал, остаешься. Незаметным. Умеющий ходить, не оставляет следов. Первое правило прогрессоров.
чудом. («Ведь мудрый каждый раз добивается успеха, но, приступая к чему-либо, полон нерешительности». – Книга XXVI, «Чжуан-цзы» 109 .)
поэтов-эксцентриков и – особенно в нынешние времена – множество одаренных стилистических уклонистов