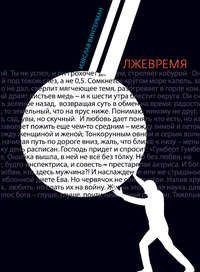Kitobni o'qish: «Лжевремя»
Shrift:
Лжевремя
Истинное время – это время творения,
время, пока стихотворение продолжается.
Только внутри него и стоит находиться.
«Снаружи падает снег, густеют сумерки,
и, в сущности, никто никого не любит…»
«Кто ночь прожил – вставать не хочет…»
Кто ночь прожил – вставать не хочет.
По горлу ветер – дверь закрой.
Ты не успел, и он грохочет
дождем, стреляет кобурой.
Он обгоняет все машины
и поворачивает вспять.
Гнёт правду ветер камышинный
под током слёз, а не 0,5,
смыкает крýгом море капель,
откатывает солнце вдаль —
где луч, как жалкий подражатель
тепла, которого не дал,
сверлит мягчеющее темя,
разогревает в горле ком.
…Неостановленное время
обвалится одним куском.
«Убивает другая жизнь, а вот эта…»
Убивает другая жизнь, а вот эта —
позволяет пожить еще
чем-то средним между зимой и летом,
между деревом и плющом;
Чем-то средним – между судьбой и долгом,
между женщиной и женой;
Тонкорунным овном и серым волком,
но в истории кружевной.
Отчасти
1
Господи, не дай мне умереть,
коли подарил земную шкуру.
Мне еще любить, еще мудреть,
мне еще искать свою Лауру!
Мне еще записывать слова,
что приходят ночью – отовсюду,
продлевая жизнь на миг ловя…
Обещаю: мучиться не буду!
2
Человек от радости не спит.
Засыпает от переживаний.
Крутит боль свою, как Вессон-Смит,
убивая с помощью названий,
для печали подобрав слова…
Радость рассчитается слонами.
А ему б проснуться – чёрта с два! —
вещими пожертвовать бы снами.
3
Ледяная пустыня вокруг.
Свет намерз вековой толщиной,
даже лунку в окне не продышишь.
Душит и отпускает… Напишешь
обо мне? – Правды нет никакой.
Только к небу прижмешься щекой,
и – теплеет, и будто не слышишь
зов пустыни ледовой – на юг!
«На яблочной диете Ева…»
На яблочной диете Ева.
Но червячок не спит внутри.
Налив хрустит, а бог разгневан:
«Послушай, а не говори —
тебе рожать детей, да в муках,
любить, но слать их на войну.
Жизнь это хитрая наука,
давай незнание верну…»
Ладонями закроет уши,
зажмурится с набитым ртом.
И голос бога – глуше, глуше,
почти невнятный обертон.
«Тяжелым цветением пахнет…»
Тяжелым цветением пахнет —
цветением ночи с тобой.
Так густо, насыщенно, так не-
возможно – что рядом любой
почувствует страхи и страсти,
бесстыдного воздуха ток.
И ветер – дыханием частым —
погонит клубы на восток.
И мы понесемся долиной —
по острым ее позвонкам.
Ты будешь водою вдоль линий
любви, проведенных по нам.
«Я видел, как стучал в стекло…»
Я видел, как стучал в стекло
и гиб наверняка.
От облаков его несла наклонная река.
А я – свободный от огня,
от цвета вод с небес.
От глаз, спешащих отогна-
ть его от гиблых мест:
не важно, суша ли оно,
железная ль вода.
Из божьих дел удалено
различие, уда-
лена немалая их часть —
нет слов и сил на них.
Стучал в стекло, так постучать
мог только ты и ник-
то другой.
«Ветер бросается на окно, весь сотрясая дом…»
Ветер бросается на окно, весь сотрясая дом.
Ужас выдавливая из нот, радующих потом.
Только что возненавидя свет и отключая слух —
ветер отыгран сто раз, спет, и наизнанку – сух.
Кто же увидел в нем дождь, снег, новых уродств боль.
Ветер бросается зол, слеп – вырвавшийся кобóльд.
Он обойдется без слов, ласк, день оборвав, связь.
Сколько бы ветром ты ни клялась, он в нашем окне увяз.
Диптих
1
Есть у нас дождик московский,
резкий, когда моросит.
Город светящийся, жесткий
диск на мгновенье висит
на волосках нервной ткани.
Светом пульсирует кровь.
Время в граненом стакане.
Грани играют любовь
к речи, пронизанной ртутью —
столбиком до сорока;
к речке – земли перепутью,
слишком земля широка;
к жизни – сухой или влажной
с вечной привязкой к местам.
Мир умирал, и не важно
что я сказал ему там,
что наливал ему – пили,
строчки какие читал.
…Если меня не любили,
значит, я сам перестал.
Bepul matn qismi tugad.
16 460,28 s`om
Janrlar va teglar
Yosh cheklamasi:
0+Litresda chiqarilgan sana:
31 avgust 2018Hajm:
17 Sahifa 1 tasvirISBN:
978-5-91627-175-1Mualliflik huquqi egasi:
НП «Центр современной литературы»