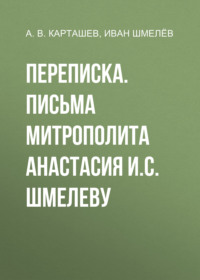Kitobni o'qish: «Переписка. Письма митрополита Анастасия И.С. Шмелеву»
«Наше сердце бьется эсхатологически»
Писатель Иван Сергеевич Шмелев (1873 – 1950) и богослов Антон Владимирович Карташев (1875 – 1960) познакомились в Париже в марте 1923 г. Возможно, это произошло в Республиканско-демократическом русском клубе или на каком-то литературно-общественном собрании. Каждого из них судьба привела в столицу русского рассеяния своим путем, у каждого имелся свой «багаж», свое прошлое, свои причины покинуть Родину и свои планы на дальнейшее существование. Шмелев выехал из России в творческую командировку, чтобы посмотреть Европу и набраться впечатлений для романа «Спас Черный». За плечами у него стояли голод в Крыму, разоренном новой советской властью, ужасы красного террора, расстрел горячо любимого сына Сергея. Карташев оказался в Париже с особой миссией – бороться с большевизмом, собирать «политические силы эмиграции под прежним знаменем в виде Русского национального комитета». Ему, видному церковному деятелю, на протяжении 1917 г. довелось примерить роль министра исповеданий в правительстве А.Ф. Керенского, открыть Всероссийский церковный собор, восстановивший патриаршество, и отсидеть несколько месяцев в тюрьме. Чудом он избежал смертной казни после освобождения в 1918 г.; жил нелегально в Москве, состоя одновременно членом Высшего церковного совета при патриархе Тихоне и членом антибольшевистской политической организации «Левый центр». Затем был побег в Финляндию под новый 1919 г. и организация в Гельсингфорсе «Политического совещания» при генерале Юдениче.
Подружились два человека из разных культурных пространств и общественных сфер. Шмелев – коренной москвич, из купеческого сословия, выпускник юридического факультета Московского университета, писатель-реалист, поддержанный А.М. Горьким и печатавшийся в его сборниках «Знание». А Карташев был выпускником Духовной академии; симпатизировал петербургской богемной среде с ее богоискательством и даже состоял в свободной «церкви», учрежденной четой Мережковских; занимал должность председателя религиозно-философского общества. Роднило их нечто более глубокое, скрытое под наслоением образования, профессии, усвоенных идей и мнений. Шмелев это остро почувствовал и выразил в одном из своих ранних писем, адресованных Карташеву: «Вы – от народа. Я – от народа, тоже. Одного теста с ним, одной персти, одного солнца, одной мякины и одного и того же духа, навыков предков, связанные общей пуповиной с недрами всей жизни русской, с духовными и плотскими, мы – лик народа, мы – его выражение! Мы, лишь благодаря окультуриванию, обдумыванию, образованию, – лишь более яркое лицо его» (наст. изд., с. 31). Автобиография Карташева содержит некоторые сведения об истории его рода: «Семьи со стороны отца и матери были из крепостных крестьян туляков, получивших на Урале звание “горнозаводских рабочих”… Прадед – … был управителем завода, дед – помощником казначея, и отец (род. в 1845 г.), прошедший еще Николаевскую двухклассную министерскую школу и вышедший только 16-ти лет (1861 г.) из состояния раба, стал, с введением Земства, волостным писарем, затем земским гласным, и, наконец, с 1879 г. членом Земской управы. Семья переселилась в Екатеринбург… Пафосом семьи было “выйти в люди” путем образования» (Автобиография Антона Владимировича Карташева // Вестник РСХД. 1960. № 58–59. С. 57). Шмелев также происходил из землепашцев, ставших московскими предпринимателями: «Прадед мой по отцу был из крестьян Богородского уезда Московской губернии. В 1812 году он уже был в Москве и торговал посудным и щепным товаром. Дед продолжал его дело и брал подряды на постройку домов <…> Отец <…> занимался подрядами: строил мосты, дома, брал подряды по иллюминации столицы…» (Шмелев И.С. Автобиография // Собрание сочинений: В 5 т. T. 1. С. 13).
Тема русского крестьянина, его участие в революции 1917 г. обсуждалась в переписке Шмелева и Карташева. Поводом послужила брошюра Горького «О русском крестьянстве», изданная в 1922 г. за границей (Берлин). Миф о ленивом и диком русском мужике получил в ней полное оправдание. Для Горького Россия представляется огромной равниной, на которую брошен земледелец, в чьем сознании продолжают жить инстинкты кочевника, поэтому свой пахотный труд он воспринимает как наказание. С детства он затвердил себе сказку о некоем «Опонькином царстве» с кисельными берегами и молочными реками: «Русский крестьянин сотни лет мечтает о каком-то государстве без права влияния на волю личности; на свободу ее действий – о государстве без власти над человеком» (Горький М. О Русском крестьянстве. Берлин: Изд. И.П. Ладыжникова, 1922. С. 6). Пробовал Горький искать доброго и милосердного мужика, описанного русской литературой, и нашел хитрого и жестокого собственника земли. Революция вскрыла в нем все его пороки: равнодушие к голодающим, ненависть к образованию и прогрессу. Не обнаружил Горький в народе и капли набожности: никто якобы не бросился защищать церкви и монастыри от разграбления и осквернения, равнодушием отреагировали на закрытие Киево-Печерской и Троице-Сергиевой лавр: «Как будто эти центры религиозной жизни вдруг утратили свою магическую силу…» (там же. С. 29). Ненависть мужиков к городской культуре больше всего раздражала Горького. Ведь город – это творение рук образованных людей, интеллигенции, которая взялась за непосильное дело, за очищение, по его словам, «Авгиевых конюшен русской жизни». В книге Горького помимо жертвенно служащей народу интеллигенции нарисован еще один положительный образ. Русскому мужику противопоставлен европеец, энергично преображающий окружающую среду.
Брошюра Горького упомянута в письме Карташева от 6/19 сентября 1923 г.: «Разве в гнусной как все, исходящее от Горького, брошюрке его о русском крестьянстве нет уже подземных толчков грозящего взрыва изнасилованной интеллигентами народной души?» (наст. изд., с. 28). Карташев, очевидно, отмечая «толчки грозящего взрыва» в народе, ссылается на Горького опосредованно, через хлесткую рецензию на его книгу Е. Кусковой. Именно в ее статье продемонстрировано, как Горький, сам того не замечая, показывает удивительную смекалку мужика, приводя меткие народные изречения и мысли о революции: «Умный крестьянин понимает, что на земле “порядка нет”, может быть даже стал понимать, как этот порядок надо установить, может быть нам, образованным, важно было бы мнение этого сына пустыни и каторжного труда спросить, узнать, к этому все вести и этого добиваться, а мы только ставим штемпеля и приговоры: “Этот зверь, тот не годится, вот этот садист…” Другие собеседники Горького, тоже крестьяне, полностью развернули основную черту своего миросозерцания: и деловой практицизм. “Мне подковы надо, топор, у меня гвоздей нет, а вы тут на улицах памятники ставите – баловство это”. – “Ребятишек одеть не во что, а у вас везде флаги болтаются”. – “Если бы революцию мы сами делали, давно бы на земле тихо стало и порядок был бы”…» (Кускова Е. Максим Горький о крестьянстве // Крестьянская Россия. Прага, 1923. С. 213). Кускова встала на защиту крестьян, обвиненных Горьким в звериной жестокости: для нее понятны и объяснимы их грубые действия по отношению к городским людям, отнимающим у пахаря плоды его труда. В доказательствах Кусковой слышится насмешка над Горьким, смотрящим на крестьян через искажающие их облик очки.
Шмелев полемизировал с Горьким, обличая его неправоту, в своей статье «Убийство», носившей первоначально название «Гной революции». Для него народ – неразумный младенец, соблазненный на дурное интеллигенцией. Эти «сторонники национализаций, конфискаций, деклараций», употреблявшие звонкие и дурманящие простой люд слова, по убеждению писателя, с первых же дней революции, легко им давшейся, потеряли из виду живое лицо родины – России. Они искажали русскую историю, выбирая из нее факты способные «раздражить народные массы». Им хотелось «растревожить темное народное море, поиграть на его волнах». Шмелев указал на их учителей, не знавших России («Маркс и Энгельс, Либкнехт и Адлер, Плеханов и Чхеидзе, Чернов и Церетели, Рамишвили и Ленин, Троцкий и Радек, Роза Люксембург и Клара Цеткин…»), и напомнил о забытых ими гениях русских (Пушкин, Гоголь, Аксаков, Достоевский, Толстой, Чехов, Ключевский, Соловьев, Данилевский, Пирогов, Менделеев), для которых народ был не «винтиком», а «сутью их жизни». Интеллигенция принесла в народ злобу и ненависть, разложила его духовно, жестокость не является национальной чертой русского мужика, как старался убедить Горький. Естественно, Шмелев не возлагал вину за гибель России на всю русскую интеллигенцию, а только на выросший в ней «чертополох», революционную ее часть. Помимо людей без родины, народных растлителей, есть «великие охранители», «люди большого духовного напряжения».
Художественным откликом Шмелева на горьковскую брошюру можно считать рассказ «Два Ивана». Изображены две силы русской истории в образе учителя Ивана Степановича с народнической закваской и дрогаля (извозчика) Ивана. Их столкнула война 1914 г.: оба они «подгоняли к войску воловьи гурты». Иван Степанович, бывший начальником над Иваном-дрогалем, внушал ему, что после войны возможны государственные перемены, что «разольется стихия», перед которой все бессильно. Дрогаль понимал грядущие свободы только в границах своего хозяйственного расчета: появится лишняя земля и скотина, у семьи вырастет доход. От войны он нажил себе небольшой капитал. Учитель заработал чахотку. Февральская революция принесла Ивану Степановичу разочарование в народе, не случилось чудесного «обновления». Простые люди ждали дополнительных материальных благ, не слушая речей о каком-то абстрактном счастье. К обедневшему учителю они отнеслись немилосердно: потоптали и обворовали огород, скупили по дешевке остатки его вещей. Как будто бы Шмелев иллюстрирует слова Горького о безжалостности крестьян к голодным интеллигентам, работавшим для их просвещения. Но у Шмелева – своя линия, он подводит к иным, чем Горький выводам. Он не «обсахаривает», не идеализирует мужика, показывая его грубость. Писатель иронизирует над Иваном-дрогалем и тем не менее уважает его здоровый практицизм, которым не обладает учитель. Беда Ивана Степановича сродни ошибкам Горького и заключается, согласно Шмелеву, во внутренней слепоте, в неумении видеть, где скрывается истинное благо народа, а вместе с ним и целой России. Еще в 1918 г. в Москве, под впечатлением от разорения огромной и сильной страны, он набросал начало статьи, обозначив тот стержень, на котором держалась вся мощь российского государства, – мещанство. Ненавистное демократической интеллигенции, в первую очередь Горькому, и обозначающее на ее языке ложь, лицемерие, спокойную сытость и косность, мещанство было оправдано Шмелевым, отмыто от позорного клейма: «Мещанство! Этот удобный ярлык часто прикрывал безучастность и пустоту, бездельничанье и болтливость, пустопорожнее созерцание небосвода и грязь на собственных сапогах. Этим словом часто били с гордым и святым видом скромных делателей жизни, от которых питались сами; этим словом оперировали в общественности так же, как и в искусстве, прикрывая свою беспочвенность и бескровность, часто даже бездарность <…> “Итак, что же”, – скажут иные многие, – “от высот духа к мещанству?” Нет, не от высот духа – ибо мы никогда на этих высотах не жили. Истинные высоты духа создаются на основе материальных ценностей, на всем том, к чему сплошь и рядом привешивался ярлык мещанство. У нас же и материальной культуры не было, ибо нельзя географические точки великой равнины – жизни русской считать крепкой опорой культуры духа. Это и показал тот кровавый пожар, тот разгром, что еще идет мутными волнами по этой равнине» (ОР РГБ. Ф. 387. Оп. 8. Ед. хр. 23. Л. 4). Под мещанством понимается вся материальная культура, бытовое начало, почва. Шмелев любил изобилие, созданное либо природой, либо руками человека. Его письма Карташеву с дачи Буниных в Грассе наполнены восторгом от увиденных им на юге Франции сытости и довольства. Свой рассказ «Въезд в Париж» (1926) он почти целиком посвятил описанию витрин французских магазинов. Разумеется, это отражает шик парижской жизни и потребовалось для наполнения рассказа ее атмосферой, но дало о себе знать и пристрастие самого писателя к разнообразию и красоте быта.
Молодое поколение эмиграции в лице поэта А. Туринцева провозгласило мещанство своим лозунгом, только назвало его почвенностью. Туринцев в своем очерке «Неудавшееся поколение» заявлял, что он и подобные ему, сражавшиеся за свою Россию в рядах Добровольческой армии, принадлежат к «почвенникам», а «отцы», старшее поколение эмиграции – это «культурники». Ему, закаленному на фронтах гражданской войны, кажутся нелепыми идеалы «старших», их «звездные постройки», с которыми не стала считаться революция и развалила их: «Молодое поколение, не успев пережевать, как следует, высокие идеи, не дочитав спасительной литературы, попало жизни в лапы, под тяжкие удары» (Туринцев Александр Неудавшееся поколение // Дни. 1924. 5 сент. С. 2). На место «возвышающих обманов» предлагается поставить «низкие истины», т. е. что-то жизненное и реальное. Если возникнет необходимость расстрелять, считает Туринцев, будет лишним рассуждать о гуманности. Пока старшее поколение устраивало вечер «Миссия русской эмиграции» (проводился 16 февраля 1924 г. при участии Шмелева, Карташева. Бунина и др.), молодежь отрицала свое мессианство, собираясь заниматься только своей личной биографией: «Мы не осудим за “мещанское счастье” тех, кто свое благополучие ставит выше мессианских целей или счастья будущих поколений <…> Нет, мы не “соль земли”, не лучше России. Здесь в эмиграции мы не высокую “миссию” выполняем, а возмездие несем» (там же. С. 3).
Газета «Последние новости», представлявшая левое крыло эмиграции, восприняла «исповедь» Туринцева с возмущением и сразу поставила ему диагноз: «потрепанные нервы». Испугала жесткость и прямолинейность его высказываний, вызвавших у редакции газеты ассоциации с «разоблачениями» В. Шульгина, который предлагал в своей книге «Дни» (1922) применять для усмирения народа пулеметы. Туринцева пожалели и направили на излечение от безыдейности с напутствием: «Не надо возвышаться над родиной и придавать своей “миссии” мистическое значение. Но не следует и доходить до излишнего самоуничижения. У эмиграции есть миссия… сделаться как можно в большей степени “солью земли”. Этой “соли”, увы, слишком мало осталось в России» («Реализм» потрепанных нервов // Последние новости. 1924. 7 сент. С. 1).
Карташеву, по-видимому, тоже не понравилась самоуверенность Туринцева, еще не знающего, как созидать будущую Россию, но убежденного, что справится с этим лучше «отцов». Он предполагал использовать молодежь в качестве динамита для расчищения поля под строительство. Шмелев не поддержал его мнение о «детях»: «Молодежь не только орудие для чистки и завоевания: её необходимо привить!» (наст. изд., с. 18). Он с горячностью принялся защищать Туринцева и подобных ему в статье «Болезнь ли?» Свою служебную карьеру Шмелев начинал помощником присяжного поверенного и взялся быть адвокатом со знанием дела. Из его «речи» следует, что Туринцев совершенно здоров и не лишен идеалов, они у него те же, прежние, только с новой начинкой: «Здесь… новое исповедание веры, новое мироотношение, – иначе и быть не может. В огне войны и революции должно было многое сгореть, отжечься и отлиться. Или “отцы”, вера которых в движение обновления – краеугольный камень их сущности, так самодовольно-самолюбивы, что лишь за собой признают право на эволюцию, как и на… революцию?! Тут подлинная революция склада русской души, новая поросль от корней родины» (Шмелев И.С. Собрание сочинений. Т. 7. М.: Русская книга, 1999. С. 356).
Помимо самоукорения, гневных обличений, бросаемых самолюбивым «отцам», желания потягаться с либеральными «Последними новостями» во главе с П.Н. Милюковым, помимо политики и злобы дня, в шмелевской публицистике звучит чистая библейская струна. Ему представляется уже не грядущая Россия после апокалипсиса революции, а, как Иоанну Богослову, «новое небо и новая земля». Это религиозное переживание исторических событий очень сближало Шмелева и Карташева.
«Наше сердце бьется эсхатологически», – восклицал Карташев в своей статье «Пути единения», несомненно, внимательно прочитанной Шмелевым. В этой статье, опубликованной в 1923 г., Карташев рассматривал русскую революцию как явление не только земного, но и духовного порядка. Большевизм, по его убеждению, возник вследствие религиозно-нравственного падения европейской цивилизации: «Это – прямой и законнорожденный плод ее богоотступничества и отрыва от Церкви, плод религии гуманизма» (Карташев А. Пути единения // Россия и латинство. Берлин, 1923. С. 142). Человек не создан автономным, продолжал он, можно быть либо с Богом, либо выступать против Него. Поэтому и коммунизм в России «не есть только ужас позитивного порядка», у него конкретное значение – демонизм. Богослов призывал христиан всего мира сплотиться против Царства Антихриста, воплощенного в СССР. Нейтралитет европейских держав в отношении советской России, считал он, несет очередной обман и оборачивается борьбой с христианством.
Эсхатологическое биение сердца изображено Шмелевым в плеске волн Океана. Шум мерно набегающих валов напоминал ему ритм вечности и вдохновил на создание цикла очерков «Сидя на берегу», написанных летом-осенью 1924 г. в Ландах и опубликованных в июне-октябре 1925 г. Из «небытия» проступают перед читателем виденья: огромный московский крестный ход и величественный храм Христа Спасителя, внушительных размеров богослужебное Евангелие в золотом окладе и вынесение креста в праздник Крестовоздвижения. Будто бы это воспоминания автора, а будто бы виденья иного, мистического порядка. Крестный ход движется не по Москве, а в стенах Небесного Иерусалима, служба проходит не в реальном храме, а в надмирном. Раскрытое на престоле Евангелие – это апокалиптическая Книга Жизни и одновременно книга, в которую записаны страдания России, ее крестный путь. Символы и образы шмелевских очерков навеяны словами Карташева о «национальном граде» и о чудесном воскресении России из письма от 6/19 сент. 1923 г.: «И голос крови уже вызывает к жизни к небу восходящую цепь духовных восторгов, проясняющихся народу в виде сладчайших и священнейших видений национального града, мелькнувшего в прошлом, сокрытого где-то и грядущего обязательно, неизбежно, насущно, наверно, ибо жить без этого народу бессмысленно» (наст. изд., с. 27). Но «Сидя на берегу» не следует воспринимать как иллюстрацию к мыслям богослова, в них есть биение своего «пульса» в унисон «ритму» карташевских дружеских бесед, статей, писем.
С 1926 г. в Париже стал выходить еженедельник «Борьба за Россию», в издании которого Караташев принимал активное участие. Почти каждый номер содержал его очерк, воззвание или статью. Своими темами и образным строем эта публицистика перекликалась со шмелевским циклом «Сидя на берегу» и примыкающими к нему рассказами писателя. Например, публично поздравляя эмиграцию с Пасхой Карташев так же, как и Шмелев в очерке «Золотая книга», отождествлял страдания, выпавшие на долю России, и дальнейшую судьбу Родины с евангельскими событиями – муками, голгофской смертью и воскресением Спасителя: «Жива “сошедшая в ад” Россия, вот-вот слетит бессильная, глупая печать, отшатнется трусливая “Пилатова кустодия”, и исполин – свободный народ восстанет к новой преображенной жизни. Это уже не вера, а знание» (Карташев А. Христос Воскресе! // Борьба за Россию. 1927. № 22. С. 1).
Желание погрузиться в небытие, удалиться в область дорогих сердцу видений, скорбеть о поруганном лике прошлого не мешало ни писателю, ни богослову пристально следить за политической обстановкой в мире, обсуждать эмигрантские дела, болезненно реагировать на вести с родины. Среди прочих вопросов особое значение для них имел один, очень важный – отношение иностранцев к России. В еженедельнике «Борьба за Россию» ему была посвящена отдельная рубрика. Шмелев художественно исследовал в очерках «Сидя на берегу» и рассказе «Птицы» природу мышления иностранцев. Его анализ начинается с изучения запахов, красок, мельчайших оттенков, с приглядывания к поведению детей, собирающих устриц. Кругом ему открываются различия между своим, привычным с детства, и чужим, европейским: краски природы то чуть ярче, то чуть бледней, чем на родине; французским детям не хватает «шустрого любопытства, усмешки плутоватой, бойкой» русских ребятишек. Но главное, что бросается в глаза писателю, – это способность иностранцев извлекать пользу из таких вещей, которые русскому человеку служат предметом бескорыстного любования. Красавицам-соснам наносят увечья, чтобы добывать из них смолу. Маленьких перелетных птичек отлавливают целыми стаями, чтобы продавать в рестораны на съедение французским гурманам. Ловля пеночек и жаворонков вызывала в Шмелеве внутренний протест против таких извращенных заграничных вкусов. Негодование вылилось у него в рассказ «Птицы», в конце которого воспет простой русский мужик, бережно относящийся к Божьей твари: «Я почти знаю, что не увижу больше в родной земле по-детски ласкового, кроткого сердцем Касьяна с Красивой Мечи… не встречу мужиков перед шалашами, босых, сильных, в белых рубахах, широким крестом крестящихся на подымающееся солнце и с простодушной улыбкой, с наивно-радостными глазами прислушивающихся, подняв лицо, как высоко в светлом небе звонко играет жаворонок, чуемый только блеском…» (Шмелев И.С. Собрание сочинений. Т. 2. М.: Русская книга, 1998. С. 184).
Шмелев не мог пройти в своем творчестве мимо волновавшей каждого русского эмигранта темы – хищнического отношения иностранцев к России. Неоднократно со страниц того или иного эмигрантского печатного органа слышались упреки в адрес премьер-министра Великобритании Джеймса Макдональда, заявившего в 1924 г. о признании советского правительства, потому что это содействует английским национально-экономическим интересам. Например, передовица газеты «Дни» с долей иронии признавала право англичан заботиться о своей выгоде и тут же обличала их в вероломстве и бесчувствии к национальной трагедии русского народа: «Но… глубокое безразличие английского народа к Голгофе русской; безразличие, заставляющее Макдональда публично сомкнуть уста пред всем ужасом русского террора, наполняет наши сердца великой печалью» («600» // Дни. 1924. 24 апр. С. 1). Шмелев поддержал этот протест «Дней» в своей статье «Глаза открываются», а в очерке «Russie» в сжатой форме представил полный спектр мнений Запада о России: страх большевистской заразы, способной перекинуться на Европу; образ русского кочевника, рабски преданного царям и генералам; стремление «откусить» от богатой ресурсами земли. Он подслушал обрывки фраз из беседы француза с двумя англичанами о русских: «Чума, зараза. Азиаты. Никогда не было закона, никакой культуры. Рабы, язычники, людоеды. Царь и кнут. Пьяницы, дикие мужики, казаки. Царь всех казнил, любили всегда нагайку. Грязные животные! Понятия чести нет, нам изменили. Теперь дикари хотят разрушать культуру! несут заразу! Надо их научить культуре, надеть узду. Прекрасное поле будущего. Надо колонизовать, надо раздавить в зачатке…» (Шмелев И.С. Собрание сочинений. Т. 2. М.: Русская книга, 1998. С. 213). Это искаженное представление об отечественной истории и культуре, считал Шмелев, сложилось у иностранцев под влиянием русских социалистов.
Не сохранилось писем Карташева Шмелеву 1920-х гг., кроме единственного 1923 г.; трибуной для публичных выступлений богослова в этот период стала газета «Борьба за Россию». Помещенные в ней статьи Карташева подводили итог наблюдениям Шмелева за европейцами, за формированием в их сознании ложных мифов о России. Ни крайняя ненависть к большевикам, ни мечты об их скорейшем свержении не заставили богослова склониться к возможности иностранного вмешательства в дело освобождения Родины. «Только своими силами» – наставлял он в озаглавленной им так статье. Карташев лишь подтвердил прежде сказанное Шмелевым: «…иностранное представление об ужасах царского режима… и о благодетельности для России революции оказалось столь устойчивым, при культе революции в левых кругах вообще, что русская революция, хотя и в большевистском облике, представлялась явлением положительным, а борьба с коммунизмом рисовалась как ошибочное дело восстановления “царизма”…» (Карташев А. Только своими силами // Борьба за Россию. 1927. № 10. С. 3). Ослабление России при помощи большевиков, заключает Карташев, сулит большие выгоды другим державам, сбрасывая в прошлом мощную страну со счетов конкуренции и открывая путь к ее богатым недрам.
Общая беда и обида за Россию не вели эмиграцию к сплочению, споры и разногласия о ее будущем не утихали. Подрывал единение и церковный раскол между главой западноевропейских приходов митр. Евлогием (Георгиевским) и митр. Антонием (Храповицким), председателем Высшего церковного управления, ведавшим приходами в балканских странах, на Ближнем и Дальнем Востоке (американская церковь образовала свою автономию). Карташев подробно освещал суть этого конфликта внутри Русской Зарубежной Церкви. В его изложении причиной разногласий стали самолюбивые притязания митр. Антония на полную власть над всей русской церковной жизнью за границей и планы его светских друзей, настроенных на реставрацию монархии в России. Патриарх Тихон вначале признал необходимость существования ВЦУ, которое по приглашению патриарха Сербского обосновалось в Югославии, в городе Сремски-Карловцы. Но Антоний и его окружение втянули зарубежную церковь в политическую борьбу: члены архиерейского Собора, организованного ВЦУ в Карловцах в ноябре 1921 г., выступили за восстановление династии Романовых, в поддержку Белого движения и продолжения вооруженной борьбы с большевиками. После этого последовал указ патриарха Тихона об упразднении ВЦУ. Бывший Киевский митр. Антоний устранялся патриаршим постановлением от управления заграничной церковью и права передавались младшему по званию бывшему епископу Холмскому Евлогию, который возводился в сан митрополита. Карловатцы презрели все эти запрещения со стороны Москвы и после кончины Тихона провозгласили Антония его приемником. Митр. Евлогий (Георгиевский В.С.), митрополитогий был вынужден им подчиниться, как выражался Карташев, «по миролюбию и братскому сочувствию». Он согласился на компромисс и вошел сочленом в образованный карловатцами Синод как глава западноевропейского автономного округа. Эти автономные права постоянно нарушались сторонниками Антония, что и привело к расколу 28 января 1927 г., когда митрополит Евлогий был запрещен в священнослужении. Для Карташева власть Евлогия являлась канонически оправданной и законной, и он целиком его поддерживал. Тем более, что Евлогий основал Свято-Сергиевский богословский институт в Париже и не позволил превратить его в подобие консервативной Санкт-Петербургской духовной академии, как того требовал митр. Антоний. В этом новом учебном заведении, где были собраны преподаватели совершенно разных взглядов, царила творческая свобода, необходимая как воздух Карташеву. Он вел преподавание сразу на двух кафедрах – истории Церкви и Ветхого Завета.
У Карташева был свой идеал мудрого церковного деятеля – патриарх Тихон, память которого он свято чтил. В Тихоне он видел великого реформатора, освободившего закрепощенную Петром I Русскую Церковь из-под ига государства. Нужно отучать Церковь от давней привычки быть с государством, убеждал богослов, потому что она – «царство не от мира сего». Настоящая Церковь, по его мнению, должна следовать заветам Тихона, сторонившегося политики, соблюдавшего принцип невмешательства в светские дела. И такая Церковь еще осталась в СССР: «свободная, гонимая, мученическая, а не казенная протекционная, привязанная, по обывательской близорукости в политике, к трупу советчины» (Карташев А. Церковный вопрос // Борьба за Россию. 1927. № 41. С. 5). Подлинная Церковь, находящаяся по тюрьмам и ссылкам, противопоставлена Карташевым официальной, заключившей под руководством митр. Сергия (Страгородского) позорный союз с государством.
Каноничность и законность того или иного зарубежного митрополита не заботила Шмелева, в его компетенцию не входило разбираться в подобных вопросах. Он посещал приходы, управляемые Евлогием. По-человечески писателя больше привлекал митр. Антоний своими страстными проповедями против большевиков, своим негодованием и неравнодушием к беззакониям, творившимся в советской России. Рассказы Шмелева 1927-1932 гг. о мирянах и священстве, защищающих свою веру в СССР, не уступали по силе своего воздействия на читателя публицистике, печатавшейся в «Борьбе за Россию», на ту же тему. Карташев в своих статьях с радостью приводил факты капитуляции советской власти перед «народной церковью», т. е. перед глубокой набожностью простого русского человека. Описывал их и Шмелев, облекая в форму художественного повествования. В «Свете разума» (1927) дьякон алуштинской церкви убеждает людей в правоте православия старым дедовским способом – ледяным крещенским купанием, совершив которое, верующие выходят здоровыми, а «отступники» смертельно заболевают. Герой рассказа «Блаженные» (1927) слесарь Колючий отрекается от социалистического учения и начинает говорить по-евангельски после чуда, произошедшего с генеральским сыном. «Смешное дело» (1932) – насмешка над неумелыми стараниями безбожников доказать происхождение человека от обезьяны. Народная совесть, уцелевшая среди разлагающей душу большевистской безнравственности, дана в образе необычного праведника в рассказе «Железный дед» (1927).
Первое десятилетие беженства Шмелева было наполнено волнениями, переживаниями за судьбу России, бурной реакцией на происходящее в СССР. С наступлением 1930-х гг. он осознает до конца положение эмигранта, казавшееся ему вначале временным, и привыкает к этой неизбежности. Политика начинает мешать вызреванию его больших творческих планов. Он погружается с головой в воскрешение своей Святой Руси, создает циклы очерков – «Богомолье» и «Лето Господне», по праву вошедшие в литературную сокровищницу русского зарубежья. Его занимает теперь область духовной жизни человека, к которой он обращается в романе «Пути небесные». Только в романе «Няня из Москвы» Шмелев опять поднимает тему народа и интеллигенции, но она не имеет здесь прежней остроты, заглушена юмором и тонет в хитросплетениях фабулы.