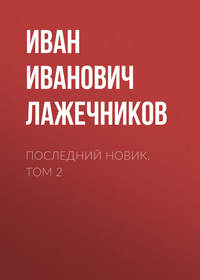Kitobni o'qish: «Последний Новик. Том 2»
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010
© ООО «РИЦ Литература», 2010
* * *
Часть третья
Глава первая
Исповедь дружбы
И страшен день, и ночь страшна,
И тени гробовые;
Он всюду слышит грозный вой;
И в час глубокой ночи
Бежит одра его покой,
И сон забыли очи.
Жуковский
Мы оставили русских на марше от пепелища розенгофского форпоста к Сагницу. Немой, как мы сказали, служил им вожатым. Горы, по которым они шли, были так высоки, что лошади, с тяжестями взбираясь на них (употреблю простонародное сравнение), вытягивались, как прут, а спалзывая с них, едва не свертывались в клубок. Вековые анценские леса пробудились тысячами отголосков; обитавшие в них зверьки, испуганные необыкновенною тревогой, бежали, сами не зная куда, и попадали прямо в толпы солдат.
Немой, ведя русских, потому что приказано ему было вести их, горевал при мысли, зачем такое множество людей идет на убой себе подобных. Но когда передовой отряд, при котором он находился, ворвался в корчмы, одиноко стоявшие в анценском лесу и служившие шведам отводными караульнями; когда раздались в них вопли умиравших или просивших пощады, он плакал, стонал, бросался в ноги к русским начальникам, обнимал их колена и разными красноречивыми движениями молил о жизни для несчастных или грозил, в противном случае, бежать и оставить войско без проводника. Ему возражали, что его самого убьют за побег, а он – обнажал грудь свою. Таким трогательным и смелым посредничеством спасена жизнь нескольким шведским солдатам, застигнутым ночью в корчмах. Редкие из них успели выпрыгнуть из окон и разбежаться по лесам. Страх придал легкости ногам их и предупредил русских в Сагнице.
Надо сказать, что эта мыза облокачивается к западу об гору, довольно далеко протягивающуюся, к северо-востоку смотрит нa ровные поля, а к полдню обогнута болотом, на коем ржавела еще в недавнее время осадка потопных вод. Ныне, когда человек неутомимо допытывает все стихии на свою службу, он выжал эти воды, отвел им пути, да не выйдут из них, и в первобытном, холодном их ложе добывает огонь для своих очагов и новые источники богатства. Пирамиды и квадраты земляного угля веселят взоры там, где, бывало, самое легкое животное не смело поставить ноги своей. В то время, которое описываю, была устроена по болоту узкая, бревенчатая гать, такая удобная и покойная, что езду по ней можно было сравнить разве с речью заики. По этой-то дороге утром шестнадцатого июля в беспорядке тянулся к Платору отряд шведский, испуганный вестью о приближении нечаянных гостей. Отважиться на бой неравный нельзя было и думать. Начальник отряда решился, в ожидании известий от Шлиппенбаха, перебраться в добром здоровье за Платор, разрушить там переправу, потом разрубить мост на Эмбахе и тем задержать, хотя на несколько часов, ужасную лаву, втекающую с такою быстротой в Лифляндию. Но едва успел он вывесть на гать огромнейший обоз с тяжестями, как показались у сагницкой кирки шапки татарские. Чтобы спасти отряд от поражения, оставалось бросить обоз и тем заградить неприятелю единственную за собою дорогу. Так и сделано.
Русский военачальник, не видя возможности немедленно начать боевой переговор с неприятелем и желая дать отдых войску, утомленному трудным походом, и приготовить его к решительному сражению, развернул многочисленные силы свои по пространству поля, как искусный игрок колоду карт по зеленому столу. Между тем выслал значительные отряды, чтобы занять мызу, осмотреть около нее все мышьи норки, очистить дорогу через болото и тем установить сообщение с неприятелем.
Крики торжества раздавались при расхищении обоза и мызы. Они отдались в стане, и тогда ничто не могло удержать войска, в нем оставшегося. Как при виде жертвы срываются гончие псы со свор своих, так понеслись на добычу тысячи разнородные и еще худо знакомые с дисциплиною. В несколько минут весь обоз разбит; а там, где стояла богатая мыза, возвышались одни безобразные трубы, как на пожарище, хотя она и не горела. Зато многие, перебивая друг у друга лучшие кусочки, иные из вещи ничтожной, сталкивали и увлекали друг друга с тесной гати в трясину, где усилия вырваться из нее еще более в нее погружали. Добычник и добыча, нападавший и защищавшийся равно погибали. Вид торчащих из болота рук, ног и голов, ужас и безобразие смерти на лицах утопленников, самая жизнь, беснующаяся в исступлении страстей, вопли радости, ругательства борющихся, хохот победы – все соединилось, чтобы составить из этого грабежа адский пир. С трудом могли высшие начальники унять его, тем более что некоторые офицеры сами подали пример беспорядка. Из числа попавшихся в трясину немногие вытащены из нее христианским состраданием товарищей.
День прошел в отдохновении. В стане молились, пировали, пели песни, меняли и продавали добычу. Офицеры разбирали по рукам пленников и пленниц, назначали их в подарок родственникам и друзьям, в России находившимся, или тут же передавали, подобно ходячей монете, однокорытникам, для которых не было ничего заветного.
К вечеру прибыл в стан и Паткуль без носа, разумею, красного, и без горба, разбросанных им по дороге, но, в замену, с планом гуммельсгофских окрестностей и с новыми средствами для мщения. С ним прибыло лицо новое для русских – верный служитель Фриц, а вслед за тем прикатила на своей тележке маркитантша Ильза. Она отлучалась на целые сутки из войска Шереметева для развоза вестей, которые нужно было Паткулю распустить по Лифляндии. Многих в это время заставила она горевать по себе.
Нынешний день она не в обыкновенном своем духе; она грустна и не может скрыть своей грусти. Ее не утешают подарки, отделенные для нее из военных трофеев. Ринген и месть одни в сердце ее. Она льет вино через край мерки, забывает брать деньги, ей следующие, или требует уж заплаченных, отвечает несвязно на вопросы, часто вздрагивает, говорит сама с собою вслух непонятные речи и без причины хохочет. Только Мурзенке старается она особенно угодить: ухаживает за ним, как нежная дочь; готова отдать ему даром все, что имеет на своей походной тележке, – и немудрено: Мурзенко, наверно, будет первый в Рингене.
Ночь на семнадцатое – последняя для многих в русском и шведском войсках. Как тяжелый свинец, пали на грудь иных смутные видения; другие спали крепко и сладко за несколько часов до борьбы с вечным сном. Ум, страсти, честь, страх царского гнева, надежда на милости государевы и, по временам, любовь к отечеству работали в душе вождей.
Было гораздо за полночь. Петухи, уцелевшие на развалинах Сагница, уже в третий раз перекликались с ночными стражами в стане русском. В шатре полковника Семена Ивановича Кропотова светился огонек. Грустный, измученный душевными страданиями и бессонницею, он сидел, согнувшись, на соломенном ложе. Черный пышный парик был снят с головы, и на обнаженной голове ветер, врывавшийся по временам в палатку, шевелил два серебряные локона, как иссохшие былия на могильном черепе. Перед ним на коленах лежала доска с листом бумаги (недавним указом запрещено было употреблять столпцы): это было духовное завещание. На краю его дописывал он последние строки. Крупные капли слез падали из помутившихся глаз его. Нередко прерываемый в своем занятии ветерком, силившимся потушить огарок, освещавший его труд, он охранял дрожащею рукою огонек. Кончив свой труд, долго, очень долго смотрел он с какою-то заботливостью на Полуектова, спавшего крепким сном в одной с ним палатке. Вдруг последний, вздрогнув, приподнялся с ложа своего, осмотрелся кругом и спросил товарища, он ли его спрашивал и что ему надобно.
– Сердце мое спрашивало тебя, – отвечал Кропотов, творя крестное знамение, – но голоса я не давал.
– Странно! – сказал Полуектов, тоже крестясь. – Меня кто-то во сне толкнул под бок тихонько, в другой раз шибче, в третий еще сильнее, у самого сердца, и проговорил довольно внятно: «Встань… друга режут шведы… поспеши к нему на помощь. Слышишь? Он зовет тебя». Но какой ты бледный, Семен Иванович! Опять-таки всю ночь не спал и опять что-то писал?
– Наверно, голос, тебя звавший, был голос моего ангела-хранителя. Да, сон твой не лжив; режут меня, только не шведы – собственные мои грехи. Помоги. Время для меня дорого. Скоро забелеет утро, может статься, последнее в жизни моей… и нашей беседе могут помешать.
– Что затеял ты нового, безрассудный? Мученик своих черных дум, ты везде видишь смерть или беды. Чего доброго! накличешь их.
– И та и другие идут без зова, Никита Иванович! Дни наши в руце Божией: ни одной иоты не прибавим к ним, когда они сочтены. Верь, и моему земному житию предел близок: сердце вещун, не обманщик. Лучше умереть, чем замирать всечасно. Вчера я исповедался отцу духовному и сподобился причаститься святых тайн; ныне, если благословит Господь, исполню еще этот долг христианский. Теперь хочу открыть тебе душу свою. Ты меня давно знаешь, друг, но знаешь ли, какой тяжкий грех лежит на ней?
Полуектов молчал.
– Нет, никакими страданиями, никакими молитвами не искуплю своего преступления! Как тяжелый камень, лежит оно на сердце моем, давит мне грудь, не дает на миг вздохнуть свободно.
– Искупитель простил и разбойника, а ты…
– Хуже его! Ведай, я погубил свое родное детище.
– Не может статься, Семен Иванович! Ты не в уме своем; ты клеплешь на себя напраслину.
– Нет, друг, воистину говорю тебе, как духовнику своему: я погубил свое детище, и за это наказал меня Бог. Из многочисленного семейства не осталось у меня никого на утешение в старости и по смерти на помин души.
Он вынул письмо из кожаной сумочки, висевшей у него на груди вместе с крестом, дрожащими руками подал письмо Полуектову и произнес могильным голосом:
– Этот подарок пришел ко мне третьего дня вечером от старушки жены из Москвы; прочти и суди, мог ли я вчера утром быть половинщиком в вашем веселии?
Полуектов читал послание с каким-то внутренним судорожным чувством; видно было, что он снедал грусть свою.
– Последнего! – произнес Кропотов голосом отчаянной скорби. – Хоть бы одного Господь оставил – не мне – престарелой матери опорою и кормильцем. Но… прости мне, боже мой! мне ль роптать на тебя, неизреченное милосердие? Ты наказываешь меня.
– Последнего! – повторил Полуектов, качая головой; слезы заструились по щекам его. – И мой пригожий, разумный крестничек. Сеня!.. А мы ждали уже его на смену отцу!
– Он служит теперь Царю Небесному.
– Велико твое испытание, Господи! Наслал Ты тяжкие раны на сердце моего доброго Кропотова.
– Ведомо тебе, что двух еще прежде взял он сам. Тот, кому владыки земные противиться не могут. Но ты не знаешь: у меня был четвертый – и того я сам погубил. Я… продал его! Ты смотришь на меня с удивлением и ужасом, ты не веришь, чтобы христианин мог продавать свое родное детище? Но это было так!.. Перед тобой торгаш своими кровными – этот ваш вчерашний верный слуга царский, добрый, нежный отец, православный христианин! Ты все глядишь на меня и сомневаешься, как могла земля до сего времени носить такое чудовище? Да, меня носила она, как мать мертвого, гнилого младенца во чреве, пока ей не пришло время разрешиться от мерзостного бремени. За сколько, думаешь, продал я его?.. Нет, не скажу, не смею сказать; ты на бумаге (он указал на лист) лучше все увидишь. О! эти таланты пришли мне дорого, как Иуде-предателю!1 А ведаешь ли, кому я продал свое детище? – Коварной Софии Алексеевне! От нее перешел он к отступнику православной веры князю Мышитскому, а от него прямо – к палачу. Как они все пестовали его, как лелеяли!
– Успокойся, друг! Ты с горя мешаешься в уме.
– Нет, я в полном уме, я говорю тебе правду. Знавал ли ты последнего Новика?
– Мало, но знавал.
– Кто он такой был?
Полуектов молчал.
– А! этого и ты не знаешь? Последний Новик, воспитанный царевною Софиею, умерший на плахе, – сын мой.
– Я это слыхал, но не верил…
– Знаю, не ты один слышал и не верил! Такого чудовища на Руси, как я, не было и не будет. Диво ли, что веру не имели к этим слухам? Так знай же: последний Новик был сын, законный сын русского боярина, Семена, Иванова по отце, Кропотова.
Вдруг мутные глаза Кропотова неподвижно уставились против входа в палатку.
– Видишь, – вскрикнул он, – голова моего несчастного сына и теперь висит на перекладине; видишь, как с нее каплет кровь преступника!..
Трясясь, закрыл он глаза руками и упал на солому.
Ординанц2 вошел в это время в палатку и доложил Полуектову, что его требует к себе фельдмаршал. Получив ответ, он вышел.
– Горе помутило твой разум, – сказал Полуектов, поднимая своего товарища, – голова ординанца показалась тебе бог знает чем. Успокойся; отчаяние величайший из грехов. Кто ведает? может статься, обман… тайна…
– Обман! тайна!.. Какая тут тайна? Hе воры же ночью их унесли. Господь, сам Господь двух положил перед глазами матери их: мать не могла же ошибиться в своих детищах. Обман!.. Ге! что ты мне говоришь, Никита Иванович? Она сама обмывала их тела, укладывала в гробы, опускала в землю. Правда, четвертый был тайна для многих; но и того обезглавленный труп мать узнала и сама похоронила.
– Успокойся… хоть ради Христа-спасителя, пострадавшего за наши грехи.
Полуектов оделся.
– Я совсем одет и иду, – сказал он, – фельдмаршал требует меня к себе. Может статься, пошлют меня в передовые. Ты просил меня о чем-то?
При этих словах Кропотов очнулся; он посмотрел на друга с сожалением, будто хотел сказать: зачем шлют тебя? Потом взял бумагу, которую писал, сложил ее бережно, перекрестился и, отдавая ее Полуектову, примолвил:
– Возьми это духовное завещание и, если меня не станет, будь хоть ты моей старушке кормильцем и сыном, будь поминщик по душам нашим.
Полуектов взял бумагу, спрятал ее осторожно в боковой карман мундира, помолился перед медною иконою, висевшею в углу палатки, прижал друга к сердцу, еще крепко прижал его, и – оба заплакали. Семен Иванович надел епанчу и проводил друга за шатер.
Заря уже разыгрывалась по небосклону.
– Посмотри, – сказал Полуектов, – как хорош божий мир!
– Хорош таков, каким Господь его создал, а не таков, каким сделали его грехи наши, – отвечал Кропотов, вздыхая.
Друзья обнялись еще раз и молча простились.
Полуектов отправился к фельдмаршалу и не возвращался более в шатер свой. Действительно был он назначен в авангард. Семен Иванович с каким-то предчувствием проводил его глазами по дороге в Платор и послал за своим духовником.
Через полчаса по всей армии затрубили побудок; барабанный бой перекатился по всем линиям – и пятидесятитысячное русское войско, помолясь Отцу Всеобщему и вкусив насущного хлеба, тронулось и загремело по гати. Знамена развеялись, гобои, трубы, литавры и фаготы зазычали, и песни, без которых русский нейдет на веселье и на горе, на торжество и на смерть, раздались по полкам.
Глава вторая
Битва под Гуммельсгофом
Кому-то пасть?..
Пушкин
Как прекрасно встало солнце семнадцатого июля! Будто после сна расправился этот небесный великан: первый луч его, как блестящий клинок меча, устлался по ровной, широкой лощине, простирающейся на несколько верст от Эмбаха до Гуммельсгофа, и осветил поставленные уступами шведские полки. Едва считается в них до четырнадцати тысяч. Переправу у Эмбаха охраняет небольшой отряд. Все они с душою бесстрашною готовы встретить неприятеля, в несколько раз сильнейшего числом. Дух их окрыляют имя воинов Карла, везде победителя, народная и личная честь, чувство преимущества выгодной позиции и воинского искусства, мщение за смерть братьев, зарезанных на розенгофском форпосте, и вид родных жилищ, откуда дети, отцы, жены просят не выдавать их мечу или плену татарскому.
Лощина к Гуммельсгофу кажется высохнувшим руслом широкой реки: по обеим ее сторонам, в прямом направлении от Эмбаха, тянутся возвышения, как берега. Правое возвышение круто, ощетинилось мрачным лесом и оканчивается холмами, на которых ель редко и нехотя растет; левое – отлого, усеяно небольшими, приятными рощами, оканчивается бором и примыкает к горе, довольно высокой и, как ладонь, обнаженной. На ней стоит полуразрушенная мельница. Природа и искусство сильно укрепили ее: орудия обглядывают с нее лощину и выжидают оттуда своих жертв. О нее должны опираться все силы шведские: это палладиум их чести и благоденствия. Потеря ее – есть потеря всего войска, гибель целой Лифляндии.
К подошве горы прислонилась мыза Гуммельсгоф. Все на ней спокойно: экономка выдает по-прежнему корм для кур; чухонец3 в углу двора беспечно долбит горбушку хлеба, начиненную маслом; по-прежнему дымок, вестник человеческих забот о жизни, вьется из труб. Ни одного солдата не видно на мызе.
Глубокая, тяжелая тишина царствует в рядах, как будто сам Бог налег на них Своим таинственным всемогуществом. Войско в томительном ожидании первого выстрела; и вот… он раздался за Эмбахом! Офицеры и рядовые невольно содрогнулись и сняли шляпы. В это время подъехал к ним Шлиппенбах. Он, кажется, переродился и вырос: в нем нельзя узнать маленького, крикливого хлопотуна и полухитреца баронессина праздника. Дух геройства говорит в его глазах, в речи и каждом движении.
– Дети! – восклицает он, обращаясь к войску. – Ваши товарищи начали победу; мы докончим ее. С кем имеем ныне дело? С татарами, калмыками и, пожалуй, с московитами, которые мало чем посмышленее их. Много их, говорят; эка беда! тем больше выроем яму для них в память будущим векам, чтобы незваные гости не совались в Лифляндию. Вспомните, как мы ощипали эту сволочь под Нарвою: тогда еще не было нам где развернуться, а теперь лихое раздолье штыку и палашу. Не забывать: по лощине каре и каре – стоять плотно, дружно, как эфес при клинке, как голова при теле. В рощах засели наши стрелки: по затылку выскочек пощелкают орешки. Драгуны-молодцы! хе-хе-хе! прошу вас, битого мяса из московитских быков!.. Знайте, на вас смотрит его величество Карл в слуховое окошко из Варшавы и просит вас потешить его геройское сердце. Да здравствует король!
Все отвечают генерал-вахтмейстеру радостным криком:
– Да здравствует король!
– Не худо бы, – сказал один полковник, – поставить отряд на пекгофской дороге для наблюдения за нею.
– Пустяки! Московиты ломят всегда прямо и не умеют пользоваться извилинами: я знаю их хорошо! – вскричал Шлиппенбах и, видя, что другой полковник хотел что-то представить ему, махнул с нетерпением рукой и поскакал вперед.
В свите генерал-вахтмейстера находится Вольдемар из Выборга. Нынешний день он в шведском мундире, на коне и с оружием. Генерал, шутя, называет его своим лейбшицом4. Вольдемар усмехается на это приветствие, и в черных глазах его горит дикий пламень, как у волка на добычу в темную ночь.
Калмыки, башкирцы и казаки первые прискакали с ужасным криком на правый берег Эмбаха, обсеяли его и первые закусили смертную закуску, посланную им с левого берега. Толпы валятся, как муравьи, облитые кипятком. Несмотря на эту встречу, азиятские наездники бросаются с конями в реку, десятками гибнут в ней, румяня ее воды, и сотнями переплывают ее в разных местах. Здесь шведские стрелки встречают их и ссаживают метким свинцом и удалым штыком. Но бой, каков ни есть, уже завязался на левом берегу, и этого довольно, чтобы русским укрепиться на правом. Пушки их на нем расставлены; драгуны спешились и посылают шведам свои посылки на разрешение; знамена веют по воздуху; литаврщик в своей колясочке бьет переправу; плотники с топорами и кирками стоят на зубьях разрушенного моста; работа кипит под тучею пуль и картечи; перекладины утверждены; драгуны перебираются по этому смертному переходу, и – пасс Эмбаха завоеван. Честь этого подвига принадлежит Мурзенке и Полуектову. Несколько сотен казаков гарцуют уже позади шведского полка, оставленного на защиту пасса. Шведы, не в состоянии будучи противиться силам неприятеля, беспрестанно возрастающим, как головы гидры, и сделав уже свое дело, образуют каре и среди неприятеля, со всех сторон их окружающего, отступают медленно, как бы на ученье. Это движущаяся твердыня: усилия тысячей конных татар не могут поколебать ее. Полуектов остается на левом берегу, пока не наведен мост и не переправлены через него регулярная конница, артиллерия и тяжести его отряда. Но толпы башкирские, татарские и казацкие, ободренные отступлением неприятеля, преследуют его, вьются и жужжат около него своими стрелами и пулями, как рои оводов. Уже Гуммельсгоф в виду. Баталион останавливается, укрепляется на одном месте и на смертном расстоянии обдает огнем нестройные толпы. Вместе с этим выстрелом текут с обоих возвышений эскадроны шведские и опутывают их со всех сторон. Куда ни обернутся всадники азиятские, везде грозит им погибель. Одно мужество казаков поддерживает еще сечу; но искусство шведов одолевает. Поражение ужасно. Все, что может избегнуть огня и меча шведского, спасается бегством. Полуектов со своим полком и несколькими орудиями спешит на помощь; за ним вслед и Кропотов; им навстречу толпы бегущих; свои сшиблись со своими, смяли их и внесли между них на плечах ужас и торжествующего неприятеля. Все связи между русскими разрушены; голоса начальников не слушаются, начальники сражаются, как рядовые; пушкари бросают свои пушки; знамена отданы, и там, где еще веют по воздуху два из них, защищают их лично со своими лейбшицами Кропотов и Полуектов. Ни один из них не бежит от верной смерти. Первый, кажется, ищет ее. Наконец, весь израненный, он обхватывает древко знамени и вместе с ним падает на землю, произнося имя друга, Новика и Бога. Шведы дают знак Полуектову, чтобы он сдался в плен.
– Не отдамся живой; не расстанусь с тобою, Семен Иванович! – восклицает он, отправляя на тот свет нескольких переговорщиков о плене. Утомленный, истекая кровью, он спорит еще с двумя палашами и наконец, разрубленный ими, отдает жизнь Богу.
Фельдмаршал устроивал тогда переправу в трех местах и, по вызову Паткуля, отряжал его в обход через мрачные леса Пекгофа (где через столетие должен был покоиться прах одного из великих соотечественников его и полководцев России5). Узнав о поражении своих, Шереметев посылает им в помощь конные полки фон Вердена и Боура. Они силятся несколько времени посчитаться с неприятелем; но, видя, что мена невыгодна для них, со стыдом ретируются.
– Тут надобно бы горячего князя Вадбольского, – говорит фон Верден своему товарищу, завернувшись в епанчу и навостривая лыжи. Вадбольский легок на помине, где спрашивают его долг и честь. Он летит с полком навстречу торжествующему неприятелю. Мундир и камзол его нараспашку; по мохнатой груди его мотается серебряный крест. Он пышет от досады; слезы готовы брызнуть из глаз.
– Стой! – кричит он львиным голосом, поравнявшись с отступающими полками. – Кто носит крест, стой, говорю вам! или я велю душить вас, как басурманов.
Полки фон Вердена и Боура, без команды своих начальников, останавливаются и оборачивают коней.
– С крестом и молитвою за мною, друзья! – прибавляет Вадбольский.
Все творят крестное знамение и, как будто оживленные благодатию, несутся за вождем, которому никто не имеет силы противиться. Вера сильна в душах простых. Неприятель сдержан, и вскоре бой восстановлен. Вадбольский творит чудеса и, как богатыри наших сказок, «где махнет рукой, там вырубает улицу, где повернется с лошадью, там площадь». Конница неприятельская опозорена им; но то, что он выигрывает над нею, похищает у него славная пехота шведская. И ему не устоять, если не приспеет помощь!..
Три часа уже шведы победители.
В это самое время пронесся голос в рядах их:
– Назад! назад! главная армия московитская идет в обход от Пегкофа.
Какое-то привидение, высокое, страшное, окровавленное до ног, с распущенными по плечам черными космами, на которых запеклась кровь, пронеслось тогда ж по рядам на вороной лошади и вдруг исчезло. Ужасное видение! Слова его передаются от одного другому, вспоминают, что говорил полковник генерал-вахтмейстеру об охранении пекгофской дороги, – и страх, будто с неба насланный, растя, ходит по полкам. Конница шведская колеблется.
– Назад! – раздаются в ней сотни голосов.
– Вперед, братцы! – кричит Вадбольский. – За нас Господь с Его небесными силами.
Дюмон, очутившись подле него, меняется с ним дружеским взглядом. Удары палаша русского учащены. Конница шведская показывает тыл и обращена в совершенное бегство. Тщетно стараются оба Траутфеттера6 ободрить их: слова не действуют. Нескольким солдатам, оставшимся около них и сохранившим еще присутствие духа, приказывают они стрелять по бегущим: ничто не может остановить бегства. Окровавленное привидение будто все еще гонит криком: «Назад!» Сами офицеры собственными лошадьми увлечены за общим постыдным стремлением. Между тем завязался бой у пехоты шведской с тремя русскими пехотными полками, приспевшими на место сражения. Ими предводительствуют Лима, Айгустов и фон Шведен. Лима указывает солдатам на Кропотова и Полуектова, истоптанных лошадиными копытами.
– Врагам не ругаться долее телами наших полковников! – кричит пехота русская и творит чудеса храбрости. Пехота шведская берет над ней верх искусством. Лима убит; Айгустов тяжело ранен. Но сила русская растет и растет, как морские воды, в прилив идущие. Действиями ее управляет уже сам фельдмаршал.
Вадбольский близко гуммельсгофской горы. Преследование неприятеля поручает он Дюмону; сам с остатками своего полка спешивается. Жерла двадцати пушек уставлены на его отряд и сыплют на него смерть. Вадбольский невредим.
– Дети! – восклицает он своим. – Видите знамена на этой содомской горе? Они наши родные; на них лики святых заступников наших у престола Божия; им молились наши старики, дети, жены, отпущая нас в поход. Попустим ли псам ругаться над ними? Умрем под святыми хоругвями или вырвем их из поганых рук, вынесем на святую Русь и поставим вместо свечи во храме Божием.
Солдаты отвечают ему:
– Не владеть басурманам нашими угодниками. Укажи нам только, батюшка князь Василий Алексеевич, куда идти.
– За мной, дети, со крестом и молитвою! – кричит Вадбольский и вносит остатки своего полка на середину горы.
На ней, у разрушенной мельницы, стоит Шлиппенбах, мрачный и грустный; он сам управляет артиллериею: этою последнею нитью, на которой еще держится судьба сражения. В защиту горы осталась рота, не бывшая в деле; вся масса шведского войска в бою или в бегстве. Близ него Вольдемар. Перемена успехов сражающихся отливается на лице последнего: то губы его мертвеют, холодный пот выступает на лбу его и он, кажется, коченеет, то щеки его пышут огнем, радость блестит в глазах и жизнь говорит в каждом члене. Град пуль и картечи и вслед за тем холодное оружие встречают Вадбольского, ряды его редеют; он невредим. Голос его все еще раздается, как труба звончатая.
– Я поклялся Кропотову похоронить его здесь. Здесь, на этом месте, будет его могила и моя, если меня убьют. Так ли, друзья?
– Пускай всех нас положат с тобою, батюшка! а что наше, того не отдадим живые, – кричат солдаты.
В жару схватки рукопашной он один отшатнулся от своих; лейбшицы его убиты или переранены. Трое шведов, один за другим, нападают на него. Могучим ударом валит он одного, как сноп, другому зарубает вечную память на челе; но от третьего едва ли может оборониться. Пот падает с лица его градом; мохнатая грудь орошена им так, что тяжелый крест липнет к ней.
– Дети! – восклицает он с усилием. – Кто любит свою родную землю, тот подаст мне святое знамя, хоть умереть при нем.
Слова его долетают до Вольдемара; он оглядывается на знамена русские, дрожит от исступления; с жадностью выхватывает из ножен свой палаш и смотрит на него, как бы хочет увериться, что он в его руках. Глаза его накипели кровью. Шлиппенбах, пораженный дикими, исступленными взорами, отодвигается назад; но Вольдемару не до него. Он спрыгивает с лошади, бросает ее, исторгает из земли первое русское знамя, не охраняемое никем (даже шведские артиллеристы с банниками принимают участие в рукопашном бое), и в несколько мгновений ока переносится близ сражающихся. В то самое время Вадбольский падает от изнеможения сил. Могучая рука шведа уже на него занесена. Рука Вольдемара предупредила ее: швед падает мертвый. Русское знамя водружено в землю и развевается над князем Василием Алексеевичем.
– Друзья, братья мои! – восклицает Вольдемар. – Со мною! Еще один удар, и все наше!
В голосе его, во взоре, в движениях нельзя ошибиться: во всем отзывается его родина.
– Он русский! он наш! – говорит Вадбольский ослабевшим голосом, силясь приподняться с земли; смотрит на знамя со слезами радости, становится на колена и молится. В этот самый миг прибегает несколько русских солдат. Еще не успел Вадбольский их остеречь, как один из них, видя шведа с русским знаменем и не видя ничего более, наотмах ударяет Вольдемара прикладом в затылок. Вольдемар падает; солдат хочет довершить штыком. Вадбольский заслоняет собою своего спасителя.
– Дети мои! Наш он, наш, говорю вам! Что вы сделали! – кричит князь и, заметив, что в несчастном остались признаки жизни, ищет, чем возбудить ее.
Миг этот – миг решительной победы русского войска. На гору входит Карпов с преображенцами; бегут последние защитники ее; по лощине бегут главные силы шведские, поражаемые Шереметевым. С холмов противного возвышения, со стороны Пекгофа, Паткуль встречает их, сечет, загоняет в леса, втаптывает в болота и преследует до самого Гельмета. Шлиппенбах, видя уничтожение своего корпуса, поверяет свое личное спасение лошади своей и первой попавшейся ему тропинке. Распоряжать уже нечем: пушки, знамена, обозы – все покинуто в добычу его. Крики торжества русских раздаются на высоте у разрушенной мельницы и в долине.
Грустный Вадбольский стоял над бесчувственным Вольдемаром, в кругу офицеров и солдат; с нежностию отца старался он оказать ему возможную помощь, развязал галстух, расстегнул его камзол. При этом движении открылась у Вольдемара грудь, и литый из червонного золота складень7 ярко блеснул пред глазами изумленных зрителей. На главной доске складня изображены были великомученица София с дочерьми своими, а на другой стороне святой благоверный князь Владимир. Вадбольский спешил задернуть ворот рубашки, застегнуть камзол на таинственном незнакомце и тем закрыть богатый залог любви и веры от любопытных глаз толпы. Вольдемар наконец пришел в себя. Ударом приклада отшибена у него была память. Когда он оправился и стал различать предметы, немало встревожился, увидев себя в кругу русских! Каким образом попался к ним, не мог себе растолковать. Наконец мало-помалу начал припоминать себе происшествия настоящего дня. Привстав с земли, робко осязал он руку то у того, то у другого из окружавших его и, потупив взоры в землю, дрожал, как преступник, пойманный на месте преступления. Его ободряли, ласкали, спрашивали с нежным участием, кто он такой, откуда родом, зачем в войске шведском. От этих вопросов, от привета и ласки простых сердец хотел бы он бежать, хотел бы уйти в землю…