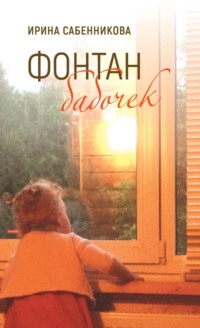Kitobni o'qish: «Фонтан бабочек»
© Сабенникова И.В., 2023
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2023
Считалочка для взрослых
Давай с тобой сорочью кашу сварим:
Открой ладошку, пальчики сожми,
По одному их, не спеша расправим,
Считая вместе только до пяти.
Сорока наварила вдоволь каши
И накормила ею четверых,
А пятый был ленив, хотя всех братьев краше,
И на его уходе кончен стих.
Он блудный сын, который всех дороже,
Как совесть, растревоженная боль.
Куда ушёл он, на какой рогоже
Глотает пыль или событий соль?
Но всё потом, а детская считалка
От этого не стала весела.
Раскрыты пальчики, но отчего-то жалко,
Что пятому мать каши не дала.
И снова, подставляя мне ладошку,
С надеждой смотришь, веря, что теперь
И пятому найдётся каши ложка,
Пусть он останется и не закроет дверь.
Как просто быть счастливым
– Дедушка, дедушка, у меня тень пропала, – причитал маленький мальчик, вертясь на затемнённом участке площадки, где ветви подросшего клёна закрывали уличный фонарь. – Может быть, ей со мной скучно стало, и она ушла? – говорил он, едва не плача, теперь уже присев и осторожно, с каким-то несвойственным взрослым доверием заглядывая под машины: не спряталась ли она там?
– Ничего, ничего, иди ко мне, сейчас найдём её, – отозвался высокий, особенно в сравнении с маленьким и худеньким мальчиком, и чуть нескладный мужчина – очевидно, его дед. – Тень – она же как приведение, то нет её, а то прилипнет и не отстаёт, – объяснял он ребёнку. – Иди сюда, здесь поищем.
Ребёнок, исследовав днище всех машин, вышел на тускло освещённый участок и тут же замер.
– Дедушка, – громко прошептал он, – я её нашёл, только она какая-то вялая, заболела, наверное. Как же нам её теперь лечить?!
– Ничего, вылечим, вот увидишь, – гудел дед, уводя ребёнка подальше от дома, то ли потому, чтобы тот не потребовал немедленно вернуться к маме за помощью, то ли борясь со своим собственным желанием вернуться домой под тёплый плед к телевизору: на улице был первый по-настоящему холодный день.
– Вот здесь посмотри, – слышалось уже издалека, – видишь, она уже и оживилась, здесь простора больше, да и светлее.
Возле аптеки, где они теперь остановились, горел яркий фонарь.
– Ой, дедушка, – послышались радостные возгласы мальчика, – она выросла! Смотри, смотри, в кустах запуталась, давай-ка её вытащим оттуда.
– Ничего-ничего, – откликался дед со знанием дела, – ей не страшно, не порвётся, сам-то туда не ходи, ко мне иди.
Так понемногу они продолжали удаляться, перемещаясь от фонаря к фонарю, и оттуда продолжали долетать детские возгласы: ребёнок то радовался, то огорчался, по мере того как вела себя его ещё не прирученная тень.
Он воспринимал её как только что обретённого друга, который может уйти, не захотев с ним играть, или пойти к какому-нибудь другому мальчику, что было бы очень обидно. Ребёнок искренне дорожил этой дружбой, которая была для него важна, как важно бывает в три года всё: и коробка спичек, и катушка, и потрёпанный плюшевый медведь, а тем более живая тень, которая дружит только с тобой!
Я стояла возле подъезда чужого дома и, прислушиваясь к удаляющемуся и уже едва слышному разговору деда и внука, думала о том, насколько наполнены событиями и эмоциональными переживаниями дни маленьких детей, насколько они долги, так, что порой кажется, что это и есть вся жизнь, а завтра будет уже другая жизнь и ты будешь другой, и страшно вечером засыпать: вдруг завтра тебя не узнают, так ты переменишься за ночь. А взрослые, живущие рядом, окружающие заботой и любовью этого ребёнка, даже не догадываются об этих страхах, не чувствуют, что время у них и у ребёнка течёт совсем иначе, и только торопят его то есть, то спать, то гулять, спешат скорее подвести малыша к тому возрасту, когда их время совпадёт и они станут равны. Но только это совпадение длится одно мгновение, а дальше их время, постоянно ускоряясь, устремится к своему завершению, а его время, став обычным в общепринятом смысле, когда день включает 24 часа, 1440 минут, или 86 400 секунд, вдруг потечёт размеренно и скучновато. И только тогда, когда он обретёт ощущение абсолютного счастья и гармонии, влюбившись, это время опять станет как широкая река – наполненным бесчисленными событиями, ощущениями, открытиями, эмоциями как в детстве. Значит, ощущение времени зависит от состояния нашей души, а вовсе не от того, насколько много дел нам надо переделать и какими техническими средствами мы обладаем, чтобы ускорить этот процесс.
Помните ли вы хоть один день из своего детства? Наверное, нет. Отдельные события, переживания, какие-то разрозненные ситуации, конечно, помните, но целый день с утра и до вечера – маловероятно. Это примерно то же, как если бы вас спросили: помните ли вы всю свою жизнь в мельчайших подробностях? Даже если бы вы вели дневник, то и тогда не вспомнили бы всего и не смогли бы восстановить в памяти того, что было с вами до семи лет, когда вы научились хорошо писать и начали записывать события своей жизни. Конечно, ваши детские записи позабавят вас своей наивностью, но вы стали другим, в прежние ощущения уже не влезть, как и в детскую одежду. И всё же попробуйте это сделать. Зачем?! Ну хотя бы затем, чтобы отвоевать у вечности несколько драгоценных мгновений своей жизни, чтобы стать моложе, чтобы очистить свою душу от тех пустых треволнений, которые вы теперь почему-то называете эмоциями, но которые ими не являются, чтобы наконец прикоснуться к источнику истинной радости, стать, пусть только на эти несколько мгновений, искренним с самим собой, понять самого себя.
– А потом, потом как жить? – спросите вы.
– Потом? Сами всё поймёте. Это совсем не страшно, попробуйте. Давайте вместе, вы и я. Я буду вспоминать этот свой день, а вы будете рядом, и оттого ваши воспоминания постепенно пробудятся, окрепнут, приобретут какие-то конкретные событийные формы, давно забытые запахи, цвет, вкус, ощущения.
Утро, раннее утро, я – жаворонок, по крайней мере меня так всегда называют родители, потому что я просыпаюсь рано и с улыбкой, как просыпается большинство маленьких детей. Просыпаются для того, чтобы открывать для себя мир.
Луч весеннего солнца уже проник сквозь занавески и дотянулся до самой кроватки, взбаламутив пылинки, которые теперь плавают в его ярком многослойном, словно слюда, свете, похожие на планеты, то исчезая, то вновь появляясь. Почему планеты, я не знаю, наверное, брат что-то читал мне о планетах. Он всегда читает мне вечером вслух, но поскольку сказки все давно уже прочитаны, то он читает то, что интересно ему, – Майн Рида или что-то из учебников. Планеты пылинок медленно плавают в солнечном луче и не тонут. Я выставляю пальчик и пытаюсь дотронуться до луча, он тёплый, а палец становится розовым и прозрачным, отчего хочется его лизнуть.
Я лежу в детской кроватке, выкрашенной белой краской и затянутой нитяной сеткой сбоку, чтобы я не выпала. Кроватка уютная, но сетка мне не нравится, и я начинаю думать, как бы выбраться, хотя лежать и мечтать, представляя себя такой же плавающей пылинкой, очень приятно. Выбраться не так-то просто. «Точно для кроликов», – думаю я, вспомнив, как недавно кормила травой и капустными листьями кроликов с подвижными розовыми носиками, а они, жуя, шевелили усиками, но бежать не пытались.
Я не кролик, и поэтому меня одолевает навязчивое желание вылезти из кроватки, к тому же там внизу – игрушки, которые меня ждут. Я сбрасываю одеяло, луч скользит по моей руке к плечу, точно чьи-то нежные тёплые пальцы.
Подёргав туда-сюда сетку, я наконец-то сдёргиваю её с одного из невидимых крючков и ужом вылезаю наружу сквозь образовавшуюся щель. Свобода!
Однако шуметь не стоит. Брата я, конечно, не разбужу, он, должно быть, не так давно и уснул, но родителям не обязательно сразу знать, что я проснулась: можно спокойно поиграть, прежде чем придут нас будить.
Игрушки все, как их вчера посадили, сидят на деревянных стульчиках за столом: Петрушка – в разноцветном балахоне, он совсем новый, с пластмассовой жёсткой головой, которой он всё время норовит удариться об пол, если его подбрасывать. Прежний мне нравился больше, он весь был тряпочный и мягкий, уютный такой и не дрался. А этот всё время бодается. Вот кукла Наташа, волосы у неё светлые и заплетены в косички как у меня, мама сшила ей платье из лоскутов, и теперь Наташа очень нарядная. Рядом с ней негритёнок Том – это имя из какой-то книжки. Он в ярко-жёлтом, ему идёт всё яркое, и для него сшили необычный костюм из маминой пижамы. Рядом с Томом – пупс Додо, пластмассовый и гладкий, он мне очень нравится, его можно заворачивать в лоскуты и купать, он ещё совсем маленький. Почему его так зовут, я точно не знаю, но все куклы приходят уже со своими именами, так же как и люди. Лишь одной самой красивой кукле я дала имя сама. Её прислали мне из Ленинграда большой посылкой ко дню рождения. Прислала моя двоюродная бабушка Лёля – и кукла тут же стала Лёлей. Она самая большая, умеет закрывать серо-синие глаза и говорить «ма-ма», и потому, наверное, у неё своё отдельное место. Для других кукол мама шьёт наряды, а у Лёли своё бело-голубое платье с бантом, на ножках носочки и баретки, она немка и гордячка, и такая нарядная, что с ней почему-то не хочется играть.
Раз утро, то пора завтракать, и я накрываю для кукол стол к завтраку, достаю кукольную посуду из кукольного буфета – маленькие тарелочки с синей яхтой посередине, чашечки, чайник и молочник. Теперь они могут завтракать, а я порисую. Я не особенно люблю играть с куклами, но мама говорит, что девочка должна играть в дочки-матери и уметь шить куклам одежду, а не гонять по улице, поэтому я с ними играю, но рисовать мне нравится намного больше.
Мне нравится рисовать берёзы, на которых распускаются цветы, – это очень красиво, хотя нравится только мне, да ещё Вовке Сухову. Взрослым совсем не нравится – ни воспитательнице Анне Чеславне, ни моим родителям, а брат говорит, что я художник от слова «худо», потому что рисую то, чего в природе нет. Но я же нарисовала – значит, есть. Мне так хочется быть художником! Я даже книжки раскрашиваю, чтобы они красивее были, а то всё одни буковки. Вчера меня за это отругали, но я же знаю, их больше никто не раскрасит, что ж, им так серыми и оставаться?!
Я неловко дёргаю карандаш, и большущая коробка с разноцветными карандашами с грохотом падает на пол. Брат приоткрывает один глаз, просыпаться ему не хочется, видит меня и опять засыпает. Привлечённый шумом, в комнату заглядывает папа. Наверное, он подумал, что я выпала из кровати. Я сижу на полу на большой плоской подушке, набитой конским волосом и вышитой крестиком. Если смотреть близко-близко, то видно только крестик – один, другой, третий, все разного цвета, а рисунка нет. Но если встать и посмотреть на подушку сверху, то крестиков совсем не видно, зато видно оранжевые цветы. Иногда из подушки можно выдернуть чёрный упругий, как проволока, волос – наверное, это он конский, но откуда их столько набралось, непонятно. Мои волосы мама собирает, когда они остаются на расчёске, но ими подушку не набьёшь. Вот интересно: почему у лошади конский волос, а у коня тогда чей, лошадиный, что ли? И зачем они поменялись. Надо спросить папу.
Подушку подарили, когда я родилась, теперь мне пять лет, недавно был день рождения, и приходил Вовка Сухов. В садике нас дразнят «тили-тили-тесто, жених и невеста». Думают, наверно, что это обидно.
Мы с Вовкой приятели, он во всё верит, что ему ни скажу. И рисунки ему мои нравятся. А ещё мы с ним делаем птичек из пластилина. В садике цветных карандашей много, и всё больше поломанные, их всё время точат, а стерженьки разноцветные вместо пёрышек – очень даже красиво. Птички прямо настоящие получаются.
Вовка ко мне на день рождения приходил и чашку голубую с белым блюдцем подарил, на блюдце тоже голубая каёмочка. Я из неё теперь чай пью. Мой брат говорит, что Вовка, когда вырастет, вертолётчиком станет, потому что у него уши оттопырены, точно пропеллеры у вертолёта. Я Вовку спрашивала, правда ли он вертолётчиком хочет быть, да он не знает. А я знаю: буду художником.
Я делаю последние короткие вертикальные штрихи зелёным карандашом, означающие траву, и разбрасываю по ней снежинки цветов. Ну вот картина уже готова: маленький жёлтый домик с одним окошком на зелёной поляне, большая белая берёза в чёрную крапинку, вся покрытая розами, точно розовый куст, и солнышко наверху в веснушках. Солнышко раскрасило мой нос, так что каждую весну я ото всех только и слышу: «Какие конопушки! Это тебя солнышко любит!» Я его тоже люблю, пусть теперь с веснушками будет. Очень красиво!
Солнце уже заполнило своим светом, пройдя сквозь шёлковые занавеси, как вода сквозь сито, всю комнату, добралось до кукольного стола и до моего рисунка, тут же оживив всё, что я нарисовала.
«Чтобы стать счастливым, надо радоваться тому, что имеешь» – слова оптинского старца Амвросия просты и точны, как у ребёнка, который всегда видит суть. Не оттого ли дети так часто счастливы, что у них нет промежуточных состояний и всё делится на «да» и «нет», «плохое» и «хорошее». Для них день не является монолитом – начался утром, закончился вечером, нет, он разбит на множество логически завершённых временны́х отрезков, каждый из которых уже равен по своей эмоциональной насыщенности целому взрослому дню, как это раннее весеннее утро, как путь в детский сад – никогда не повторяющийся, точно вода, в которую не войти дважды, как встреча с родителями вечером, которая всегда праздник и всегда чудо, как тень, с которой каждый раз надо знакомиться заново, заново её приманивать и приручать, и так без конца. Жаль, что мы, вырастая, забываем, как просто быть счастливыми.
Сиренька, сырок и старый баркас
Сиренька и Старый Баркас жили здесь давно и были знакомы уже много лет. А вот Сырок появился совсем недавно и очень удивился, что уже существуют и Сиренька, и Старый Баркас и ему не придётся их придумывать.
Старый Баркас лежал на песчаном берегу, поскрипывал всеми своими снастями, охал при каждом порыве ветра и ждал, когда же его наконец спустят на воду. Ещё осенью рыбаки вытащили его из моря на прибрежный песок, и всю долгую сырую зиму он провёл на берегу, как никому не нужная старая галоша. Его обшивка под ветром и дождём сильно обтрепалась, доски на палубе разошлись, краска местами облупилась – он явно нуждался в починке и обновлении, но самое, конечно, главное, что знал только он, так это то, что он нуждался в любви и участии. Время шло, уже наступил апрель, море из серого и мрачного стало волнующе голубым, а Старый Баркас всё ещё не спустили на воду. Только чайки, которых он мог видеть с берега то припадающими к волне, то взмывающими высоко с восходящим потоком воздуха, прилетали к нему порой по старой памяти. Они по-свойски садились на капитанскую рубку или флагшток, а чаще важно расхаживали по палубе, делясь с ним последними птичьими новостями, неожиданно поднимали гвалт и шум, не сойдясь во мнении о важности какого-то события, и, рассорившись, улетали. А Старый Баркас опять оставался один, он всё ждал и ждал, когда же о нём вспомнят.
Сиренька была небольшим изящным кустом сирени, каждый лист которого своей формой повторял настоящее человеческое сердце. Эти листья, плотные и блестящие, никогда не желтели, но осенью, уже с заморозками, вдруг разом все опадали, словно не могли перенести холодного равнодушия к себе. Однако уже в апреле, при первом проявлении тепла, когда солнце ласково касалось её обнажённых веток, на них вновь, точно по волшебству, появляются маленькие зелёные сердца, среди которых неожиданно радостно вспыхивали то лиловым, то ярко-белым цветом кисти соцветий, сплошь состоящие из маленьких четырёхлепестковых цветков. Сирень оживала, и в буйстве её цветения вдруг начинало казаться, что она кипит, наполняя всё кругом горьковатым пьянящим ароматом, заглушавшим даже запах самого́ моря.
Так и в этом апреле, при первом появлении солнца зацвёл куст сирени, сначала робко, но постепенно набирая силу своего неповторимого глубокого аромата. Куст рос на самом краю спускающегося к морю старого дубового леса, там, где серая полоса дороги отделяла его от прибрежного песка, и был хорошо виден со стороны моря. Старый Баркас, лежащий на берегу, не обращал на сиреневый куст никакого внимания, даже не отличал его от других кустов и деревьев, ещё лишённых своей разнообразной листвы, по которой так легко прочесть их имена. Хотя и Старый Баркас, и Сиренька знали о существовании друг друга давным-давно, но ситуация сложилась неравной: Сиренька всегда помнила о Старом Баркасе и смотрела на него влюблёнными глазами, каждый свой сердцевидный листок, как откровение, посылая ему, в то время как Старый Баркас, мысли которого были обращены к морю, не замечал Сиреньку до тех самых пор, пока она не расцветала в середине апреля, наполняя своими чарующими ароматами всю округу и даже его заставляя волноваться. Все влюблялись в Сиреньку, и Старый Баркас вдруг тоже вспоминал о ней и начинал бросать ревнивые взгляды, призывая её к скромности. Сиренька цвела, думая, что цветёт только для него. На её цветы слетались пчёлы и шмели, маленькие птички порхали в её ветвях, даже соловей на вечерней заре прилетал спеть свою песню любви среди её цветов. Так что не заметить и не полюбить Сиреньку было нельзя, и Старый Баркас на время забывал о море и смотрел на неё растроганно и влюблённо, как смотрит моряк после долгого плавания на свою невесту.
Правда, они только и могли что бесконечно смотреть друг на друга то нежно, то, когда подует сильный ветер с моря и Старый Баркас задумается о скором и далёком своём плавании, вопросительно. Так бы и продолжалась их жизнь, если бы однажды и совершенно случайно не появился Сырок. Так ласково называли маленькую девочку, которая хотя и жила уже на свете три с половиной года, но только теперь познакомилась с Сиренькой и Старым Баркасом. Она, как это свойственно только маленьким детям, сразу почувствовала всю сложность и трагизм сложившейся ситуации и заявила: «Они такие красивые, надо им помочь», – и тут же придумала свою историю, которая, в сущности, была продолжением прежней.
Старым Баркасом у неё оказался немолодой мужчина, который часто прогуливался вдоль моря, наблюдая за полётом крикливых чаек, вступивших в единоборство с ветром. Он носил капитанскую фуражку и чем-то неуловимо был похож на человека, сошедшего когда-то на берег с такого же баркаса, как тот, что лежал теперь здесь, зарывшись в песчаные волны пляжа, как когда-то зарывался в морские. А потому его романтический облик и капитанская фуражка вполне совпали в детском воображении с самим Старым Баркасом и срослись в одно, так что даже душа Старого Баркаса переселилась в этого мужчину.
Сиренькой стала симпатичная женщина, время от времени составлявшая компанию мужчине в капитанской фуражке. Ребёнок не слышал и не всегда понимал, о чём именно говорили эти двое, но дети видят сердцем, то есть самое главное, как объяснял когда-то Лис Маленькому принцу. Возможно, поэтому Сырок чувствовала, что эти двое гуляющих по пустынному пляжу, оставляя на влажном песке едва видимые следы, которые тут же с непонятным усердием стирали морские волны, смотрят друг на друга совсем иначе, чем все остальные. Она решила, что имя Сиренька подойдёт женщине больше любого другого, даже её собственного. Таким образом справедливость была восстановлена – Старый Баркас и Сиренька встретились, и не только встретились, став теперь людьми, но и узнали друг друга. А ведь могли и забыть или не узнать, сколько таких неузнанных ходит по жизни, по какой-то необъяснимой причине забыв и только во сне вспоминая, кто они есть на самом деле.
Двое людей, ничего не зная о фантазиях маленькой девочки, прогуливались по пляжу, держась за руки, и с наслаждением вдыхали морской воздух, смешанный с запахом цветущей сирени, что бывает только в апреле. Со стороны казалось, что они действительно только что встретились после бесконечно долгой разлуки и боятся, что их опять разлучат обстоятельства или чьи-то недобрые фантазии. Но этого уже никогда не произойдёт, потому что Сырок заботливо следит, чтобы Сиренька и Старый Баркас всегда были вместе, ведь это её сказка и никто другой изменить её счастливого конца уже не сможет. Даже когда Сырок вырастет и перестанет быть Сырком, а станет изящной и красивой девушкой, сказка о Сиреньке и Старом Баркасе останется.