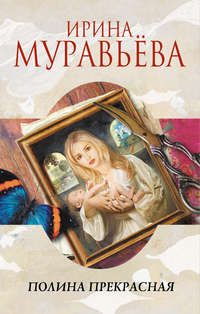Kitobni o'qish: «Полина Прекрасная (сборник)»
Полина Прекрасная
На прошлой неделе Полине стукнуло восемнадцать. Она была пышной, взволнованной, нежной. Мужчины: то отроки, то пожилые, с глазами навыкате, лысые, толстые, с глазами, прищуренными от вожделенья, с щеками румяными, бледными, впалыми, с высокими лбами и низкими лбами, с открытыми шеями и в пиджаках – короче, любые живые мужчины Полине почти не давали проходу. Они бросались к ней со своими глупыми разговорами и рты раскрывали, как будто хотели ее проглотить. Всю сразу: с зонтом и ботинками. И не оттого, что она была как-то особенно хороша, а оттого, что никого из этих мужчин Полина не собиралась на себе женить. Она никого не ловила. Странная эта, неженская черта так сильно отличала Полину от остальных представительниц прекрасного пола, что у мужчин раздувались ноздри. Раздувши же ноздри, они становились похожи на зверя, живущего в чаще, простого и честного. Ведь зверю не нужен букет или галстук, ему нужна просто любовь, о которой он детям своим – медвежатам и зайцам – расскажет в берлоге, когда низко, страшно гудит и рыдает метель за порогом, и если бы зверь этот – волк или заяц – не зверем бы был, а учителем пенья, то он бы сравнил голос зимней метели с каким-нибудь виолончельным концертом.
Принято думать, что мужчины хотят как можно скорее украсить свой безвольный безымянный палец обручальным кольцом. Неправда, вранье, клевета. Готовность жениться навязана мужчине женщиной, и если уж говорить откровенно, то на лице у всякой женщины такой есть почти незаметный крючочек или такая вот скромная серая петелька, которую даже в хороший бинокль не сразу увидишь. Петелька эта или, если хотите, крючочек располагается, как правило, в районе переносицы, но изредка прячется под подбородком, и человек, привлеченный к женщине глазами ее или тонкою талией, сперва замечает неброский дефект, но вскоре устает его замечать, а дальше известно, как это бывает: нарядного, словно артиста эстрады, в лаковых башмаках и белом пиджаке человека, терпко пахнущего потом от волнения, сажают в большой лимузин и катают по городу. А он обнимает невесту за талию. Потом пьют шампанское. Но говорят, что в самый последний момент, когда уже желтые кольца надеты и все поцелуи наляпаны жирно, – тогда, говорят, прозревает жених и страшной тоскою так весь проникается, что даже и самый дешевый фотограф тоску эту передает на портрете. Стоит жених в новом и желтом кольце, хохочет, как клоун, но взгляд! Ох, и взгляд! У Гамлета был веселей перед смертью.
Полина сражала своим бескорыстием. И облик ее, такой круглый и пышный, глаза ее ясные, нежные руки, которые даже зимой, сквозь одежду, и то прожигали насквозь, – все было беспечным, уютным и чистым. Красилась она только слегка, а одежду придумывала сама, украшая нехитрое какое-нибудь платьице то платочком, наброшенным на круглые плечики, то ниточкой бус, а то даже платочком и бусами и добавляла еще ко всему много разных колечек. Любила, когда все нарядно и пахнет каким-нибудь кремом. Клубничным, к примеру.
Кроме нарядной одежды, она любила всякую погоду и во всякую погоду чувствовала себя хорошо. Любила и лето, и осень, и зиму. Весну же любила особенно сильно и, когда начинали сжигать по дворам прошлогодние листья, а от земли поднимались первые, самые сильные запахи и взволнованно, жадно и нежно, на все голоса, пели птицы, что больше не будет ни смерти, ни слез, ни страданий, Полина сама расцветала, как роза. Подруги ее рисовали на лицах большие глаза, зачерняли носы (на кончиках, чтобы казались поменьше!), а волосы, жидкие, блеклых цветов, держали всю ночь в бигуди, так и спали, но очень страдали, и снились им часто какие-то реки, в которые эти подруги входили, и их уносило холодным теченьем. Полина была далека от печали. Заплетала на ночь кудрявую свою косу, перевязывала ее ленточкой, мазала руки кремом «Детский» или «Юбилейный» и только касалась затылком подушки, как сразу вплывала в чудесную заводь, как утка, а может быть, лебедь невинный, и там, в этой заводи, было тепло, а если мелькали какие-то лица, то все эти лица ее веселили.
Как раз весной, перед самыми выпускными экзаменами, Олег Мухтарович Назаров, преподаватель сольфеджио, человек грузный, с серебряными висками, хотя молодой, еще до сорока, отец трех кудрявых малышек, которых жена его, тоже красивая, но слишком всегда маслянисто накрашенная, приводила зачем-то к ним в школу, – как раз весной Олег Мухтарович сообщил Полине, что ей необходимо позаниматься с ним сольфеджио дополнительно. И время назначил: 3:40, в четверг.
Полине нравился Олег Мухтарович ровно настолько, насколько ей нравились все остальные. Одно за всю жизнь исключение было: Лариса, соседка развратная с дачи. Ларисе тогда уже было пятнадцать, когда шестиклассница, наша Полина, ее заперла прямо в дачной уборной. Есть очень старинный дачный обычай: уборные строить подальше от дома. И пусть там стоят, никому не мешают.
Лариса, развратница, и просидела в уборной четыре часа, и никто – представьте себе: ни один человек! – не слышал Ларисиных горьких рыданий. Поскольку простой, незатейливый дачник отнюдь не стремится в какую-то будку. Зачем? Когда рядом и лес, и поляны, и кущи, и рощи, короче, приюты для уединенья. Зачем ему будка? Однако под вечер обитатели дач услышали крики, сбежались, несчастную освободили, и тут появилась Полина с букетом:
– Она меня мучает. Я уже знаю, что делают мама и папа в кровати! Зачем же мне столько ненужных подробностей?
Ларису она не любила. Но прочие люди на свете ей нравились. И поэтому, заканчивая десятый класс, она нисколько не подозревала Олега Мухтаровича в каких-то там мыслях. Он был педагог и учитель. Малышки, дочурки его, украшали собою весь пахнущий хлоркой, большой вестибюль. Поодаль, на стуле, сидела жена, атласные, черные хмурила брови. И вся эта гадость, какую Лариса успела поведать на даче ей в детстве, за что и пришлось запереть бе-зобразницу, – вся гадость касалась семьи лишь Ларисы, хотя ее толстеньких маму и папу представить себе без одежды было почти невозможно, а главное, незачем.
Теперь Полина заканчивала школу и, хотя другие девушки в ее годы знали о любви все на свете, а многие даже собирались замуж сразу же после выпускного бала, она была так же невинна, как раньше.
Между тем Олег Мухтарович потихоньку сходил с ума. Он сходил с ума, потому что думал о ней постоянно. Он представлял себе ее светлые волосы с ярким золотым отливом, ее сияющие глаза, ямочки на щеках, длинный нос, который в старости должен был изуродовать ее, а сейчас делал это лицо особенно наивным и простодушным. Настолько удачна была длина носа, что если бы общая мать всех – природа – сглупила и укоротила его, то внешность Полины бы вмиг потеряла частицу своей исключительной прелести. О теле ее Олег Мухтарович старался не думать. Как только он представлял себе, какая белизна, мягкость, медовость пряталась под неуклюжим школьным платьем, ему хотелось выть от отчаяния. Он родом был, кстати, кавказец, и прадед его долго дрался с Шамилем. А может быть, наоборот, за Шамиля, но важно не это. Безумие важно, мужское безумье. В конце концов он пригласил ее, чтобы решить все проблемы с сольфеджио. Ибо с сольфеджио этим и были проблемы. Потом можно будет вернуться в семью, заняться, в конце концов, дочками: Майкой, Аглайкой и младшей – капризной, болезненной Софочкой.
Полина постучала в дверь и сразу же вошла, не дождавшись ответа. Она, как всегда, немного опоздала, торопилась, и потому румянец у нее на щеках был особенно розовым, а волосы на лбу влажными. Олег Мухтарович проглотил тугой ком и голосом, низким и нервным, сказал ей:
– Садитесь.
Полина тотчас же уселась на стуле, сияя глазами. И руки сложила. Они до отчаянья напоминали каких-то пушистых и белых птенцов.
– Могли бы прекрасною стать пианисткой. Могли бы. И этим украсить всю школу. Однако… Вы не пожелали. И вот результат…
Полина вздохнула от чистого сердца. Олег Мухтарович встал со своего кресла, близко подошел к ней и остановился.
– Не поздно еще, говорю вам: не поздно, – сказал он, и грубый отважный кавказец проснулся внутри его мощного тела. – У вас еще все впереди. Вот рояль. Садитесь к роялю.
В кабинете у Олега Мухтаровича стоял рояль.
– Спасибо. Конечно, – сказала Полина.
Теперь они оба стояли, и лица их были так недалеко друг от друга, что запах хорошего свежего кофе струился от скользких усов педагога в наивные детские ноздри Полины. Он вскрикнул гортанно, как если бы что-то застряло вдруг в горле, и сразу же сильно за талию обнял, словно игрушку. Полина отпрянула в страхе.
Даже если бы сам Шамиль или какой-то другой видный военачальник ворвался в эту минуту в кабинет Олега Мухтаровича Назарова и, наставив на него дуло пистолета, велел отпустить эту русую девушку, багровый и взмокший настолько, что майка, рубашка, трусы и носки нуждались в хорошей и долгой просушке, учитель вояке бы не подчинился. В пронзительной тьме золотилось пятно, которое было лицом ученицы, – он чувствовал, как оно только мешает ему своим этим сияньем, – а руки уже разрывали на ней черный фартук, и губы впивались в горячее тело. Оно было нежным и сладким настолько, настолько ничуть не похожим на прочие, что он все равно (не будь он отважным кавказцем, а просто хорошим, простым человеком!) не дал бы себя оторвать от этой пришедшей к нему в кабинет старшеклассницы.
– Мне больно, – стонала Полина. – Пустите!
– Женюсь! – бормотал он. – Женюсь завтра утром! Даю тебе слово!
Она задохнулась, и вдруг ее пальцы запутались в шерсти, так, словно учитель был не человеком, а мокрой овчиной. Когда же она оказалась на липком, нагретом полу, то все сразу исчезло. Была только боль и такой острой силы, что, кроме нее, ничего не осталось. Она укусила себя за запястье, боясь, что кричит, но она не кричала. Какое-то время прошло. Но какое? Из тела ее, как из глины, весь красный, трясущийся весь, поднимался Назаров. Лицо его было в разводах и ссадинах.
Полина осталась лежать. Он же, жалкий, упал прямо в кресло и замер в тревоге. Он видел себя в кандалах, за решеткой, сквозь прутья которой сквозили то Майка с Аглайкой и Софочкой, младшей, то Нюся, жена, то какие-то люди, которые вынесли свой приговор, и жить ему месяц осталось, не дольше.
– Вставайте, – сказал он, трясясь. – Что лежать-то?
Полина с трудом поднялась и прикрыла свою обнаженную грудь рваным фартуком. Назаров вдруг встал на колени.
– Полина! – он вскрикнул мучительно. – Ведь расстреляют! Клянусь вам Аллахом! Как только вы скажете им, что я сделал…
– Кому я скажу? – прошептала Полина.
– Кому? Я не знаю, кому! Прокурору.
– Да я никому не скажу. Ни за что, – сказала она.
Он понял, что это все так вот и будет: не скажет она никому, ни за что. И прежняя властность зажглась в его взоре.
– Не скажете? Вот хорошо! Я уж думал… Любовь, это… знаете… Землетрясенье… – забормотал Олег Мухтарович и вдруг суетливо подбежал к шкафу, вытащил оттуда большой женский шарф и ловко набросил на плечи Полины. – Сейчас никого в школе нет. Хотите такси? Я вызову мигом, и вас довезут…
– Не нужно, – сказала Полина и вышла.
В уборной на первом этаже стояла девушка из параллельного класса, Леля Мартынова, дочка одного из многочисленных наших космонавтов, которых, как птиц, выпускают в небо, и их там становится больше и больше.
Странный облик вошедшей Полины приковал ее внимание.
– Ты что? Как сама не своя? – спросила участливо Леля Мартынова.
– Я? Нет. Я в порядке, – сказала Полина.
– Какой же порядок? Ты вся в синяках, – заметила Леля.
Быстрая, как молния, догадка осветила ее заурядное лицо.
– Ты с парнем своим? Упросил? Ты дала? Они ведь такие: не дашь, так и все. Уж лучше давать, а то просто как звери…
– Какой еще парень? – вздохнула Полина.
– А как же синяк? И нога вон в крови!
– Послушай: оставь! Что тебе? Ну, зачем? – отмахнулась Полина.
И Леля ушла. Как только за нею захлопнулась дверь, Полина на полную мощность открыла тугой медный кран и припала к холодной струе, как собаки в жару, к воде припадая, лакают ее, пока не напьются до изнеможенья.
Эта драматическая история имела два результата: Полина оставила занятия музыкой, ноты сложила в стопочку, перевязала их веревкой и вынесла на помойку, а сам инструмент, очень чуткий и нежный, завесила тюлем, и стало похоже, как будто в квартире стоит колыбель. Второй результат был еще даже горше. Поступив на филологический факультет Московского государственного университета, Полина мечтала сама полюбить, мечтала и чтобы ее полюбили, и липли к ней с разных сторон, к первокурснице, поскольку вокруг было много студентов, и всем им хотелось того же, что ей, но не было чувства, а был только страх. Как только ее обнимали, пытаясь просунуть ладони куда-то пониже, она погружалась в столбняк. Разлетались кровавые брызги в глазах, и хотелось рыдать во весь голос. Вот именно так: рыдать во весь голос, до хрипа, до рвоты.
Чем знаменит Московский университет? А тем, что там много приличных людей. Посмотришь с холодным вниманьем вокруг: ну, каждый четвертый, а может, и третий. На филологическом факультете, где теперь училась наша Полина, приличных людей было много, не спорю. Но юношей мало. Внизу, на истфаке, вообще караул: три юноши, но никуда не годятся. Два слишком кудрявых, а третий – женат. Спасаясь от монастырского своего одиночества, студентки филфака, а также истфака искали любви на чужой стороне. Чужой стороною в ту пору служило высотное здание на Ленгорах. И в нем, как икринки, которые станут со временем рыбами, зрели, мужали студенты мехмата. На горе другим и себе не на радость они ощущали внутри гениальность. Опасная вещь: гениальность, ненужная. Возьмите – кого? Да хоть Маркса, хоть Пруста, Бетховена с Гоголем, Ленина с Кафкою, возьмите Ефремова и Солженицына, из женщин возьмите… Нет, женщин не нужно. Не нужно их брать, они только запутают. Так вот, говорю я: возьмите вы гениев и загляните в их бедные души. Ой, страшно. Ой, не подходи! Ну, вот так-то.
Обьятия и поцелуи в подьездах, а также на скользких, холодных скамейках случались теперь в жизни нашей Полины с отзывчивой помощью этих студентов. Но их гениальность была им дороже всего остального. Любовь – хороша, а наука – дороже. Едва только бедная наша Полина, уже обнажившаяся постепенно, смущенно вставала с кровати и, плача, шептала, что, кажется, нынченельзя, ученые юноши вмиг одевались, очки нацепляли и живо бежали обратно, к тоскливым своим теоремам. Спасибо, что предупредила. Ура.
(Проклятый Назаров, сгубивший ей жизнь, позабыл тот вечер, весенний и душный, когда он вернулся домой, перепуганный, включил телевизор, а там малышей учили, как из ярко-желтой бумаги легко можно вырезать звезды с луною, и он умилился на дочек: забрались, лепеча и смеясь, на колени, и сразу их пушистые волосы защекотали ему подбородок, и запах детский, молочный и нежный, его успокоил.)
Во время летней сессии в университетскую столовую стали почти каждый день завозить особенное лакомство: желтого цвета пирожные, вылепленные в форме утят. Излишество, скажете? Нет, не излишество, а просто забота о русском народе: могли бы пончик какой-нибудь сделать, и съели бы граждане, не подавились, а тут ведь какие потратили деньги и сколько труда, сколько умной смекалки, пока изваяли вот этих утяток!
Утром в среду сидела одинокая Полина с пучком на затылке в столовой и ела сметану. Сметана была расфасована так: две трети стакана и по половине того же стакана. Сметана всегда была чуть кисловатой, а желтый утенок до ужаса сладким, и вместе они дополняли друг друга. Полина, любившая сладкое, тихо кусала от круглой его, золотистой головки и сразу ее заедала сметаной. При этом смотрела в учебник, поскольку шел май, было много зачетов.
И вдруг к ней подсел кто-то темный и чуждый. Она подняла глаза от учебника и увидела перед собой незнакомого африканского человека с такими яркими белками, как будто это были не человеческие глаза, а два только что очищенных заботливой хозяйкой, еще не остывших куриных яичка. Он ей улыбнулся, и зубы сверкнули.
– О, здравствуй! – сказал африканец. – И как вы живете?
– Нормально, – сказала Полина. – Экзамены.
– Я тоже нормально, – ответил он гордо. – И как ваше имя?
– Полина, – сказала Полина и вся покраснела.
– Мой бабушка имя зовут: Каролина. И это похоже на вас.
Полина представила ясно далекую бабушку и вся покраснела до слез почему-то.
– Ты хочешь гулять? – спросил он.
– Но я занята сейчас, я занимаюсь, – сказала Полина, – а вас как зовут?
– Я Луис, – сказал он, – и папа мой Луис. И значит: я Луис Луисовиш.
Он расхохотался и ей подмигнул. Он был с чувством юмора, это заметно.
– Вы учитесь здесь? В МГУ?
– Здесь учусь. Я раньше учился немного в Сорбонне, потом еще в Гарварде. Очень хотится знать весь ваш язык. Я его уже знаю.
– А где сейчас ваша семья?
– Мой мама и папа давно не женаты. И папа в Париже. Там дочка: Сюзан. А мама живет с моим бабушкой в Кении.
Несмотря на нечастые ошибки, русский язык его был беглым и даже акцент весьма славным.
– Пойдемте гулять, – вдруг решила Полина и быстро закрыла учебник.
Сопровождаемые тяжелыми взглядами буфетчицы, давно ставшей бледной от всех озлоблений, скопившихся в сердце ее еще с детства, с ногами, отекшими от озлоблений, с руками, неловкими тоже от них, они, за спиною оставив утят, вошли в пустой лифт и в нем поцеловались. И не было в этом ни тени порока, а просто готовность продолжить знакомство.
До четырех часов утра Полина и африканский студент Луис гуляли по бесчисленным тропинкам Ленинских гор, где Ленин – случись ему там прогуляться, да в мае, когда все цветет, да с девушкой, вроде чудесной Полины, – забыл бы и думать о красном терроре. Новый невиданный мир раскрылся перед глазами молодой, нигде еще не побывавшей москвички, когда Луис, настоящее имя которого оказалось, кстати, не Луис, а Лумузин, рассказал ей об ослепительных красотах Кении, омываемой водами Индийского океана с одной стороны и ярко-синим озером Виктория с другой. Полина дышала прерывисто, страстно, как дышит и та, кто готовится к смерти, и та, кто, напротив, рожает младенца, дышала, как лань на бегу, как невеста, узнавшая, что ее суженый жив, дышала всей грудью, всем горлом, и Луис от звука дыханья ее содрогался и, чувствуя, что он теряет рассудок, шептал и шептал ей, какие там, в Африке, стада антилоп, и какие фазаны, какая там лава, и рифы, и скалы, а встретишь вдруг в джунглях чужого, скажи: «Приятель! Я вижу, что ты из бакига».
– Что ты: из чего? – удивилась Полина.
Блещущий яркими белками в полутьме скромной московской зелени, где нет олеандров и тропических бабочек, студент Лумузин объяснил ей, что люди из этого племени славятся твердостью. Бакига не знают ни грусти, ни жалости. Вот если случится, что вырастет пузо, когда еще девушка замуж не вышла, ее моментально увозят на остров, и там пусть она помирает без пищи, а также бывает, что сбросят с утеса.
Тут вспыхнула гордость в лице Лумузина: ведь всякий считает народ свой великим. Полина, напротив, покрылась мурашками, представив беспечных студенток филфака, которых бы то увозили на остров, а то бы бросали с высокой скалы.
Примерно в два тридцать измученный Луис привлек к себе еле знакомую девушку и стал целовать ее в пухлые губы. Все гибкое тело его раскалилось, а руки, обвившие нашу Полину, дрожали от яростной страсти столь сильно, что, слившись в объятьях, студент со студенткой напомнили дерево перед грозою. Вот так и его, озаренное молнией, качает и гнет во все стороны, так же! Настолько разительно было отличие африканского человека Луиса от вежливых соотечественников Полины, стремящихся получить образование в стенах Московского государственного университета, что ни прежнего страха, ни отвращения к физической близости, которую заронил в ее сердце безответственный Олег Мухтарович, не наступило и, вся трепеща, как кенийская птица, влюбленно клюющая спину жирафа, искусанную насекомыми в кровь, – да, вся трепеща, как кенийская птица, Полина легла на помятую траву, и Луис, почти не заметный во мраке, накрыл ее телом.
Светало, когда он ее отпустил. Река была серой. Худой соловей, давясь своей сладкой, сияющей трелью, сглотнув червяка, улетел восвояси. Внутри их волос шелестели травинки, и божья коровка, неловко сползая по шее Полины, уже торопилась к заждавшимся детям. Все жило обычною жизнью. Полина, упавшая в траву часа два назад, была одинокой и грустной, а встала она с этой теплой травы столь счастливой, что чуть не смеялась от жадного счастья.
Луис обнял ее за плечи, они спустились с Ленинских гор, метро еще не работало, но какой-то частник, некрасиво опухший от семейных неурядиц, впустил их в машину и быстро довез до подъезда Полины. Она постояла немного, помедлила. Подъезд был уродливым, темно-зеленым, и дверь вся чернела дурными словами.
– Ты мне не звони, – попросила Полина. – Увидимся завтра в столовой.
Мама и папа, с которыми она жила с самого своего рождения, не спали и встретили дочку скандалом. Квартира была небольшой, аккуратной, мама работала бухгалтером в поликлинике, а папа концертмейстером в театре Красной армии. Они были самого среднего возраста, не слишком любили друг друга, поскольку у папы давно была женщина. Мама, хотя обо всем этом знала и злилась, но все-таки папу к ней не отпустила. Сейчас их сближал страх за дочку Полину, и оба, пропитанные валерьянкой, увидели, что дочь их жива и здорова, и тотчас же схватили ее за рукав.
– Как ты! Как могла! – Мама чуть не упала. – Ты кто? Проститутка! Ты знаешь, ты кто?
– Немедленно мне отвечай! – крикнул папа, имеющий дело с высоким искусством. – Немедленно! Я не шучу! Ты с кем шлялась? И где? Где ты шлялась? И с кем? С кем и где?
Полина решила, что скажет всю правду. Она была часто не в меру правдивой.
– Ну, я познакомилась с парнем. Он черный. Вернее: он родом из Кении. Вот. И мы с ним гуляли.
Мама прислонилась к стене и закрыла глаза.
– Тебе, – не открывая глаз, прошептала она, обращаясь к папе, – тебе за грехи твои… Вот, получай…
– Я здесь ни при чем. – Папа скрипнул зубами. – В нормальной семье мать должна объяснить, что можно и что нельзя, а у нас…
– Откуда у нас быть нормальной семье? – И мама открыла глаза. – Ты не знаешь?
– Полина! – У папы раздулось лицо. Полина заметила, как он стареет. – У вас была близость, ну, с этим… ну, как его?
– С Луисом. – Полина доверчиво вспыхнула. – Он мне предложение сделал. Сегодня. Ну, я согласилась.
– Она идиотка у нас. Ненормальная. – И мама вновь быстро закрыла глаза. – Вся в бабку, в мамашу твою.
– Молчать! Я просил замолчать! – Тут папа так гневно затряс свою дочь, что сам весь затрясся. Полина боялась, что папа почувствует запах Луиса, тряся ее, словно какую-то куклу. – Ты шутишь, надеюсь?
– Нет, я не шучу. – Полина слегка от него отодвинулась. – Ведь мне почти двадцать. Ну, что тут такого?
– Да хоть сорок пять!
– Ох, кто на ней женится? Что ты, ей-богу! – И мама открыла глаза. – Получит кенийскую язву с глистами. А может быть, сифилис. Этим все кончится.
Конечно же, мама несла чепуху. Кенийских ведь язв не бывает в природе, бывают тропические. Возникновенье глистов-паразитов не связано с ними. И язва – сама по себе, ни при чем здесь глисты.
– Короче, – сказал мрачно папа. – Обходишь и впредь будешь мне обходить за версту любого такого еще черножопого! И чтобы мы с мамой об этом не слышали!
Полина укоризненно посмотрела на папу своими чудесными глазами.
– Я так не могу, – прошептала она. – Мне стыдно за вас…
И голос прервался. Тут папа схватил сам себя за виски и вышел на кухню нетвердо, как пьяный. Полина и мама остались вдвоем.
– Попелька, – сказала мама, хитростью пытаясь вернуть себе дочернее расположение и поэтому называя Полину тем именем, которым ее называли в детстве. – Папа, конечно, грубо сказал, и люди равны… – Она помолчала, поправилась. – Хотя не всегда. И, конечно, не все. Поскольку ведь есть людоеды, пигмеи…
– Но он не пигмей, и он не людоед! – вскричала Полина сквозь слезы. – Он кончил к тому же Сорбонну и Гарвард!
У мамы глаза посветлели, блеснули.
– Откуда ты знаешь?
– Он сам мне сказал.
– Он что, из богатой семьи?
Полина махнула рукой.
– Нет, ты погоди! Погоди мне махать! – И мама сама замахала руками. – Ведь если он так образован и деньги… Он что, из плантаторов родом?
– А как же? Откуда еще? Там огромные деньги! Там прииски, там миллионы, поместья. Свои антилопы, свои обезьяны. Отец вон скупил половину Парижа. А ты что подумала?
– Как половину? – И мама вдруг вся покраснела. – Парижа? В Париже скупил половину чего? Ну, это же все абсолютно меняет! А он очень черный? Твой, этот… ну, как его?
Полина и всхлипнула, и засмеялась:
– Вы дикие люди. Расисты. Мне стыдно, что я ваша дочь.
В полдень она сидела в столовой на том самом месте, на котором сидела вчера, только на это раз не было никакой сметаны, а был только чай в непромытом стакане. Луис, ее возлюбленный жених, ворвался в столовую так, словно кто-то за ним сейчас гнался. Его шоколадная скользкая кожа была темно-серой от гнева.
– Полина! Не слушайся злых!
Полина была уверена, что он имеет в виду ее отсталых родителей, и ужаснулась жениховской проницательности.
– Она говорит, – вскрикнул Луис гортанно, – что это ребенок меня! Не меня! Ребенок Гамюка. Конечно, Гамюка! А может быть, Дабуламанзи.
– А кто это: Дабуламанзи? – спросила Полина.
– Один из Туниса, – сказал он. – Неважно! Ребенок ее не меня.
Полина привстала со стула:
– О ком ты?
У Луиса грозно сверкнули белки. Ответить, однако, он ей не успел. В столовую входили две девушки: одна – очень высокая, обмотанная оранжевым шарфом, бледная, с темными кругами под глазами и большим ртом; вторая – невысокая и кривоногая, с прекрасно развитой, сильно открытой вырезом черной майки грудью, нежно-оливковыми щеками и длинными густыми волосами, текущими вольно до полных локтей. Обе они учились на филфаке, но подругами застенчивой Полины никогда не были, так как жили в общежитии.
Бледная и высокая, в оранжевом шарфе, быстро подошла к Луису и взяла его под руку. Он выдернул руку и, тихо рыча, поскольку был сильно обижен, сказал ей:
– Береза, уйди.
У бледной девушки по фамилии Береза увлажнились глаза. Звали ее Клавдией, но редко кто обращался к ней по имени, поскольку сказать человеку «Береза» гораздо звучней, чем сказать просто «Клава». Полина почувствовала, что ей становится не по себе и нужно скорее бежать из столовой, где сердитая буфетчица то и дело выхватывает с подноса одного слабого утенка за другим, бросает его на тарелку, а после трет желтые ногти о круглый свой бок.