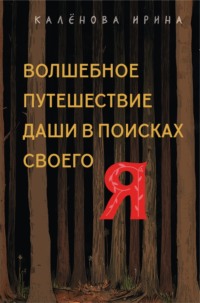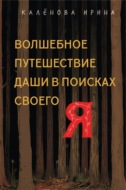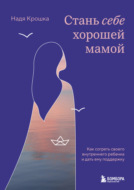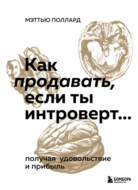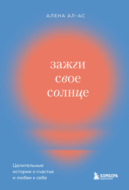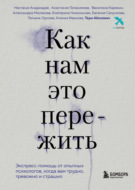Kitobni o'qish: «Волшебное путешествие Даши в поисках своего «Я»»
© Текст. И. К. Калёнова, 2025
© Внутреннее художественное оформление. И. К. Калёнова, 2025
© Художественное оформление форзацев. И. К. Калёнова, Д. А. Голуб, 2025
Благодарность
От всего сердца хочу выразить искреннюю благодарность Дарье Завьяловой, которая послужила прототипом героини Даши. Твои удивительные беседы, глубокие вопросы и свежие идеи стали искрой, которая зажгла моё воображение и помогла создать эту историю.
Твой уникальный взгляд на мир и стремление к самопознанию придали героине черты, которые делают её живой и близкой каждому читателю. Спасибо тебе за творчество, неравнодушие, за поддержку и мотивацию, которые ты мне подарила.
Надеюсь, эта книга принесёт радость и вдохновение так же, как наше общение вдохновило меня.
Предисловие
Когда мы берём в руки книгу, как правило, мы точно знаем, что хотим получить от её прочтения. Сейчас у вас в руках книга, эффект от прочтения которой может быть самым разным. С одной стороны, она по-своему обобщает теорию, методики и техники гештальта и психодрамы. С другой – приглашает в путешествие в волшебную страну, где с помощью сказочной метафоры можно встретиться с собой, с миром, с другими. В сказке не бывает совсем уж прямых троп, а место назначения зависит от того, кто именно идёт. Поэтому важно – как именно вы будете её читать. Увлечённо, взахлёб или спокойно, размеренно. А может быть, маленькими кусочками? И так, и так будет правильно и эффективно.
Книга, которую вы держите в руках, помогает читателю увидеть собственное разнообразие и принять себя в этом разнообразии. В ней собрано много маленьких историй, обобщающих большой опыт. Следуя за автором, читатель получает возможность примерить на себя роли и клиента, и терапевта. Когда я впервые прочитала эту книгу моей коллеги Ирины Каленовой, мне вспомнилось напутствие А. С. Пушкина к читателю «Евгения Онегина»: «Прими собранье пёстрых глав, полусмешных, полупечальных». Так и я приглашаю вас принять собрание этих пёстрых глав. И пусть вас не пугает, а только удивляет разнообразие и пестрота предложенных вам страниц.
Может быть, они вас удивят. Может быть, вызовут улыбку. Подчас могут подступить слёзы, а иногда – появиться комок в горле. В какой-то момент возникнуть может даже злость. Но они точно не оставят вас равнодушными, извините за банальности. За каждым словом в этой книге стоит творческое осмысление теории и реального опыта автора.
Здесь три главы, и фактически это три разные книги под одной обложкой. Процессы развития личности показаны не как некоторый линейный процесс, а как уникальная динамическая мозаика, состоящая из встреч с многообразным, зачастую травматическим опытом. Это книга про Встречу.
Важной особенностью является и то, что в процессе исследования гуманистических отношений между людьми поднимаются в доступной форме непростые вопросы восприятия человеком веры, истины, красоты, доброты и так далее. В этой книге вы встретите бережное и предельно честное рассмотрение этих вопросов.
Здесь не будет привычных советов и поучений. Ирина только ставит нас перед необходимостью понять: где я, кто я, с кем я – и формирует ответственное отношение к жизни. Это книга, где задаются вопросы и находятся ответы, причём каждый может найти свой ответ. Это глубокое искреннее путешествие к самому себе, в котором автор берётся быть вашим проводником.
Стилистика повествования о психологии бывает очень разной. Мы знаем захватывающий кинематографическим стиль Ирвина Ялома, лаконизм и глубину Виктора Франкла, полный философского юмора и методически отточенный язык Греты Лейтц, провокативную манеру Фрица Перлза. Эпитеты субъективны, а список можно продолжать бесконечно.
Книга, которую вы держите в руках, написана в традиции разговорного жанра, и это делает её уникальной в своём роде. Ирина выбирает стиль рассказчицы с глубоко заинтересованным, но не имеющим психологического образования читателем. Интонация такого повествования интуитивно знакома читателям: от древних эпосов до сказов.
Сам формат активного диалога с реальным человеком (спасибо Даше за её интересные вопросы) вовлекает читателя в беседу. Так инициируется внутренний диалог: насколько это у меня похоже или непохоже; а что там у меня с внутренним критиком, на какие ресурсы я могу опираться в себе. Приведенный в тексте опыт проживания травматических и кризисных ситуаций вдохновляет и намечает творческие пути-тропинки, которые читатель может выбрать для себя сам. После этой книги хочется перелистать альбом семейных фотографий, снять с полки сказочный томик, а может быть, даже сочинить стихи. В любом случае появляется импульс к творчеству.
Для профессионалов книга интересна как знакомство с направлениями творческого поиска и выбором методических средств, помогающих клиенту в разрешении его ситуации. Начинающих психологов книга знакомит с уникальным личным и профессиональным опытом. А человека, которому просто интересна психология и психотерапия в частности, эта книга сможет воодушевить или сподвигнуть на личностные изменения.
Когда Ирина рассказывает об опыте проведения Мастерской Неслучайных Сказок, мне хочется слушать её бесконечно, хотя я – как соведущая – хорошо знакома со сценарием занятий. Но автор рассказывает так, что реальность становится объёмной, живой, вкусной, хочется попробовать этот опыт. Это особый взгляд и определённая стилистка, которая, несмотря на лёгкость изложения, помогает клиенту погрузиться в глубокое исследование своего Я.
Я благодарна за эту тональность, искреннюю и не перегруженную, за разговорный жанр, который нетипичен для психологических книг. Обращаясь то к фольклорным, то к авторским сюжетам, Ирина создаёт уникальную динамическую мозаику, которая больше всего напоминает мне калейдоскоп. Мы вращаем детскую игрушку, и меняются отношения между Героем, Жертвой, Спасателем, Мастером, Сказочником, Злодеем и так далее. Герои сказок разные, а ролевой репертуар остаётся похожим, актуальным для современного человека.
Переплетая в книге красоту и глубину сказочного эпоса с историями клиентов, Ирина, с одной стороны, рассказывает о конкретных людях, живущих в 21 веке, а с другой – предлагает взглянуть на их сложные ситуации через призму, выработанную опытом многих и многих поколений.
У каждого из нас своя ткань бытия – это события, составляющие нашу жизнь. А ещё есть ткань переживаний. Случаются тяжёлые, травмирующие ситуации и эта ткань рвётся. «Распалась дней связующая нить», – говорит Шекспир, то есть целостность переживаний нарушилась. Но пока мы можем переживать события прошлого, настоящего и будущего как целое, нам доступно рассматривать этот опыт как ресурс для проживания сложных жизненных ситуаций.
Искренний рассказ автора о своей человеческой и профессиональной истории позволяет читателю получить опыт бережного проживания трудных чувств, связанных с прошлым, настоящим и будущим. В этой книге переживания соединяются, а на место разрыва предлагается Любовь.
Я благодарна судьбе за то, что у меня произошла Встреча с Ириной Каленовой. И я благодарна тебе, Ирина, за то, что ты написала эту книгу.
О. В. Кардашина
Кан. Пед. Наук. старший тренер МИГиП.
Глава 0.
Истории

Для начала хочу рассказать вам несколько разных историй про то, как дело было. С чего всё началось, и как родилась эта книжка.
История первая
Страна рушилась, а я искала свой путь
Вдобрые старые советские времена я работала в Научно-Исследовательском Институте при прокуратуре. Там серьёзные люди пытались понять причины преступности. Идеология была основана на марксистко-ленинской философии, обязательной для всех, а значит, объяснить могла всё. Хорошая мысль… жалко, неосуществимая.
Наука, которой я занималась, называлась криминология. У её истоков стоял мой отчим – Игошев Константин Еремеевич. В те времена считалось, что юрист и немного философ вполне может разобраться в причинах преступности и придумать, как её предотвращать.
Все знали, что уровень развития общества определяет уровень развития личности, а материальное определяет сознание. Рассуждали они так: если с обществом всё будет хорошо, и мы потихоньку будем идти к коммунизму, у всех будет достаток, то и преступности не будет. Разве что, как говорил К. Маркс, из ревности кто-то может кого-то убить. Хотелось верить. И мы верили. Трудно не поверить в то, что витает в воздухе, особенно, когда с детства слышишь об этом везде, даже на кухне за завтраком.
Вспоминаю, как я, 13-летний подросток, сижу на полу в родительской квартире, вокруг меня стопками сложены анкеты, которые мой отчим собрал для своей докторской. В одном углу те, что преступники из тюрем заполняли, а в другом те, что обычные люди. Всё это было совершенно необходимо для папиной докторской диссертации. Пачки огромные – по 500 анкет в каждой, а может и больше. Я помогаю их обсчитывать вручную, при помощи счёт. А вы умеете счётами пользоваться? Да вы, наверное, и не знаете, что это такое.
Смысл этой тяжёлой и скучной работы был в том, чтобы разобраться, чем содержимое пачки из правого угла отличалось от содержимого из левого. В результате мы все должны были понять, чего же ещё этим преступникам не хватает – материальных благ или воспитания, что у них общего и как выглядит «Личность преступника». Отчим, видимо, понял, потому что диссертацию защитил с блеском и книжку написал. И даже официально был объявлен одним из отцов советской криминологии.
Так вот, сижу я, такая грустная, на полу в родительской хрущёвке и думаю: «Мне так ужасно, одиноко и холодно от того, что общество, наверное, не так на меня влияет. Наверное, обществу очень надо, чтобы как хорошая девочка я от бабушки сюда, в мамину квартиру, по уральскому морозу ехала папе помогать науку делать. Деваться некуда, коммунизм строим, а в этом обществе только таких выдающихся, умных юристов любят, которые диссертации пишут».
В это время мама с полочки книжку снимает, читай доченька. Ты уже большая, зачем тебе все эти сказки читать? Пора читать Спинозу. Читаю я Спинозу, скучаю, но понимаю – придется быть «умной».
В общем, у меня, дочери профессора и кандидата наук, выбора не было: пришлось заняться криминологией, надо было соответствовать. Меня определили в НИИ.
Сижу я в определённом мне судьбой и родителями НИИ и никак не могу понять, чем занимаюсь. Что со мной не так? Все же что-то пишут, говорят, решают. С меня диссертацию требуют. Сижу со всеми этими мыслями я за столом, а на столе пачки анкет, справа те, что несовершеннолетние преступники заполняли, а слева те, что обычные подростки. Анкет много, но зато у меня теперь калькулятор есть. Выясняю, чем же они друг от друга отличаются и придумываю, что же ещё в их воспитании поправить, как и куда их вести. И что же это такое «Личность».
Думала я, думала, и возникала у меня крамольная мысль: «А что, если все гораздо сложнее?» Иначе почему далеко не все дети нищих и алкоголиков оказываются в тюрьме? И наоборот, почему иногда туда попадают вполне благополучные подростки? Но статистика упорно подтверждала основную идею, а отдельные люди никого не интересовали. Я не понимала, как заниматься индивидуальной профилактикой преступлений, если личность – это что-то среднестатистическое. Один человек – это же десятые доли процента. Иногда чувствовала себя полной дурой, но упорно это скрывала, надо было соответствовать.
Стоит отдать должное коллегам, не одна я почувствовала, что с криминологией что-то не так. Многие стали советскую психологию почитывать, а она на месте не стояла. У нас в институте даже кафедра психологии была. Но там тоже анкеты в основном обсчитывали. Не хочу обесценивать наши исследования, они тоже были нужными и важными, но на мой личный вопрос: «Почему одни люди совершают преступления, а другие нет, хотя росли они в одинаковых условиях?» – не отвечали. А точнее: «Почему люди разные?» Сейчас этот вопрос многим кажется странным, а тогда в нашем НИИ он был почти крамольным.
Потом к нам через границу всякие другие психологические мысли стали проникать. Коллеги пытались их как-то в криминологию вписывать, ну как могли.
Так я оказалась на территории психологии. В лексиконе коллег стали появляться такие слова, как «самооценка», «социальная роль», «ценностная ориентация». Я пыталась всё это осознать, собрать, и у меня даже что-то получилось. Но народ, заточенный на советскую идеологию, всё равно не понял и не принял. Мою диссертацию приняли холодно и велели многое переделать, цитаты правильные советские вставить, а уж потом о защите думать.
Потом грянула перестройка, а за ней «прекрасные» 90-е. Вместе со смертью Советского Союза наступила и смерть науки криминологии, а заодно и моей диссертации.
Рынок стал главным двигателем прогресса. Анкеты мои, те, что я для своей диссертации обсчитывала, вместе с анализом и теоретической частью мой начальник просто продал кому-то и этот кто-то успешно защитился. А я осталась без диссертации, без веры в человечество, без надежды и смысла. Всё, что мне оставалось тогда в лихие 90-е – это ухаживать за умирающей криминологией, потому что в прокуратуре хоть как-то платили, надо было выживать.
Помните, в школе учили:
«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог…»
Ну и так далее, всё по Пушкину.
Вот и я сидела у ног умирающей науки все 90-е, скучала, но зато кормила себя и всю семью.
Все эти годы меня не оставляла мысль о бессмысленности того, чем я занималась. Хотелось приносить пользу людям, спасать кого-нибудь, дарить счастье, но не получалось. Было тоскливо и не только мне. Бытовое пьянство во время работы стало привычным.
К тому времени в России психология развивалась полным ходом. В одной пачке вместе с религиозной, сектантской и эзотерической литературой к нам пришла и западная психология. Народ тихо сходил с ума от количества новых идей и возможностей.
Ура, думала я, вот теперь-то я, наконец, пойму, как устроен человек. Пусть это прокуратуре не надо, зато я отвечу на мучавшие меня вопросы: как же мы устроены и почему люди, выросшие в одинаковых социальных условиях, поступают по-разному. Я начала читать всё, что попадалось под руку, но для того, чтобы разобраться в этом, катастрофически не хватало базового образования.
Наконец криминология окончательно освободила меня от своего присутствия, и прокуратура отправила меня на пенсию. Мне было 46, я была ещё вполне бодра и верила – жизнь только начинается. Наконец-то можно заняться тем, что интересно мне – психологией. Учиться и ещё раз учиться. Я пошла получать второе высшее.
История вторая
Внутри психологии
Я взялась за дело с энтузиазмом, мне было интересно всё. В этом ВСЁ и ждала засада, я столкнулась с неожиданными трудностями. На меня обрушился поток авторов, концепций, идей.
Наши преподаватели выходили и рассказывали совершенно разные теории: Фрейд, Юнг, Роджерс, Перлз, Ялом и ещё, и ещё. Каждый из преподавателей утверждал, что его любимый автор лучше других. А я, как человек, пришедший из фундаментальной науки, не могла понять, что это вообще такое. Я привыкла, что есть одна стройная, выверенная до мелочей точка зрения, а все другие неправильные. Здесь же одни говорят одно, другие другое, вроде, всё работает, всё правильно, но ничего не сопоставляется между собой.
Для Фрейда человек – это некая энергетическая, сексуально озабоченная система. Его ученик Юнг придумал архетипы. Роджерс выступал со своей Я-концепцией вместе с соратниками по феноменологическим теориям. Экзистенциалисты – все про ценность человека перед лицом абсолютных величин: Одиночества, Любви и Смерти. Берн про вечный спор внутреннего ребёнка и внутреннего взрослого. Для Перлза с его гештальтом человек состоит из потребностей, которые надо удовлетворять, но не всегда получается, а Морено – набор ролей.
Очень всё это сложно было для меня.
То ли дело когнитивный подход. Для его последователей человек – это просто хороший компьютер, перерабатывающий информацию. Они точно в искусственный интеллект верят.
Бихевиористы от собачки Павлова не так уж далеко ушли. Для них человек просто отвечает на подкрепления из окружающей среды, запоминает и реагирует соответственно.
Теорий много, и каждая из них вроде бы правильная и людям помогает. В одних учебниках предпочтение отдаётся одним, в других другим, в зависимости от моды. Одно время по популярности побеждали когнитивные направления, наверное, как самые понятные. И моей криминологии там место нашлось где-то между бихевиоризмом и когнитивными теориями.
В последнее время начали распространяться и гуманистические теории с их Я-концепцией. Модно стало помещать человека в центр мира. Но и про Фрейда с Юнгом никто не забывал. В зависимости от года издания и географической принадлежности автора, книжки по психологии меняли свой облик, глубину и содержание.
Наверное, это даже хорошо, что ни одно направление не победило. В каждом было что-то своё. Тут, правда, мне вспоминается известная притча о слепых, пытающихся понять, на что похож слон. Для того, кто ощупывал ногу, слон – это колонна, для того, кому достался хобот, это шланг, кому бок – решил, что это стена, ну и так далее. Фрейду явно достались гениталии.
Все правы, но у всех своё виденье. Для меня оказалось очень тяжело понять, что единой психологии как таковой нет, а есть много выдающихся гениальных авторов, которые построили свои схемы понимания того, как устроена личность человека. И не нашлось никого, кто бы хоть как-то соединил эти понятия в одну стройную систему и сказал, наконец, как правильно.
Самым сложным для меня было то, что каждое направление создало свою уникальную терминологию. Из-за этого, объясняя одно и то же явление, все кому не лень оперируют несовместимыми понятиями из разных направлений. И такая путаница происходила не только на страницах популярных журналов. Повсеместно люди использовали и продолжают использовать разрозненные термины к месту и не к месту.
Понадобилось немало волевых усилий, чтобы уложить всё это в одной голове. Во всяком случае, гештальт с психодрамой удалось соединить. А психодрама оказалась связана с юнгианскими образами. Пришлось заглянуть и туда. Без некоторых изобретений Фрейда вообще никуда. Ну а понять человека без Любви и Смерти в принципе невозможно. Если невозможно увидеть слона целиком, надо же было хоть как-то составить представление о том, как этот слон выглядит. С кашей в голове мне лично жить было невозможно, тем более работать и помогать людям.
Для того, чтобы начать работу, надо было ещё и инструментами овладеть, а они у всех направлений тоже разные и не совмещаются почти никак. Был только один способ сориентироваться в этом океане различий – выбирать своё направление. Выбрать можно, только погрузившись в теорию и практику, а это требовало слишком много сил и времени. Мне хотелось как можно скорее начать спасать кого-нибудь, я была в растерянности.
Сначала я попала в программу 12 шагов. Это сейчас такие группы есть в каждом районе, а тогда они только появлялись. Мне понравилось, что научиться вести группу можно быстро и без экспертных знаний. Всё давным-давно продумано за нас и прекрасно работает, причём не только для алкоголиков. Но по этой же причине вскоре мне стало скучно. Никакой самодеятельности, всё по специальной книжке.
Тогда я и встретила удивительного учителя Жанну Лурье – она просто пришла, посмотрела на меня и сказала: «Значит так, тебе в гештальт». Учиться было долго и дорого. От этого у меня аж слёзы навернулись, но другого пути к мечте я не видела. Я подумала, что это «Судьба», и согласилась. Так я и попала в Московский институт гештальта и психодрамы.
Гештальт давался мне тяжело. После такой стройной советской науки надо было серьёзно перестраивать мозги, а они сопротивлялись. Никаких тебе анкет и представлений о том, как правильно. Понятия «хорошо» и «плохо» вообще пришлось растворить в безграничной свободе выбора и ответственности за свои поступки. Что такое потребности было понятно, но когда начались всякие там механизмы сопротивления и фигуры с фоном, мозги выворачивались наизнанку. Три года обучения и параллельной психотерапии сделали своё дело, я получила диплом о втором высшем и сертификат гештальт-терапевта. Я – психолог. Работа началась.
А потом я увидела психодраму в МИГиП, сложно было пройти мимо. Это было похоже на чудо. На моих глазах разворачивался настоящий спектакль.