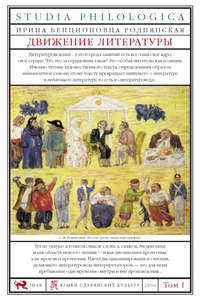Kitobni o'qish: «Движение литературы. Том I»
Человек рассматривает факт, и если этот факт не соответствует его идеальным представлениям, он смеется.
Владимир Соловьев
© Роднянская И. Б., 2006
© Языки славянских культур, 2006
* * *
ИРИНА БЕНЦИОНОВНА РОДНЯНСКАЯ

Роднянская Ирина Бенционовна – литературный критик, литературовед. Автор книг «Художник в поисках истины» (1989), «Литературное семилетие» (1995), многочисленных публикаций в прессе, посвященных текущей отечественной литературе и русской классике, а также циклов статей по теории литературы и философской эстетике в ряде энциклопедий. Другие направления работы – русская философия (Вл. Соловьев, С. Н. Булгаков) и социокультурные темы.
От автора
Настоящая книга формировалась в течение четырех последних десятилетий преимущественно как повременные наблюдения за текущей отечественной поэзией и прозой. Однако мною как литературным критиком руководила непреходящая потребность соотносить эти свои наблюдения с классическими именами XIX и XX столетий (без какового включения в «большое время» анализ текущего потерял бы для меня смысл), а также – с философско-идеологическими мотивами и филологическими идеями, находившимися в обороте заодно с современной мне литературной продукцией. Состав и структура книги, надеюсь, отражают разнонаправленность и единство интересов ее автора.
Моя неизменная благодарность – другу и постоянному собеседнику, философу Ренате Александровне Гальцевой, в соавторстве с которой написаны, в частности, два представленных в двухтомнике текста; Сергею Георгиевичу Бочарову, к чьим советам я прислушивалась и чья филологическая работа представлялась мне ориентиром; филологу и критику Михаилу Юрьевичу Эдельштейну, помогавшему мне в структурировании книги; сыну известного стиховеда Ярославу Александровичу Квятковскому, принявшему участие в технической подготовке рукописи; наконец, давним и нынешним сотрудникам журнала «Новый мир», на страницах которого находило первоначальное пристанище многое из того, что теперь входит в книгу.
При чтении прошу заметить, что разрядка в цитатах принадлежит автору книги, а курсив – авторам цитируемых отрывков.
Беседа с автором о профессии
Беседу провела Т. А. Касаткина
Ирина Роднянская: У Вас был вопрос о предмете и границах литературоведения. Ну, прежде всего, само это слово – литературоведение – чрезвычайно искусственно. Даже подозреваю, хотя так и не проверила, что появилось оно у нас в 30-х годах, в соответствующую советскую эпоху. И чуть ли не всякий, кто занимается тем, что это слово должно покрывать, боится его, как чумной заразы, и в разных справках о себе старается писать что угодно: филолог, историк литературы, культуролог (хотя «культуролог» – тоже слово неважное). Но только не «литературовед». За этим, видимо, стоит некое не до конца вербализованное ощущение, что это искусственное слово или безмерно широко, или вообще ничего не означает. Или – слишком много, или – ничего. С тем, что оно означает слишком многое, можно примириться, потому что, если счесть это понятие просто указанием на внимание к одному определенному предмету, проявляемое в разнообразных формах, тогда оно, обсуждаемое понятие, получает кое-какие права. Предмет же этот, как, кстати, лаконично констатирует «Литературный энциклопедический словарь», – художественная литература. И вот, исходя из этого, я бы сказала, что литературоведом является всякий, кто пишет нехудожественные (не беллетристические) тексты о художественной литературе, каковы бы они ни были. От цифири, которой занималась школа Колмогорова, до, предположим, «Писем о русской поэзии» Гумилева или «Книги отражений» И. Анненского. От стиховедения Андрея Белого до «образа автора» в исследованиях Бахтина, хотя философ Бахтин решительно перешагивает «литературоведческую» границу понятия «автор» и говорит уже о Творце (Авторе) миров. Да, все это – от «Мильона терзаний» Гончарова до современных деконструктивистов – можно посчитать литературоведением и только при таком условии примириться с термином, не стараясь его уточнять, дотошно онаучивать.
Между тем у этого рода занятий есть все-таки свое ядро, свое сердце. Вот это-то сердце «соседи» со смежных территорий знания пытаются из литературоведения изъять – аннигилировать как ненужное, антинаучное, обветшавшее. Что же это за сердцевина такая? Ну, сами понимаете, – не история литературы, поскольку это часть истории культуры, естественным образом смыкающаяся с нею. Это не поэтика, поскольку поэтика – как литературная теория вообще – законная часть эстетики (вспомним Аристотеля). Это не вполне филология, потому что филология есть специфическая работа над текстом, его пристальное комментирование, изучение его генетических микросвязей. Что-то «отхватывает» себе философия, большой кус – социология, так как социология чтения не может не касаться функционирования текстов в десятилетиях и веках, т. е. и литературоведческой проблемы. Короче, я думаю, что это самое «ядро», подозрительное и неприемлемое, даже ненавидимое за «архаичность», антипозитивность и «рефлектерство», – герменевтика и экзегеза художественного произведения (воспользуемся терминами из несколько сторонней области). Потому что именно чтение художественного текста, определенным образом имманентное ему самому, и превращает пишущего о литературе в ведающего литературу; он тогда становится в каком-то преимущественном смысле литературоведом.
Тут встает вопрос, который мне лично не слишком интересен, но который всегда на устах у профессиональной общественности: является ли это наукой? Что ж, соглашусь, что это не наука (science), а дисциплина, дисциплина в двух смыслах: во-первых, дисциплина как область некоторого знания, во-вторых, дисциплина в буквальном, ближайшем значении этого слова – как дисциплина прочтения, а не произвол прочтения. В этой связи еще один вопрос маячит, его и Вы не могли мне не задать, и я сама над этим много размышляла, потому, в частности, что писала для энциклопедий некоторый статейный цикл, трактующий о художественном образе и художественности (понятия, выходящие из употребления вместе с классической эстетикой). Вопрос этот – о пределах интерпретации. Могу сказать, в чем, по-моему, идеал дисциплинированного чтения, делающего литературоведа интерпретатором. Это пребывание одновременно и внутри и вне произведения.
Что значит «находиться внутри произведения»? Это значит конгениально автору выявлять его акцентуацию, а не заменять ее сходу своей собственной. Ведь состоятельное произведение искусства многозначно, но не сколь-угодно-значно, и, говоря несколько механическим языком, в него вмонтированы посреди «мест неполной определенности» (Р. Ингарден) некие смысловые определители и ограничители, игнорировать которые значит ломать вещь через колено. Интерпретатор не обязательно должен выяснять, что хотел сказать автор (хотя такая реконструкция желательна, а в текущей критике подчас насущна), но ему следует выяснить, что же автором сказалось, прежде чем примерять к этому «что» собственную мыслительную раму. Для этого не существует алгоритма, хотя безусловно предполагаются некие вспомогательные приемы и навыки, связанные с пониманием эпохи, ее стилистики, с учетом интертекстуальности во всех ее гранях… Но (к вопросу о научности) все-таки – это чтение как первичное приближение к тексту, и инструментом такого чтения служит эстетическая эмоция, включенность аппарата восприятия, живого реагирования на задачу, реализуемую художественной вещью. И лишь «задействовав» этот аппарат (а не одну только сумму предварительных знаний), можно ощутить те акценты, которые сознательно или непроизвольно расставил автор, и не спутать их ни с чем другим. Для этого от исследователя-интерпретатора требуется самоограничение, не то самоограничение, когда боязно залезть в соседнюю область, боязно оказаться на одной делянке с социологом или философом, а то самоограничение, когда личность автора, начертавшая себя посредством особой маркировки на произведении, как автограф, не насилуется, а для начала принимается как таковая. Эту процедуру можно перевести на немного «птичий» язык гуссерлианской феноменологии (опять сошлюсь на такого хорошего феноменолога-эстетика, как Роман Ингарден), но дело не в языке, а в обязательствах интерпретатора, в акте его первичного, так сказать, бескорыстия.
Но поскольку существует не только правда художника, которая являет себя как реализация его замысла, – причем здесь случается проследить, насколько художник дал этому замыслу осуществиться, не мешая ему своим произвольным вторжением, идеологическим или иным, – поскольку существует еще мировоззрение самого истолкователя, то, что считает правдой он, – постольку второй этап процедуры – это неизбежное сопоставление истины данного творения, с той истиной, которую исследователь считает объективной, или, если угодно, высшей. И вот здесь уже совершается до-объяснение произведения – не из него самого, а из обстоятельств его создания, может быть, не до конца осознававшихся самим автором, – биографических, духовных, эпохальных и пр. Совершается суд над произведением, т. е. (по-гречески) его критика с позиций, так или иначе ему трансцендентных. И вот такое нахождение сразу внутри и вне – оно и есть, по моему разумению, двухтактовая задача интерпретатора; решая ее, он и становится «ведающим» данное художественное создание.
Приведу пример из Белинского, которого люблю, несмотря на все прегрешения, накопившиеся в его последнем, позитивистско-западническом периоде, когда он стал сознательно отодвигать эстетическое суждение на второй план во имя поддержки своей литературной партии. Скажем, его несправедливое – что ему теперь часто поминают – отношение к Боратынскому. Если мне не изменяет память, Белинский в статье о нем безошибочно выделяет его высшие, принципиальные создания, в том числе цитирует «Последнего поэта» с эстетическим восторгом, и только после этого резюмирует, что у Боратынского отсталая точка зрения на грядущее, что будут железные дороги, будет положительное развитие, прогресс и т. д.
По мне, конечно, XX век показал бо́льшую правоту Боратынского, хотя и сейчас не все, наверное, со мной согласятся; но вот то, что сначала дана воля эстетическому переживанию, притом без колебаний направленному на достойный объект (у Боратынского ведь, даже в «Сумерках», всякие стихи есть), и лишь потом собственное кредо противопоставлено верованиям поэта, это для меня свидетельство, что критик не весь отдался во власть тенденции и остался человеком, ведающим искусство. Пусть этот пример элементарен, зато он нагляден.
Что касается литературной критики, о чем у нас с Вами тоже предполагалось поговорить, я, по чести, не вижу никакой специальной границы между литературоведением и ею. Ну, можно сказать, что критика как жанр журнальный в отличие от литературоведения, имеющего более специализированный адрес, стилистически непринужденнее, эссеистичнее. И только. Вадим Кожинов когда-то писал, что критика предполагает участие в борьбе литературных лагерей на той или иной стороне, что в ней можно и должно быть пристрастным, быть идейным полемистом, поднимать на щит своих и расправляться с чужими, как это вообще водится в журналистике; ну, а литературовед – это человек, который занят словесностью прошлого и блюдет объективность, отрешаясь от своих литературных пристрастий. Я думаю, что это (во втором случае) абсолютно невыполнимое условие, и на примере самого Кожинова видим, что, обращаясь к прошлому, он его интерпретировал как правило достаточно пристрастно. Затем: по моим наблюдениям, люди, хоть сколько-то примечательные в литературной критике непременно занимаются и тем, что мы с Вами условно назвали литературоведением. И наоборот: я не знаю ни одного значительного исследователя литературного прошлого, который не делал бы вылазку, крайне заинтересованную, в текущее литературное движение, – и чем больше все это будет походить на сообщающиеся сосуды, тем лучше для сочинений о литературе. Жесткие деления здесь либо плод доктринерства, либо ставят критику в положение информационно-рекламной отрасли на рынке печати, а литературоведение запирают в какой-то отсек, где современности запрещено влиять на оптику исследователя, что вряд ли возможно и к тому же вредно.
Татьяна Касаткина: А что Вы сказали бы о литературоведении в Вашей жизни?
И. Р.: Я дилетант и никогда не числила себя в литературоведах, хотя, случается, пишу о себе это слово, раз другие анкетные слова еще сомнительней. Но стараюсь не писать. Дело в том, что, будучи критиком, я не могла удержаться от того, чтобы сочинять что-то и о классике, ведь я уже говорила, что между критиком и литературоведом не может быть неодолимой границы, и критик, который ни разу не писал ни о Пушкине, ни о Достоевском, ни о Блоке, ни о Мандельштаме, произвел над собою, по-моему, какую-то вивисекцию. Кроме того, в 70-е годы обстоятельства складывались так (и это нынче подвергается довольно иронической переоценке), что из критики в так называемое литературоведение, в так называемое свежее прочтение классики ушло немало пишущего народу. Просто потому, что не хотелось лгать, не хотелось быть причастным к ложной шкале ценностей, а противиться ей было почти бесполезно: даже если напишешь, к примеру, о настоящем писателе Андрее Битове, все равно статья (к тому же после цензурного ее процеживания) потонет в сонме дежурных похвал Георгию Маркову и ему подобным. Короче, в текущей литературе хозяйничали чужие люди, программируемые официальной идеологией и лицемерием собственного клана. И тогда, повторяю, многие ушли в прошлое, но ушли как критики, то есть это не были патентованные филологические штудии, это была эссеистика с актуальными выходами, чему-то пытавшаяся учить, напомнить что-то о высших началах жизни. Сказанное относится и ко мне. Да и конкретное стечение обстоятельств диктовало предмет занятий, их русло: если, допустим, тебя не печатают в журналах, а предлагают писать для «Лермонтовской энциклопедии», то статей двадцать я туда и написала. И с занятиями теорией литературы – то же самое.
Еще Достоевский долго был предметом моего особого – здесь даже можно сказать – изучения, я действительно обдумывала едва ли не каждую его строчку, включая черновики, и регулярно знакомилась с литературой о нем, хотя написала немногое.
В общем, из того, что можно хоть отчасти назвать литературоведением, получились у меня встречи с Лермонтовым, Достоевским, неожиданно – с Блоком. К его юбилею 1980 года «Новый мир» (почему-то!) предложил мне написать довольно пространную статью, от работы над которой у меня сохранилась огромная папка материалов и собственных заметок; полагаю, что встретилась с Блоком не дежурно, не журналистски юбилейно, а более серьезно. И в последнее время осмелилась кое-что сочинить о Пушкине, тоже, как кажется, выйдя за рамки журнализма. Без всего этого было бы скучно и тоскливо, я ведь и русской философией занималась (-юсь), а при этом нельзя не обращаться к русской литературной классике; если всерьез интересуешься Владимиром Соловьевым, то понятно – что и всеми, на кого распространялись его эстетические суждения. Просто страшно подумать, что этого утешительного сектора в моих литераторских занятиях могло не быть.
Т. К.: Ну а насчет нынешнего состояния литературоведения и людей, с ним так или иначе связанных – как у них меняются цели, задачи, понимание своего места в науке о литературе?
И. Р.: Боюсь, что развернуто ответить на этот вопрос – за пределами моей компетенции. Я очень ценю, именно в связи с тем «сердцем» и «ядром» литературоведения, о котором я говорила, труды Сергея Георгиевича Бочарова. Думаю, его последняя книга – «Сюжеты русской литературы» – является в каких-то отношениях ответом на вызов современных течений социологии литературы, деконструктивизма (который, кстати, является чисто философским, а не литературно-эстетическим методом), отбивая у них, отстаивая то самое пространство интерпретации – идущее от текста как художественного мира и лишь в итоге «за» текст. Очень может быть, что это воспринимается новейшей генерацией людей, пишущих о художественной литературе, как отсталость. Не знаю, как он, но я морально к этому готова, хотя и немного грустно, что дела идут таким образом. Я уже не раз читала у современных культурологов определенного круга, что все эти «прочтения» просто смешны, что пора и в нашем деле переходить на социологические рельсы, исходить из последних слов психоанализа, неофрейдизма, изучать литературу как часть культурной археологии и так далее, – кому, дескать нужно сотое прочтение «Евгения Онегина», предлагаемое болтунами, которые не опираются ни на какие позитивные методики, а вслушиваются в свои душевные вибрации, разве это котируется на мировых интеллектуальных рынках? Думаю, такое наступление на нашу традиционную любовь к нормальной гуманитарии будет вестись очень долго – до собственного полнейшего изживания. Помните, Бердяев говорил, что зло изживается на имманентных путях. Эта бердяевская идея, теологически, быть может, и сомнительная, приложима к некоторым теориям, которые гаснут без всякой видимой борьбы с ними. Так что и эта мода, эти веяния исчерпают себя со временем, но если говорить о сегодняшнем дне, считаю, что перевес в профессиональном кругу (я имею в виду прежде всего журнал «Новое литературное обозрение») – на стороне этих воззрений, и с ними надо считаться хотя бы просто как с фактом текущей умственной жизни.
Т. К.: В связи с этим – вопрос о проблеме мировоззрения исследователя. По мнению, например, «Нового литературного обозрения», у исследователя не должно быть мировоззрения, оно мешает тем «естественным» методам, которыми они пользуются.
И. Р.: Естественнонаучным. Это ведь старые разговоры. Не знаю, стоит ли приписывать эту позицию именно «НЛО». Все это звучало уже по ходу споров вокруг так называемых общественных наук, при этом каждый обвинял в идеологизированности своих оппонентов или предшественников, а в себе видел исключение из общего правила (хоть Карл Маркс, хоть Карл Мангейм). Впрочем, серьезные философы давно поняли, что отмыслить человеческий фактор даже из естественнонаучного (имеются в виду науки о природе) исследования невозможно. Конечно, у воинствующих позитивистов (зачастую – атеистов), отстаивающих «незаинтересованный» сциентистский подход, на деле еще ой-какая мировоззренческая жесткость. Вопреки собственным иллюзиям этот тип мысли демонстрирует активную, даже агрессивную тенденциозность, иногда искажая хрупкий «предмет», художественное произведение, до неузнаваемости.
Т. К.: Теперь вопрос относительно нашего опять-таки мировоззренческого отношения к тому, что мы называем «литературой XIX века». Ведь даже те из нынешних «нас», кто одной веры (или, скажем, одного безверия) с людьми, которые жили тогда, все равно находятся в совершенно ином культурном пространстве, и даже это наличие или отсутствие вер, оно все равно другого качества. Насколько мы вообще можем адекватно читать тексты даже ближайшего к нам, нашего же XIX века?
И. Р.: Разрыв все же преувеличен. Блок, перечитывая в 1909 году «Анну Каренину», записывает в дневнике, что в романе «вся психологическая путаница относится к настоящему» и почти ничего – к будущему. То есть человек Серебряного века, века свободных отношений, считал, что сюжет, развязка, «мораль» этого романа на глазах устаревают. Причем это говорит гениальный поэт, а не простой обыватель. Проходит время, и выясняется, что устарело очень многое из того перекошенного и сиюминутного, что было в Серебряном веке, а роман Толстого, при всем том, что сейчас возможны какие угодно разводы и какие угодно связи, он по-прежнему внятен и в принципе открыт непосредственному читательскому чувству. Если бы в великих творениях прошлых эпох не было зерна вечного (как и в человеческой жизни есть временное и вечное), то вообще было бы невозможно никакое духовное сообщение между эпохами и культурами. Конечно, функционируя в веках, литературное произведение обрастает все новыми и новыми прочтениями, но те точки, константы, о которых я говорила, они являются точками соприкосновения литературных вершин с вечностью. И поэтому, сколько ни толкуй «Антигону» (а это ведь не близкая к нам «Анна Каренина», это было так давно), сколько ни толкуй ее как канувшее в глубь веков столкновение полисной морали и морали патриархально-родовой, – все равно, ставится «Антигона» на современной сцене, даже не в перелицовке Ануйя, и каждый зритель понимает, что речь идет о коллизии морали прагматической (будь она государственной, гражданской или какой-то еще) и высшей правды, начертанной в сердце человека как существа духовного, правды, носительницей которой остается и для нас героиня этой трагедии. Когда Достоевский говорил о «Дон-Кихоте», что эту книгу человечество предъявит Богу как свое объяснение с Ним (я, каюсь, назвала бы здесь «Гамлета»), то думал он так, живя от Сервантеса на большем удалении, чем мы живем от самого Достоевского; тем не менее, каковы бы ни были изыскания о происхождении этого романа из пародии и т. п., мы чувствуем, что Достоевский не ошибся. Вот и ответ.