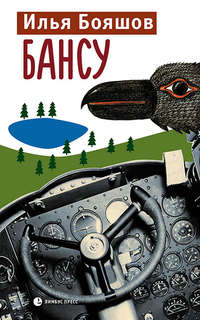Kitobni o'qish: «Бансу»
Есть многое на свете, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам.
У. Шекспир. Гамлет(пер. М. П. Вронченко)
© И. Бояшов, 2019
© ООО «Издательство К. Тублина», 2019
I
Жили-были в годы войны два летчика – штурман Алешка Демьянов и пилот Вася Чиваркин. И служили парни не где-нибудь, а в 1-й перегоночной авиадивизии: оба в составе одного экипажа доставляли из Америки в СССР добротные американские «бостоны». Двадцативосьмилетний Чиваркин имел за спиной службу на Крайнем Севере. Демьянов, будучи на три года помладше пилота, считался способным штурманом и успел повоевать на белофинской. Понятное дело, летуны рвались на фронт, но каждому раз за разом отказывали: для перемещения драгоценной техники требовались спецы, а с опытом и у того и у другого все было в порядке.
Небо над Юконом в 1943 году постоянно жужжало: трасса «Алсиб» была весьма оживленной, и перевозили по этой воздушной трассе в Якутск (и далее) оборудование для радиостанций, мединструменты для госпиталей, лекарства, оружие, сало, тушенку, яйца, иголки, бумагу, слюду, резину – короче, все, чем тогда делилась с затянувшей ремень на последнюю дырочку Россией богатая и вальяжная Америка. И делилась, надо заметить, не просто так, а за щедрое русское золото, которое отправлялось в страну демократии обратными рейсами. В СССР ценили и швейные машинки фирмы «Зингер», и шоколад, и обыкновенные гвозди, но ленд-лизовские самолеты все-таки стояли в особом ряду. Принимали их отечественные летчики, в том числе Демьянов с Чиваркиным, «из американских рук» в Фэрбанксе, городе в самом центре суровой Аляски, где, как и в Сибири, особо не забалуешь. Этот Богом забытый городок был избран для подобных операций из-за своей удаленности от побережья. Делать «местом передачи» не менее захолустный, расположившийся возле океана Ном союзники не решились, так как к местным берегам подбирались ловкие и наглые самураи (часть Аляски японцы тогда уже оккупировали).
Двухмоторный «Бостон А-20» – птичка послушная, проблем с ним особых не возникало. В управлении бомбардировщик по простоте мог дать фору более сложным отечественным «пешкам»; легко взлетал и легко садился; в случае чего спокойно шел на одном двигателе, виражи закладывал непринужденно, да такие, что закачаешься; моторы работали надежно, запускались с пол-оборота, ресурс «райтов» превышал ресурс отечественных двигателей вдвое, а то и втрое. Подобному качеству советские летчики радовались, но, с другой стороны, конечно же, за собственную промышленность огорчались и, сравнивая с американской, частенько ее поругивали. Сидеть в кабинах «А-20 G» (прозвище самолета – «Жучок») – одно удовольствие: обзор отличный, кресла мягкие, спать в таких, а не летать, да еще и с бронезащитой. А чего стоила система кабинного отопления! Конечно, были и недостатки, но касались они, в основном, использования «бостона» в бою и для мирных перегонов значения не имели.
Так дело и шло: прилетали Демьянов с Чиваркиным за очередным «Жучком» на американский аэродром; останавливались в местной казарме, где выделено было русским пилотам несколько двухкоечных комнат; питались «от пуза» в летной столовой; лопали качественный шоколад, курили «Кэмел» и ждали, когда дотошные отечественные инженеры облазят, обсмотрят и обнюхают очередной доставляемый к далекому фронту самолет. А затем надевали парашютные сумки, забирались в новенький «бостон» – и, как говорят американцы, «Гуд лак, Раша»!
Времени у них для отдыха в этом самом заграничном Фэрбанксе в случае плохой погоды или задержки с приемкой было предостаточно; матрасы в казарме упругие, без «пролежней», наволочки всегда свежие, душ есть, на столе обязательно графин с водой, на окнах противомоскитные сетки. Спалось здесь хорошо, елось за двоих. Однако, несмотря на слаженность как профессионалов, между пилотом и штурманом не все было гладко: сказывались и усталость от напряженной работы, и разница характеров. Чиваркин – природный молчун, его за глаза даже прозвали Вася-могила. Демьянов – любитель не только поговорить, но, что опаснее, и пофилософствовать, причем философствования его были далеко не безобидны.
Когда появился он в Фэрбанксе в первый раз, то, помня наставления людей из соответствующих органов, еще озирался и помалкивал, тем более чутких ушей оказалось и здесь немало: трудилась на аэродроме целая советская колония из военспецов-приемщиков и товарищей, которые особо себя не афишировали, но цепко держали аэродром и окрестности в поле зрения. Однако за первым последовал еще один перелет и еще – а когда счет пошел на двадцатый вояж и сотрудницы столовой – две маленькие коренастые эскимоски, похожие друг на друга иссиня-черными волосами и северной раскосостью глаз, и негритянка с грудями-дынями и русским именем Нина – стали приветствовать его, как своего, Демьянов осмелел и даже стал подмигивать кое-кому из попадающегося по дороге персонала, а вскоре и вовсе активно заговорил «на пальцах» с американскими техниками. Короче – жизнь демократической Америки ему откровенно нравилась. Как правило, на все попытки штурмана завести разговор о политике Чиваркин отмалчивался; если отвечал, то односложно, взвешивая каждое свое слово, подобно увесистому камню, а Демьянова, словно нарочно, как только оказывались они в американской казарме, кто-то за язык принимался дергать: с каждым разом речи его становились все развязнее. Дошло до того, что Чиваркин однажды буркнул:
– Ты, трепло, случайно не из буржуев сам будешь?
Демьянов сразу покраснел и стал клясться, что он происхождением из самой что ни на есть псковской рабоче-крестьянской семьи, пострадавшей от кулаков-мироедов, и по этой причине был принят в местный аэроклуб в возрасте еще четырнадцати лет.
На какое-то время словоохотливый Алешка сдулся. А потом опять осмелел.
Выйдет, бывало, на аэродромную полосу, вдохнет полной грудью да и скажет (если, конечно, поблизости своих нет и рядом только один Вася):
– Хорош здесь воздух! Пьешь как воду…
Чиваркин спрашивает:
– Чем тебе, Лешка, в России воздух хуже?
А тот отвечает с обезоруживающей откровенностью:
– Не такой он, Вася! Ей-ей, не такой…
Чиваркин пробурчит про себя «ну-ну» и дальше молчит.
Правда, однажды товарища предупредил:
– Попадешься ты со своим языком… Я – одно дело. В случае чего, я тебя не слышал и глупости твоей не понял. А ляпнешь что-нибудь у нас: прощай карьера советского штурмана.
А с того как с гуся вода.
Эти Алешкины выходки не только воздуха касались. Достанет сигаретную пачку, распакует, воткнет сигарету в уголок рта, чиркнет зажигалкой, на которой с одной стороны изображен белый орлан, а с другой полуголая девица, и как нарочно:
– Хорошие у американцев сигареты. Я после них наш табак курить не могу – дерет горло, как наждаком.
Здесь Чиваркину крыть нечем. Действительно, у американцев сигареты хорошие. А Демьянов как ни в чем не бывало затягивается с наслаждением и продолжает:
– Что буду делать без них – ума не приложу!
Вася скажет:
– Заткни свой рот! Тебе и прилагать нечего за неимением этого самого ума.
А Демьянов необидчивый:
– Брось ты дуться! Я же правду говорю. У нас коммунистическая партия требует говорить правду? Требует! Требует быть искренним? Требует… Вот я, к примеру, как комсомолец, и ты, к примеру, как коммунист…
Разговоры о Васиной принадлежности к партии его всегда выводили из себя – дело это казалось ему интимным и касалось только его самого: поэтому, стоило только болтуну-штурману коснуться партийного вопроса, он разговор обрывал.
Что же касается штурмана – не было в словах Демьянова никакой издевки над товарищем. Совершенно не хотел он его провоцировать и подначивать – получалось все у Алешки искренне – и восхищение «Кэмелом», и безопасными бритвами Magazine Repeating Razor, и досада на кондовые отечественные папиросы: вот за такую-то простодушную откровенность Вася на него больше всего и злился.
Демьянов даже толстую негритянку хвалил. Их казарма и барак обслуживающего персонала столовой находились напротив друг друга. Однажды, когда из-за дождя летчики застряли в Фэрбанксе на целые сутки, вышедший ненадолго в душ Чиваркин, вернувшись, застал своего товарища за постыдным занятием. Прильнув к подоконнику Лешка жадно смотрел на соседние окна – а в одном из них, освещенная лампой, красовалась Нина: видимо, только сменилась с дежурства. Раздевалась она медленно. Алешка глаз от нее не мог отвести, да и Чиваркин застыл, словно вор, застигнутый на месте преступления. Но самое ужасное оказалось в том, что Нина знала: за ней наблюдают. В конце импровизированного стриптиза, перед тем как выключить свет, повернулась к двум ошарашенным летунам теперь уже во всей нагой красе, распахнула в улыбке белозубую пасть, дескать, вижу, как вы мною любуетесь, и мило им помахала. От позора Чиваркин не знал, куда и деваться. Алешка же, лежа на койке с сцепленными за головой руками, глядел в потолок и в восхищении приговаривал:
– Смотри, какая красавица! Уж я эту молодку не упустил бы. Такая шоколадка!.. Эх, жить бы мне в Америке! Женился бы. Точно женился. Хорошая здесь жизнь – машины, домики. А главное – тихо. И воздух! Что ты скажешь на это, Вася?
А Васе и говорить нечего – зубами скрипит.
Так они и существовали друг с другом, ругались, но не сильно, пока в очередной их прилет какому-то местному механику, которому при довольно частых встречах Алешка всегда улыбался и кричал «Хау ду ю ду?», не взбрело в голову по доброте душевной подарить Демьянову новенькие, только что вышедшие с завода кожаные ботинки Service Shoes Reverse Upper из легкой, хорошо гнущейся и быстро сохнущей при намокании кожи – писк армейской моды. Судя по всему, умыкнутые со склада ботинки (а всяких складов в округе было бесчисленное множество) не подошли похитителю, вот он и сделал в отношении русского широкий жест. Оказавшись в казарменной комнате, Демьянов даже взвыл от радости, когда взялся их ощупывать да рассматривать.
– Чего радуешься, дурень? – сказал тогда Чиваркин. – Они же тебе велики.
– Ничего, зашнурую – будут, как влитые. Я, Вася, давно мечтал о таких ботинках. Мне, Вася, наша неудобная обувка до чертиков надоела: тяжелая, зараза, как боты у водолаза. Я теперь в таких ботинках король: да они тыщу лет протянут – ясно, что фирма… Посмотри только, какое качество! А шнуровка? Шнуровка!
И взялся Демьянов этими ботинками тыкать Васе под нос да их нахваливать, а заодно – ну, куда же без этого! – и американскую обувную промышленность, которая снабжает штатовские армию и воздушный флот таким вот желтым кожаным чудом. Радовался он при этом, как ребенок, даже постоянно обновку нюхал – то левый поднесет, понюхает, то правый. Вася, понятное дело, ему ответил:
– Наши не хуже делают!
– Да ну?! – удивился Алешка. И ведь искренне так, подлец, удивился. – Кирзачи да башмаки, которые разваливаются при первой же слякоти? А обмотки? Пока обматываешь ноги – настрадаешься. Неслучайно – «страдания». Вот выдал мне Степаныч со склада новенькие хромовые сапоги. И где они? Полгода ведь не прошло. А ведь клялся – лучшее, что есть. Я Степанычу верю. Он всегда самое хорошее достает. И сейчас хожу вот в этом дерьме, – показал на брошенные в угол свои весьма скромного вида отечественные полуботинки.
Не такое уж это было дерьмо, и Вася завелся:
– Америка твоя живет как у Христа за пазухой. Жрет, пьет да богатеет. А нам все из огня да в полымя. Империалистическая, Гражданская… теперь вот эта. Ничего, война кончится, дойдет дело и до ботинок.
– А дойдет ли?
– Ты к чему? – насторожился Чиваркин. И даже прислушался – не стоит ли кто за дверью?
– Я, Вася, ко всему здесь давно присматриваюсь – к тому, как они самолеты делают и нам поставляют чуть ли не в упаковке; к их столовым, к холодильникам. Продовольствие только чего стоит! Консервированные бобы, тушенка. Все с толком. Они же в банках каждый кусочек сала проложат особой бумагой. Организация, Вася! А за такой вот организацией следует жизнь: с размахом, где все для человеческого удобства – кондиционеры, сетки. Хочешь разницу? Перелети пролив. Вот у нас строят такие бараки, теплые, удобные, чтобы отсеки на двух, чтобы тебе душ, вот так, в двух метрах, встань только и кран поверни? У нас в баню надо чуть ли не строем бегать за полкилометра. И сеток нет от гнуса. Мелочи, Вася? Нет, Вася, не мелочи… Забыл, как в Уэлькале мы с тобой загибались от холода? На стены ведь лезли! Землянка, печка на полу, а пол земляной – в сорок-то градусов морозца, а?! Поэтому вряд ли у нас такое получится…
– И в чем же, Алешка, дело? – спросил, поднимаясь с койки, Чиваркин.
– А во власти дело, Вася, – нагло ответил коммунисту Чиваркину двадцатипятилетний комсомолец Демьянов, – в ней-то все и дело.
За дверью точно никто не стоял. Ветерок поддевал занавески. Заставив позвенеть оконное стекло, пронеслись над бараком два «бостона» курсом на Ном, а оттуда – за Берингов пролив, к унылой тундре, к сибирским перегонам, к далекому фронту, на котором жить этим «птицам» всего ничего – месяца два-три, и хорошо еще, если дотянут они после очередного вылета – пробитые, израненные – до полевых аэродромов, где их и разберут на запчасти.
– Значит, Сталин виноват? – прямо и тяжело спросил Чиваркин.
– Значит, Сталин, – откликнулся совершенно обнаглевший гад.
Чиваркин даже не испугался. Злость – вот что все перевесило. Никогда он еще так не злился на своего напарника. И ответил сокровенное: сказал о том, о чем сам неоднократно задумывался, все так же взвешивая каждое свое слово:
– Дурак ты! Дело не в Сталине, а в таких, как ты. С таким народом, как наш, кого ни поставь, все одно выйдет…
Однако Демьянов упрямо дудел в одну и ту же дудочку:
– Нет, Вася, не в народе дело. В Сталине. В нем, родимом…
Впервые со дня своего знакомства со штурманом Чиваркин забыл себя от ярости: сграбастал Демьянова за грудки. Однако штурман тоже был не лыком шит – привык к дракам. Скатились противники с демьяновской койки на пол и давай друг друга валтузить. Возились до тех пор, пока не раздались в самом конце длиннющего казарменного коридора шаги: один из приемщиков уже торопился за ними. Пилот и штурман очнулись, вскочили и схватились приводить себя в порядок. На настойчивый стук в дверь Чиваркин, едва переведя дыхание, прохрипел:
– Подождите! Сейчас одеваемся.
О ссадине под левым глазом он знать не знал – не догадался поглядеть на себя в зеркало. Алешка, мерзавец, понятное дело, ничего ему об этом не сказал. И ведь, сволочь, натянул американские ботинки, а отечественные в угол задвинул…
Спецы, которые встречали их на полосе, весьма заинтересованно на обоих поглядывали. А процедура передачи шла своим ходом: новорожденный «Жучок» сверкал на солнце – настоящий красавец! Планшеты, парашютные сумки – все было готово; маршрут знаком; небо безоблачно; вот только настроение у обоих хуже некуда, да и видок – будьте любезны. Главный из приемки, озабоченный прежде всего состоянием техники и подписаниями актов, интеллигентно, под предлогом отозвал взъерошенного Чиваркина в сторону и шепотом сделал ему втык:
– Что это с вами, товарищ капитан? Вы откуда вылезли на свет Божий? И штурману своему укажите на безобразие. Стыдно перед союзниками.
А что Васе отвечать? Только одно:
– Виноват, исправлюсь!
Все еще сопя и стараясь не глядеть друг на друга, оказались они под самолетом. Осмотрели «брюхо». Обошли «бостон» вместе с нашими и американскими техниками – Чиваркин с одной стороны, Демьянов с другой. Потрогали крылья и хвост. А что дальше? А дальше вот что: бомбардировщик сдан, бомбардировщик принят, бумаги в порядке, инструктаж выслушан, замечания приняты – пора в путь-дорогу. Предупредили их, что надвигается грозовой фронт, только Чиваркин с Демьяновым были так расстроены, что предупреждение пропустили мимо ушей. И полезли: пилот – в кабину, штурман – в турель на место стрелка. Перед тем как Чиваркин запустил моторы, посидели немного молча.
Алешка одно спросил:
– Ну что, сдашь меня, Вася?
– Пошел ты! – ответил Чиваркин.
Больше они не разговаривали.
Заревели «райты», покатился «бостон» по взлетной полосе, поднялся и полетел на восток. Замелькали внизу бесчисленные коробки фэрбанкских складов, дома, вышки, узкая полоса дороги, а затем потянулись под крыльями пространства Аляски: горы и распадки, в которых хозяевами себя чувствуют только волки с медведями, да озера с реками – убежища хищной форели.
Прошел час полета – внизу все одно и то же. Чиваркин молчит, штурман молчит – а впереди появилась едва заметная облачная полоса и принялась расти, обхватывая собой горизонт. В течение минут пятнадцати так все вокруг захватила, что «Жук» поплыл уже в плотном окружении дымки.
Волноваться по большому счету было нечего, несмотря на усиливающуюся непогоду, моторы гудят, кресла удобны, штурвал послушен – в таких условиях прежде они и кофейку могли хлебнуть, который в термосах традиционно сунули каждому с собой предусмотрительные приемщики, но на этот раз было обоим не до американского кофе.
Когда показалась совсем уж мрачная туча, Чиваркин заложил крутой вираж, чтобы ее обойти.
Вот, пожалуй, и все.
Вскоре вновь распогодилось, стали видны внизу распадки и горы, четкие, как на самых качественных фотоснимках. Чиваркин, обнаружив ссадину под глазом и до нее иногда дотрагиваясь, все это время раздумывал – заговорить или не заговорить со своим непутевым штурманом. Конечно, долго злиться на этого осла Вася не мог, несмотря на свою коммунистическую закваску; сдавать его он тем более не собирался. Поразмышлял поначалу сгоряча Чиваркин о том, не подать ли ему рапорт начальству «о несовместимости характеров», но потом, как всякий русский человек, поерзал, повздыхал, размягчился и начал уже думать над тем, как наладить отношения. Правда, несколько обижало его то обстоятельство, что Демьянов навстречу ему вроде как бы и не собирается идти: забился в кабину стрелка, словно сурок в нору, молчит себе и молчит уже второй час.
Чиваркин решил начать первым. Позвал по переговорному:
– Лешка! Слышь меня?
Молчание.
– Ладно, кто старое помянет…
Молчание.
Чиваркин тогда про себя чертыхнулся и, занятый штурвалом, сказал:
– Молчишь? Ну, молчи, молчи…
И после благополучного перелета сел в Номе – городишке золотоискателей, советских и американских авиаспецов и временном приюте таких, как он, воздушных перегонщиков.
II
Дальше все завертелось, словно в самом чудовищном сне. Уже через пятнадцать минут после того, как «бостон» коснулся шасси бетона, застыл потрясенный пилот в помещении здешнего штаба перед командиром полка подполковником Мишиным и особистом майором Крушицким. И был Вася белым, как сама смерть.
Особист появился в Номе совсем недавно: странная птица, для чего сюда залетела, никто не знал. Держался Крушицкий чуть ли не на равных не только с комполка, но и самим командиром 1-й перегоночной дивизии. Вид майор имел болезненный: худой, губы тонкие, глаза лихорадочные, скулы так обтянуты кожей, что, кажется, она вот-вот на них и порвется. Кроме того, он часто кашлял. В полку пришли к выводу, что приписан Крушицкий к 1-й авиаперегоночной ввиду своей полной непригодности к фронту. Судя по всему, никакого отношения к авиации он прежде не имел, интересовался чисто земными вещами – летным бытом и экипировкой. Особо почему-то привлекали майора парашюты – несколько раз наблюдал он за тем, как укладываются парашютные сумки, задавая по ходу дела вопросы. Вел себя до поры до времени корректно, не выпячивался, обращался к личному составу вежливо и по уставу. То, что особист после известия об исчезновении штурмана совершенно потерял лицо (у майора задрожали пальцы, кроме того, он то и дело расстегивал и застегивал верхнюю пуговицу гимнастерки), не ускользнуло от внимания хранившего внешнее спокойствие фронтовика Мишина: правда, комполка отнес этот явный психоз на счет опасений майора за возможный крах своей карьеры. Но все равно подполковнику, несмотря на весь трагизм ситуации, показалось: особист что-то уж чересчур о пропавшем волнуется – несвойственное поведение для прежде достаточно сдержанного пришельца…
Вася столкнулся с гневом Крушицкого гораздо раньше. Хлипкий варяг зачем-то околачивался на полосе во время посадки «бостона» – словно ожидал прибытия. Когда выяснилось, что пропал штурман, Чиваркин там же, на полосе, едва не был особистом застрелен.
Майор и в кабинете подполковника не успокаивался:
– Сбежал?
Летчик как воды в рот набрал. В связи с последними высказываниями и последовавшей вслед за тем дракой старший лейтенант Демьянов вполне мог дезертировать, надеясь на содействие американских властей, – на флоте уже бывали подобные случаи с членами команд, прибывших принимать новые корабли. Не обнаружив товарища в кабине стрелка (а это были самые страшные мгновения в Васиной жизни), Чиваркин поначалу именно так и подумал. Но после первого шока, когда он обшарил глазами кабину, ему открылось одно существенное обстоятельство.
Начальство ждало разъяснений. В конце концов коммунист Чиваркин собрался, облизал губы и сказал особисту:
– Обходя грозовую тучу, я заложил вираж, во время которого штурман и вылетел. Колпак турели был распахнут.
– Почему?
– Что почему?
– Почему был распахнут колпак? – Особист схватился за виски и стал судорожно их массировать. И ответил сам себе: – Да нет же. Он дал стрекача, сукин сын. Выпрыгнул! Черт…
В этом «черт» звучало такое отчаяние, что Чиваркин невольно вздрогнул.
– Я думаю, Демьянов вылетел в момент моего виража, – с затруднением, словно выталкивал из себя что-то очень тяжелое, сказал Вася.
– Прекрати покрывать штурмана! – оборвал его особист Крушицкий, переходя на «ты». – Какого черта ты его покрываешь? Врешь – никакого виража не было. А если и был, то он мог выпрыгнуть раньше. Зачем ему понадобилось открывать колпак?
Повернувшись к Мишину, особист прохрипел:
– Обратите внимание, товарищ подполковник, на то, что Чиваркин сознательно лжет.
– Прежде всего, товарищ майор, давайте успокоимся, – примирительно сказал командир полка. – И выслушаем пилота.
– Он не сбежал, – доложил Чиваркин, обращаясь к Мишину. – Он вылетел. И вылетел именно по моей вине.
– Вася, а ты в этом уверен? – спросил комполка.
– Ботинок, товарищ подполковник, – вздохнул Чиваркин.
– Что ботинок?
– В кабине стрелка я нашел расшнурованный ботинок. Демьянов почему-то снял его. Он не собирался покидать кабину. Алешку выбросило.
– Но колпак-то он распахнул! – продолжал наседать на Васю Крушицкий.
Мишин сказал:
– Штурманы иногда распахивают колпак для того, чтобы определиться с местоположением. Я хочу вот о чем поразмышлять. Товарищ майор, как вы думаете, может ли находящийся в здравом уме и памяти человек, который, допустим, собирается совершить побег и наверняка заранее к нему готовится, выпрыгнуть в безлюдной гористой местности с одним только планшетом, имея на себе всего один ботинок, а другой для чего-то оставив в турели?
– Где обувь? – вскинулся Крушицкий.
– В кабине. Я ничего не трогал, – сказал Чиваркин.
– Это ты, Вася, правильно сделал, – задумчиво произнес Мишин, продувая отечественную папиросу. Затем, с помощью самодельной зажигалки-гильзы, которая прописалась в карманах его галифе еще с 41-го года, прикурил ее. – Товарищ майор, пойдемте-ка осмотрим самолет.
Троица отправилась на взлетную полосу: туда, где возле еще не остывшего «бостона» рассеянно топтались несколько техников. Не успел подполковник обратиться к обслуживающему персоналу, как Крушицкий, забежав вперед, приказал всем немедленно удалиться. Затем, когда техники послушно отправились с поля, вновь окликнул их, вновь к ним побежал, совершенно не заботясь о том, какое впечатление он произведет своей суетливостью, и тихо о чем-то поговорил с техническим составом, после чего самолетные чернорабочие одновременно приставили руки к головным уборам (кто к пилотке, а кто к совершенно неуставному берету) и весьма быстро очистили полосу.
Мишин приказу особиста удивился – хорошо знакомые с «Жучком» спецы, в случае необходимости, могли бы выступить консультантами, – но возражать не стал.
Крушицкий первым полез по технической лесенке к турели стрелка, сунул в кабину голову, быстро скатился вниз и молча отошел в сторону. На его лице отобразилась мучительная дума. Затем, нещадно дымя папиросой, место происшествия осмотрел комполка. За ним – для чего-то еще раз – несчастный Чиваркин. Новенький американский вещдок по-прежнему находился в кабине как напоминание о друге. Вася вспомнил, как всего несколько часов назад в уютной казарме базы Лэдд-Филд восторженно тыкал ему в нос этим проклятым ботинком несчастный Алешка; представил себе горно-лесистую пустыню, над которой «бостон» только что пролетел, – и Чиваркину стало совсем нехорошо.
Повисло угнетающее молчание. Мишин жевал очередную папиросу. Зажигалка совершенно расхотела работать, словно чувствовала напряжение, – напрасно подполковник ее тряс. Крушицкого ботинок больше не интересовал – особист о чем-то усиленно размышлял: так напрягся, что даже морщины на лбу разгладились.
«Загребут, – думал Чиваркин, уставившись в бетон и завидуя ползущему мимо беспечному, неторопливому жуку. – Как пить дать загребут. Будут трясти как грушу. Хорошо, если потом на фронт. А если законопатят? Лет на пять. Или на десять, без права переписки. Может, прослышали про наши с Лешкой разговоры?»
Ничего хорошего от будущего он не ждал.
Подполковник бросил бесполезную борьбу с фронтовым амулетом, безжалостно сдавил папиросу и сказал:
– Так или иначе – штурмана надо искать. Сообщу в штаб дивизии. Доложим американцам. Они поднимут амфибии – средств и возможностей у них для этого хватит…
И здесь особист повел себя совершенно уж странно: Крушицкий поперхнулся, замахал руками, как мельница, и подскочил к подполковнику. От волнения он перешел на сип:
– Какие американцы? Никаких американцев! Вы слышите? Никаких! Никакого штаба дивизии! Товарищ подполковник, это приказ. Дело чрезвычайно важное. Чрезвычайно… Только своими силами. Только своими… я сам свяжусь, я…
Мишин удивленно посмотрел на майора и медленно отчеканил:
– Во-первых, я обязан доложить о ЧП. Ситуация, на мой взгляд, ясна: человека надо искать. И чем скорее, тем лучше. Во-вторых…
Крушицкий не унимался:
– Товарищ подполковник! О ЧП наверх докладывать буду я. И докладывать в том случае, если в течение недели мы имеющимися здесь, на базе собственными средствами его не разыщем. Еще раз повторяю: искать будем своими силами. И чтобы ни одна муха об этом не знала. Ни одна…
– Без американцев вряд ли найдем, – ответил подполковник.
– Я же сказал: никаких американцев.
– Гидроплан нужен, – угрюмо твердил Мишин. – Без гидроплана нечего делать.
– А что у нас в наличии? – спросил майор.
Мишин вздохнул и ответил:
– У нас в наличии старенький латаный-перелатаный Ш-2. Слышали о таком? Смех один, а не машина. Двигатель уже тысячу раз перебирали. Все равно – едва тянет: два-три часа полета – нужно искать посадку. Перегревается. Почту еще можно доставить. Слетать туда-сюда. А у американцев, хочу напомнить, «каталины»: два «Прайд энд утни» – тысяча двести лошадок. Звери! Дальность полета – четыре тысячи километров… Что там Аляска – они готовы сутками над океаном висеть.
Однако майор Крушицкий был непробиваем:
– Товарищ подполковник, я достаточно ясно высказался. Если под рукой ничего больше нет, давайте свой Ш. Черта в ступе давайте, но только чтоб тихо…
И потащился бледный Чиваркин за обоими начальниками обратно в здание штаба, в кабинет Мишина, в котором и разложил подполковник на столе летную карту. Все на той карте пестрело значками и обозначениями, все там выглядело исключительно компактным, хотя Чиваркин, не раз летавший по маршруту, хорошо знал: каждый сантиметр обозначает такие расстояния, которые за день и на автомобиле не преодолеть, не то что пешком.
– Вася! Ты соберись, соберись, – вернул пилота из прострации командир. – Покажи, как шли.
И Вася, собравшись, показал как.
– Здесь чуть отклонились, – вспомнил. – Над пиком «пятнадцать-двенадцать». Точно знаю. Хорошо пик видел. Потом вернулись на трассу. Вот здесь, кажется, встретили грозовой фронт… Шли в облаках какое-то время…
Докладывая, Чиваркин немного успокоился. Вскоре уверенность его до того выросла, что летчик взял один из командирских карандашей, лежащих на столе, показывая предполагаемые отклонения. Спокойствие, с которым в отличие от майора, обкусавшего все ногти на пальцах, Мишин его выслушивал, подбадривая кивками, породило надежду: может быть, все образуется и, чем черт не шутит, отыщется в стогу сена, которым была для Чиваркина чужая, то ледяная, то чересчур жаркая Аляска, микроскопическая игла – непутевый штурман Демьянов. Возле еще одного ориентира – пика «пятнадцать-шестнадцать» – карандаш задержался.
– Кажется, здесь.
– Кажется? – откликнулся майор.
– Более подробные координаты дать не могу, но район точно этот.
– Около пятидесяти километров в радиусе, – присвистнул подполковник, обводя территорию вокруг пика жирным красным цветом. – Веселенькое дельце…
– После виража я обошел «пятнадцать-шестнадцать» слева, – вспомнил Чиваркин.
– И где, по-твоему, примерно он выпал?
– Думаю, слева от пика и вылетел…
– А высота?
– Не менее тысячи пятисот…
– Значит, открыть парашют мог?
– Мог, – с надеждой подтвердил Чиваркин. – Открыл… Товарищ, подполковник, разрешите, я полечу?
– А тебе, Вася, деваться некуда. «Жучок» твой на родину другие перегонят, а ты будешь искать своего штурмана, пока все с ним не прояснится.
– Сколько мест на вашей колымаге? – спросил подполковника Крушицкий.
– Гидроплан трехместный.
– Хорошо. Готовьте для меня сиденье.
– Боюсь, не выйдет, – отвечал комполка. – С пилотом обязательно должен лететь техник. Плюс место для спасенного. Если, конечно, операция завершится успешно.
– Ничего, – ответил майор. – Как-нибудь потеснимся.
– С собой нужно взять запас продуктов, – не уступал Мишин. – Медикаменты. Возможно, кое-какие запасные детали. Их тоже надо куда-то девать.
– Денете, – угрюмо сказал особист. – Привяжите к крыльям. Голь на выдумки хитра.
– Вот именно, голь, – вздохнул Мишин. – И все-таки, товарищ майор…
– Товарищ подполковник, – в свою очередь сказал майор. – Решение не обсуждается. Дело государственной важности.
Bepul matn qismi tugad.