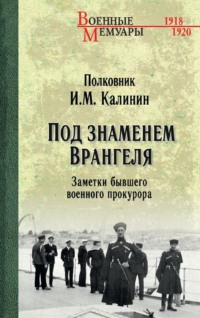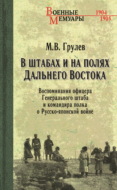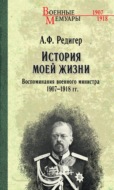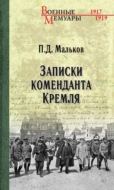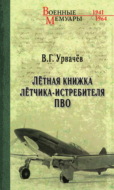Kitobni o'qish: «Под знаменем Врангеля. Заметки бывшего военного прокурора»
Военные мемуары

© ООО «Издательство «Вече», 2023
I. После Новороссийской катастрофы
Остатки разбитых и сброшенных в Черное море армий ген. Деникина нашли себе временное убежище под благодатным небом Крымского полуострова, который с моря защищал от Красной армии небольшой отряд ген. Слащева.
Крым нам нужно держать в своих руках во что бы то ни стало. Пусть это будет незначительный клочок земли, но здесь должна тлеть антибольшевистская искра, говорил мне еще в конце февраля 1920 года в Екатеринодаре бывший глава архангельского правительства Н.В. Чайковский, занимавший тогда у Деникина пост министра без портфеля.
«Крым сделается нашей Вандеей», – гордо заявляла газета известного монархиста Шульгина «Великая Россия», благополучно начавшая выходить в Севастополе после небольшого перерыва.
«Из Крыма мы еще раздуем кадило на всю Россию… Мы еще покажем себя, еще повоюем!» – шумели многочисленные безработные администраторы и тыловые герои, уцелевшие от новороссийского разгрома.
Для подобного ликования решительно не было никаких оснований.
Древнее владение Гиреев менее всего могло сыграть ту роль, которую возлагали на него современные толстосумы Минины и князья Пожарские. Разноплеменное, разноязычное население полуострова совершенно не понимало «национальных» задач спасателей отечества. Ставка на крестьянина, которую обычно делали белые вожди и которая неукоснительно вела к проигрышу, в благословенной Тавриде также заранее была обречена на неудачу. Татары, самый консервативный и в то же время самый мирный по своей натуре народ, не имели ни малейшей склонности воевать, вполне убежденные в том, что никакой режим не уменьшит и не увеличит их горных пастбищ. Немцы-колонисты являлись по преимуществу кулацким элементом; всякий же кулак любит защищать свое драгоценное добро чужими, но отнюдь не своими силами. Северные уезды Таврической губернии – Мелитопольский, Днепровский и Бердянский, где преобладало русское население, находились в руках врага и пребывали в полном покое после того, как Красная армия прогнала отсюда и белых, и шайки Махно.
Для нового наступления или для продолжительной обороны приходилось искать источники внутри «бутылки», в которой оказались остатки южнорусской белогвардейщины. А такие источники отсутствовали. Ясно было, что в самом непродолжительном времени наступит крах. Идти вперед – не с кем, а отсиживаться – не с чем. Полуостров будет очень быстро объеден войсками, которые, наконец, начнут пухнуть с голоду и задохнутся в крымской «бутылке».
От новороссийского погрома более всего уцелело того самого элемента, который безвозвратно губил дело белых вождей. Спаслись решительно все политические деятели решительно всех мастей и оттенков, а этим последним в антибольшевистском стане не было числа. Бешеная междоусобная борьба этих политиков и политиканов – отчасти общероссийского масштаба, а частью выросших в казачьих кругах и радах, не могла не перенестись с Кубани и Дона в Тавриду.
Казачество никогда не ладило с Добровольческой армией. Казачьи государственные образования – Дон, Кубань, Терек – имели демократическое устройство и потому были сугубо противны руководителям политики главного командования – скрытым реакционерам. Ни для кого не составляло тайны, что за спиной «внепартийной» Добровольческой армии, во главе с Деникиным, стояла старая Россия, весь мир царской бюрократии, жаждущей своих прежних постов с десятитысячными окладами, и «первенствующее сословие», мечтавшее о возвращении в свои прадедовские усадьбы. Все они ненавидели казачьих политических деятелей, считая их неучами, деревенщиной, сепаратистами, полубольшевиками. Вторые, в свою очередь, не жалели крепких слов по адресу своих противников, которых в насмешку титуловали «единонеделимцами».
Борьба с общим врагом, советской властью, много теряла от этой постоянной грызни, так как счеты политических бойцов находили неизбежное болезненное отражение в сердцах бойцов на фронте. В июле 1919 года добровольческие реакционеры убили председателя Кубанской рады Н.С. Рябовола. В ответ на это кубанские самостийники прикончили яростного сторонника «Единой и Неделимой», председателя Кубанского военного суда В.Я. Лукина. В ноябре деникинские генералы барон Врангель и Покровский повесили в Екатеринодаре члена той же рады Калабухова.
Декабрьское поражение несколько примирило обе политические группировки юга России. После долгих переговоров и многих скандалов образовалось объединенное южнорусское правительство с очень пестрым составом. Председателем его Деникин назначил старого царского чиновника, члена Новочеркасской судебной палаты Н.М. Мельникова, который вместе с тем являлся главой и донского правительства. Портфель министра земледелия получил П.М. Агеев, казакоман эсэровского толка; иностранных дел – ген. Н.Н. Баратов, осетин по национальности, беспартийный; военных – ген. А.К. Кельчевский – беспартийный. Старый революционер Н.В. Чайковский вошел в это правительство министром без портфеля.
Но всем этим господам уже нечем было управлять. Южно-русское правительство умерло почти в день своего рождения. Ко времени переброски в Крым для каждой политической группировки опять предоставлялась полная свобода действий. К тому же теперь существовали новые поводы для обострения вражды между этими двумя совершенно разнородными группами.
Штаб Деникина в Новороссийске позаботился о погрузке решительно всех, кроме казаков. Горечь этой обиды теперь давала о себе знать в каждом казачьем сердце. Казачьим политиканам этот пример явного предательства со стороны главного командования доставил обильную пищу для новых выпадов против Деникина и его политической теории.
Крым, по словам одного приказа главнокомандующего, окружало с трех сторон море, с четвертой – непроходимая красноармейская стена. Но и в этом крошечном, замкнутом пространстве, почти в осажденной крепости, как некогда в Иерусалиме, обложенном Веспасианом, кипели политические страсти, бушевали оскорбленные самолюбия, сводились старые и новые счеты, так что после хлопот о насыщении желудка главнейшая забота сливок белого стана сосредоточивалась на мщении своим политическим врагам. Холодная черноморская ванна, предпринятая по предписанию такого медика, как тов. Буденный, не принесла особой пользы разгоряченным головам, совершенно позабывшим, что Таврическая губерния не Таврический дворец.
В войсковых частях дело обстояло не лучше.
От многолюдных деникинских армий в Крым перекочевали только жалкие обрывки, из которых впоследствии удалось сформировать четыре худосочных корпуса. Не одна новороссийская катастрофа была повинна в обезлюдении белых полчищ. Знаменитая Доброволия – Добровольческая армия Деникина – обладала свойством губки быстро разбухать и еще быстрее съеживаться. Ее кадры составляли «перво-походники», корниловский сброд, по преимуществу выбитая из колеи жизни молодежь, смотревшая на гражданскую войну как на источник дохода, а на боевую работу – как на ремесло. В период своих успехов летом 1919 года эти кадры, с помощью насильственных мобилизаций, превратились в четыре многолюдных дивизии, не говоря о многочисленных новых формированиях. Но после бегства от Орла начался обратный процесс. Все мобилизованные – крестьяне и пленные красноармейцы, – разумеется, разбежались. Растаявшая Добрармия еще на Кубани была сведена в один корпус ген. Кутепова, впоследствии стяжавшего себе, под прозвищем «Инжир-Паша», такую страшную славу на Балканах.
Донских казаков безжалостно бросили на черноморском побережье. Только незначительное число их, уже в апреле, удалось перевезти в Крым из Туапсе и портов Грузии. По словам сложившейся в момент эвакуации песенки, в Новороссийске власти
Погрузили всех сестер,
Дали место санитарам, —
Офицеров, казаков
Побросали комиссарам.
Вечно блуждавшие между красным и белым знаменем кубанцы капитулировали на побережье, впрочем, только для того, чтобы скоро снова подняться против советской власти под начальством полковника Фостикова. Из кубанцев одни только шкуринские отряды, запятнавшие себя неслыханными грабежами, необычными даже для Добрармии, сочли за лучшее перебраться в Крым. Впрочем, в состав их входило не столько кубанцев, сколько обитателей Кавказских гор.
Так как Деникин в Новороссийске все свои усилия направил на то, чтобы заблаговременно обеспечить перевозочными средствами только кутеповский корпус, то последний явился в Крым с достаточной боевой готовностью и без замедления был двинут на Перекоп, где Слащеву приходилось весьма туго. Все остальное деникинское воинство теперь представляло из себя рассыпанную храмину, шайку вшивых, тифозных, изголодавшихся людей, которым требовалось продолжительное больничное и курортное лечение, но отнюдь не боевая работа.
Особенно жалкий вид имели донцы.
Атаман Всевеликого войска Донского ген. А.П. Богаевский, разумеется, переехал в Севастополь в весьма неплохих условиях на английском судне «Барон Бек», вывезя с собой громадное количество денежных знаков и всевозможной своей челяди, которую он то и дело повышал в чинах, благо это ему ничего не стоило.
Но строевым казакам и офицерам пришлось хватить много горя во время их странствований по черноморскому побережью, а затем при переезде в Крым, где для размещения остатков Донской армии отвели г. Евпаторию с уездом.
Вскоре маленький курортный городок стал неузнаваем.
На улицах замелькали ярко-красные лампасы и околыши шапок тех счастливцев, которые в период бегства не растрясли своих переметных сум и не заразились тифом. Несчастливцы же, – грязные, оборванные, потерявшие не только воинский, но и человеческий облик, – свезенные на лодках с пароходов, целыми днями валялись на загаженных пристанях, не имея силы подняться на ноги. Более здоровые из них уползали на главную улицу, которая проходила возле пристаней, и загромождали тротуары.
– Станичник1, какого полка будешь?
Землистое, редькой вытянутое лицо неподвижно.
Воспаленные, провалившиеся глаза задумчиво рассматривают небо, которое хмурится при виде столь жалкого созерцателя.
– Мы – мамонтовцы, – отвечает за больного сосед, у которого хватает силы не только говорить, но и сбрасывать со своего дырявого чекменя2 отвратительных «танок», серых паразитов.
Мамонтовцы!
Память с быстротой молнии охватывает все, что связано с этим именем. Дерзко-смелый, нагло-грабительский набег лучшей донской конницы под командой лучшего донского генерала. Ослепительный «успех», фейерверк афиш о бесчисленных «взятых» городах, десятках тысяч пленных, блистательный триумф и золотая сабля усатому герою. А затем обычная судьба. Шумные пиры. Разбрасывание награбленных денег. – «Почем арбуз?» – «Пятнадцать рублей». – «На двести, знай мамонтовцев!» В результате беспардонное разложение под влиянием обильной добычи, гибель конского состава, изнуренного рейдом, смерть вождя от тифа, губительный переход по задонским степям в лютый мороз наперерез Буденному, напиравшему на Тихорецкую. И в качестве заключительного аккорда – голод и холод на евпаторийской мостовой.
Неужели все в таком виде ваши мамонтовцы?
Кто здоров, тому полбеды. Только мало спаслось нашей братвы. Кто попал к красным, кто ушел к зеленым, немногие добрались до Грузии. Нас, тифозных, побросали в этой самой Туапсе. Думали – пропадем. Ой, что творилось! Отдай все – не хочу другой раз видеть. Мы хоть больные, но как-никак – войско, нас грузили. А что делалось с калмыками – беда.
Калмыки3, по дикому приказу донского правительства, в декабре 1919 года, ввиду наступления красных, снялись со своих мест со всем своим скарбом, скотом, женами, детьми и двинулись на Кубань на манер своих предков монголов.
Сколько ни пропадали «солнышки»4 в дороге, до Туапсе тоже добралось их немало. Перли на пароход почем зря. Их в нагайки, они ревут белугой. «Матер-чорт, – кричат офицерам, – ты погоны снял, и кто тебя знает, а мой – кадетский морда, всякий большак видит». Куды тут! Мало кто пролез за своими зюнгарами5. Когда отчаливали от мола, иные калмычата швыряли о камень своих детишек, а сами бросались в воду. Вот дурные! Жалко подсолнухов!6 Мало их доберется до Крыма.
Сколько же дней вы без еды?
Пятые сутки крохи во рту не было. Да и по берегу пока брели, не густо разживались. Крестьян еще до нас объели, как саранча, нивы. Теперь там хоть шаром покати. Голод будет. Хотелось бы горячего, борща, что ли…
Здесь, на панели, люди почти умирали с голоду, а тут же, в двух шагах, в ресторане «Европа», шел пир горой, и бойкие лакеи татары едва успевали принимать заказы на самые изысканные кушанья и дорогие вина.
Катастрофа многих разорила, но многие и поживились. Из тех, кто грузился в Новороссийске, одни все оставили на пристани. Другие не только вывезли свое добро, но успели кое-что подцепить и из английских складов. У ловкачей, особенно из числа юнкеров Донского военного училища, охранявших в Новороссийске погрузку высших донских начальников, сумки рвались от английских брюк, френчей, белья. На евпаторийских базарах немедленно началась спешная реализация новороссийской добычи. Иные, наоборот, от нужды продавали последние сапоги. Должностные лица, имевшие на руках казенные суммы, без стеснения распоряжались ими, как своими собственными. В случае призыва к ответу оправдание простое: все пропало на Кубани, отбили зеленые. Или: все осталось в Новороссийске, не успели погрузить.
Пропаж денег оказалось великое множество, а отчетность, конечно, пропала везде. Помню, 11 марта7, во время нападения зеленых на станицу Абинскую, началась паника. Когда нападение было отбито и дорога освободилась, я поехал по станице, направляясь далее на запад. Возле одной хаты, где хохлушка угостила меня куском хлеба, стояла двуколка, заваленная бумагами.
– Охвицери були. Як зашумели гармати, втикли на бричках. А це бросыли. Це, кажуть, барахло, не треба нам.
Я поинтересовался бумагами.
«Денежная приходо-расходная книга 34 Екатерининского полка», – гласил верхний фолиант.
«Без слов все понятно», – подумал я.
Чтобы обнаружить, в каких случаях деньги и отчетность были брошены по злому умыслу и в каких в силу необходимости, донской атаман образовал особую комиссию под председательством ген. Ситникова. Эта комиссия «для расследования дел об утратах казенных ценностей при эвакуации в Крым» работала все лето; штат ее распух до значительных размеров; в конце концов, не посадив никого на скамью подсудимых, она закончила свое бесславное существование тем, что при очередной эвакуации из Крыма в ноябре сама утратила все свои следственные дела.
Но не все успели поживиться в Новороссийске от щедрот доброго дяди, английского короля, и не у всех любителей легкой наживы находились в распоряжении казенные суммы. А хорошо поесть и выпить хотелось большинству, особенно после стольких мытарств, голода или сухоедения.
В селах Евпаторийского уезда начались неизбежные в таких случаях грабежи, которые иногда принимали полулегальный характер и деликатно назывались «реквизициями».
«Белые войска, расположенные в г. Евпатории и ее окрестностях, заняли все дачи, повыгоняли хозяев, порубили деревья и заборы, убивают людей и хозяйничают, как в завоеванной стране», – писала одна одесская советская газета, номер которой неведомыми путями попал в Крым.
Газета почти не ошибалась.
Очень скоро целый град жалоб на насилия и хищения посыпался во все инстанции. Одно заявление даже было адресовано симферопольскому архиерею, который, разумеется, не замедлил препроводить его в донской штаб.
Пили артистически. Вином заливали горечь прошлой неудачи и заглушали гнетущую мысль: а что же впереди? Дебоши являлись неизбежными спутниками пьяного угара. В реестрах военно-судебных установлений заблистали самые громкие фамилии донских генералов, обвиняемых, по шуточной военной терминологии, в «пьянстве, буянстве и окаянстве». По установившемуся в белом стане обычаю, дела о таких лицах дальше производства следствия не шли. Общий масштаб не подходил для этих Uebermensch’eft.
О какой-нибудь дисциплине не могло быть и речи. Начальство и подчиненные смешались в одну гниющую кучу. Более богатый казак поил бедного офицера и наоборот. Строго говоря, в гражданскую войну в строевых казачьих частях настоящих офицеров, т. е. старых кадровых, почти не существовало.
– У нас все офицеры «химические», – часто говорили в полках.
– А что это значит?
– Произведены на фронте из простых казаков. Где там достанешь настоящие погоны? Вот ему и чертят химическим карандашом звездочки. Иные настоящих погон, из позумента, за всю службу ни разу не носили.
Иногда казаки говорили про «химических» офицеров:
– Какой он офицер? Такой же козуня8, как и все. Прапорщик от сохи.
Караульная служба превратилась в фикцию. Часовые без зазрения совести раскладывали бурки на земле и спали до смены подле своих постов. Такой способ окарауливания казенного добра считался еще невинным нарушением устава гарнизонной службы. Иные просто расхищали то, что поручалось их охране. В это благодатное время неохраняемое казенное добро имело больше шансов остаться в целости, чем доверенное караулу.
Видимость дисциплины в Евпатории сохранили только юнкера Донского военного училища, по большей части «иногородние»9, так как казачата получали военное образование в Атаманском военном училище, которое в Севастополе охраняло от неведомых врагов священную особу донского атамана и его правительство. Эти евпаторийские юнкера были единственной сколько-нибудь реальной силой в руках командующего донской армией. Их берегли и лелеяли, угощали вином и кормили на славу. Сам командарм генерал Сидорин нередко являлся попировать в их среду. Это льстило самолюбию неоперившихся птенцов, а командный состав училища начал высоко задирать нос.
«Янычарский ага», – титуловали в шутку начальника этого училища ген. Максимова, сколько пустого и недалекого, столько же чванного и высокомерного господина.
Возмечтав о своей силе и значении более чем следовало, он нажил массу врагов, которые пустили слух, что «ага» произведен в генералы не то Нестором Махно, не то Юркой Тютюнником. Это злословие не особенно далеко уходило от истины: в возведении «аги» на офицерский Олимп был повинен третий «хозяин» Украины – гетман Павло Скоропадский.
Училищные офицеры, большей частью перебежчики из Красной армии, лица неказачьего происхождения, следовательно, пришельцы в войске Донском и потому третируемые офицерами-казаками, теперь тоже стали поднимать голову и даже предъявили требование увеличить им жалованье.
«Ведь сила теперь в нас! Что захотим, то и сделаем», – опрометчиво рассуждали эти молодцы.
Однако не прошло и трех-четырех месяцев, как оба донские военные училища соединили, казачий элемент взял в них перевес, и все «иногородние» офицеры были безжалостно выкинуты в резерв, на голодное существование, тем же самым «янычарским агой», который до этого времени скрывал свою казакоманию.
II. Донская крамола
В Евпатории царило отнюдь не воинственное настроение.
В первые дни после прибытия на полуостров, когда злополучные вояки приходили в себя и жили не столько рассудком, сколько инстинктом, о войне почти не разговаривали. В продолжительный период бегства от красных многие уже сроднились с мыслью о том, что рано ли, поздно ли, но наступит роковой миг сдачи. Как ни страшили лапы большевиков, но попасть в них казалось неизбежным результатом проигранной кампании. Голод, холод, паразиты, грязь, изнеможение, тиф, бездомное скитальчество, беспросветное будущее – притупили чувство страха перед красными. В этот первоначальный момент состояние казачества в Евпатории было таково, что, появись Красная армия под городом, решительно никто не тронулся бы с места и не оказал бы ей никакого сопротивления.
Да и не с чем было сопротивляться, так как лошади, седла, снаряжение, вся артиллерия и даже часть ручного оружия достались красным или грузинам.
Когда же наконец начало пробуждаться сознание, мало кто склонялся к мысли о целесообразности дальнейшей войны. Здравомыслящие люди рассуждали:
– В руках белых армий одно время находилось более половины России, а теперь остался один жалкий клочок. Неистощимые материальные средства, свои и иностранные, пошли прахом. Рабочие везде относились к нам враждебно, крестьяне не пошли за нами, так как мы, помимо своей воли, вели за собой помещиков.
Генеральный же наш штаб, —
добавляла ходившая по рукам сатира полковника Б.М. Жирова, —
Оказался слишком слаб,
И весь план его мудреный
В пух и прах разбил Буденный.
Прихоть, знать, судьбы пестра:
Нас разбили вахмистра.
Воевать дальше незачем и не с чем – таково было общее мнение на первых порах.
Однако что дальше делать, – никто не знал. Пока же, по старой привычке, казаки ругали всех и вся. Больше всего доставалось представителям Добровольческой армии, которую разделывали на все лады.
Где же ваш «народ»? У нас здесь сколько казаков воинов, столько же казаков-беженцев, гражданских лиц. А много ли у вас воронежских, харьковских, курских мужиков? Почему они не пошли за вами, освободители?
Без вас мы давно помирились бы с большевиками, нашли бы с ними общий язык. А вам, вишь, подай царя да землю панам.
Пожили на казачьих хлебах два с половиной года… Поотъелись… А в Новороссийске о своих только шкурах думали, побросали казаков на произвол судьбы.
Одно слово – единонеделимцы.
В Евпатории установилось двоевластие. Существовала добровольческая гражданская власть и комендатура, но донцы плохо признавали их.
Бродячее, безземельное «Всевеликое войско Донское», все еще игравшее в государственность, никак не хотело сознаться в том, что оно состоит на положении бедных родственников в гостях у богатых. За три года самостоятельного существования донское казачество усвоило сепаратистские стремления и не могло от них отрешиться даже теперь, в невольном плену у Доброволии.
Добровольцы здесь считали себя хозяевами и в руготне казачьих сорвиголов видели большую неучтивость. Она неприятно резала слух деникинским администраторам, чинам комендатуры, осважным10 журналистам и всем тем обитателям города, которые исповедовали «единонеделимческий» символ веры. Ни для кого не составляло тайны, что эпитеты «Единая и Неделимая» Доброволия выставила на своем знамени в пику окраинам и казакам, которые будущее устройство своих областей, после изгнания большевиков, представляли не иначе как в виде автономных единиц.
К величайшему ужасу евпаторийских ревнителей «Единой и Неделимой» с 24 марта начал издаваться официоз штаба Донской армии, газета «Донской Вестник», принявшая явно враждебный Добровольческой армии тон. Эсэровским языком она выражала в печати то, что трепали казачьи языки.
«Гражданская война закончится не порабощением одной области другою, а мирным соглашательством всего русского народа. Он прогонит всех захватчиков власти как справа, так и слева», – писалось в первом номере. Далее развивалась мысль об искажении идеи борьбы с большевиками «примазавшимися к Добровольческой армии безответственными лицами».
В сущности, это была довольно старая волынка. Такие песни раздавались почти на каждом заседании Донского круга или Кубанской рады. Но в Крыму не привыкли к таким крамольным мыслям, тем более, когда их высказывали бесприютные гости.
Тон статей «Донского Вестника» с каждым номером становился все заносчивее и оскорбительнее. Газета очень зло высмеивала членов Особого Совещания (деникинского правительства в 1918–1919 гг.), доведших своей реакционной политикой южнорусские армии до развала, а теперь удиравших в Константинополь с туго набитыми чемоданчиками.
«Они обеспечили себе вольготное житье на европейских курортах, а разделываться за их грехи придется казачьим спинам».
Больше всего всполошился заведывающий евпаторийским «Пресс-Бюро», т. е. отделением Освага, Борис Ратимов, редактор местной газеты «Евпаторийский Курьер». Это был типичный осважник, т. е. журналист, агитатор и контр-разведчик в одном лице, всегда готовый служить тому,
Дает кто деньги и чины
И матерьялу на штаны, —
как высмеивала его в стихотворном памфлете «Герой нашего времени» сугубо черносотенная крымская газета Измайлова «Царь-Колокол» (1920 г. № 5).
До прихода в Крым белых он редактировал советскую газету. Теперь лез из кожи, чтобы выказать себя верноподданным Доброволии. По своей должности, столько же жандармской, сколько и писательской, он, разумеется, не мог равнодушно относиться к выходкам казачьей газеты. К тому же дела его «Курьера» в это время пошатнулись. Казакам его газета была не нужна, так как они привыкли удостаивать своего внимания только те органы печати, которые украшались вывеской «казачья газета», «казачий журнал» и т. д.
Оппозиционные элементы Евпатории, в том числе и рабочие, которым надоел пресмыкавшийся перед Деникиным «Курьер», с жадностью набросились на «Донской Вестник». Хотя рабочие круги далеко не разделяли основных идей этой газеты, но она нравилась своим беспощадно-критическим отношением к Деникину. Наконец и буржуазия интересовалась этой газетой. Как ни успокаивали крымские газеты тамошнее общество, как ни умаляли решающее значение новороссийской катастрофы, именуя ее «несколько беспорядочной эвакуацией армии», но все обыватели идиллически-спокойных уголков крымского побережья чувствовали, что стряслась непоправимая беда. Толпы оборванных донцов говорили далеко не о спешной эвакуации, а о полном разгроме. В «Донском Вестнике» любопытные могли почерпнуть кой-какие сведения о случившемся.
Тираж «Евпаторийского Курьера» пал. Доходы Ратимова быстро пошли на убыль.
Осважник решил сразу убить двух зайцев: уничтожить опасное направление и поднять тираж своей газеты. Набравшись смелости, он отправился в гостиницу «Дюльбер», где помещался штаб Донской армии, добрался до генерал-квартирмейстера Кислова и заявил ему о недопустимости взятого «Донским Вестником» тона.
– Впрочем, – дипломатично добавил он, – все эти резкости я объясняю не чем иным, как просто неопытностью донских журналистов. Ничего нет проще устранить зло. Чем иметь свою дорого стоящую газету, донской штаб может дать мне некоторую субсидию, и я организую при своей газете особый казачий отдел.
– Видите ли, это будет не совсем удобно. Вы не казак, а пути и идеология казачества резко расходятся с добровольческими. Как же мы можем ужиться в одной газете? Или вы думаете нас взять под свой контроль?
Осважник смутился.
При выходе из гостиницы он встретил одного крупного донского начальника, ген. Карпова, попробовал было заговорить с ним и начал развивать перед ним мысль о необходимости совместной работы казаков и добровольцев на благо «национальной» России.
– Ваши добровольцы – преторьянцы, – отрезал пылкий генерал. – Они выродились в кондотьеров. У них нет никакой связи с народом и никакой почвы под ногами. Нет у них и отечества. Это просто сброд со всей России, деклассированная молодежь. Казаки же плоть от плоти и кровь от крови черноземной силы, и с вами им не по пути.
Взбешенный Ратимов бросился к добровольческому коменданту города ген. Ларионову.
– Да у них там не только самостийность, но и полная измена. Их надо образумить, иначе они вонзят нам нож в спину, – кричал он генералу.
Старый служака, ровным счетом ничего не смысливший в политике, поплелся в «Дюльбер».
– Знаете, того… у вас, говорят, газета левая, – робко высказал он свою мысль начальнику штаба ген. – лейт. Кельчевскому.
– Ах, знаете ли, мы все здесь левые! – полушутя-полусерьезно ответил ему Кельчевский. – Такие уж мы есть, что с нами поделаешь.
Ларионов тоже ушел в страшном смущении. Прошло еще несколько дней. Настала Пасха.
Посещая по обязанностям информационной службы столовые, кафе и рестораны и прислушиваясь к разговорам, Ратимов, к великому своему ужасу, услыхал, что в казачьих кругах весьма определенно трактуют – страшно сказать – вопрос о мире с большевиками. В послепраздничном же номере газеты «Донской Вестник» – главный борзописец, член Донского войскового круга, полковник генерального штаба Сысой Бородин обсуждал те условия, на которых казаки могут помириться с советской властью:
«Признание казаками этой власти не должно уничтожать автономии казачьих земель. Комиссары должны избираться только из казаков. Разрешение земельного вопроса должно быть предоставлено самому казачеству. Казачьи войсковые части, подчиняясь советскому главнокомандующему, должны существовать на тех же основаниях, как и до сих пор».
Таковы были фантазии политика-генштабиста, предполагавшего диктовать условия мира победителям. Ратимов забил настоящую тревогу.
Предательство казаков несомненно. Они хотят заключить сепаратный мир с большевиками, – кричал он на всех перекрестках.
Бедный провинциальный журналист не знал, что еще до Пасхи штаб главнокомандующего получил ноту английского правительства с уведомлением, что оно отказывает в дальнейших субсидиях и предлагает свое посредничество для заключения мира с большевиками. Весть об этой ноте, пока известной только верхам, привез в Евпаторию из Севастополя командующий Донской армией ген. Сидорин, который ездил туда на совещание по поводу выбора преемника Деникину. Широкую публику ставка покамест о ноте не оповещала, но военные начальники, а следовательно, и войска уже определенно обсуждали вопрос о прекращении гражданской войны.
29 марта в Евпаторию прибыл донской атаман ген. Богаевский. На другой день он принял в гостинице «Дюльбер» депутацию от казаков-беженцев (не числящихся в войсковых частях).
«Божья коровка» – такое прозвище носил атаман – на этот раз совсем поджала свои крылья.
Виновно смотрел он, неудачный вождь, на измученные лица бородачей в чекменях. Много прегрешений накопилось у него на душе, и он боялся смотреть прямо в глаза людям, которых столько раз обманывал. 20 декабря 1919 г., в г. Новочеркасске, на который напирал Буденный, он издал велеречивый приказ, в котором заявлял, что останется в стольном городе казачества до последнего момента и покинет его только с войсковым штабом. Не прошло и суток, как атаман укатил в особом, весьма удобном поезде на Кубань, бросив на произвол судьбы и войсковой штаб, и все учреждения, и десятки тысяч беженцев, скопившихся в Новочеркасске.
Потеряв свою территорию, он в начале 1920 года превратился в деникинского приживальщика и не стеснялся своей лакейской роли. В январе, в период переговоров ставки с казачьими правительствами о создании единого государственного организма на юге России, Деникин сделал попытку втереть очки казачеству назначением своего южнорусского правительства, избрав премьером Богаевского. Кубанская рада появление нового премьера встретила свистом.