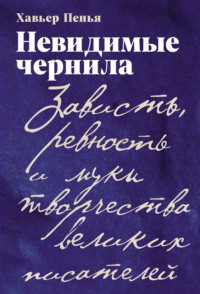Kitobni o'qish: «Невидимые чернила: Зависть, ревность и муки творчества великих писателей»
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436–ФЗ от 29.12.2010 г.)

Переводчик: Михаил Королев
Научный редактор: Ольга Улантикова
Редактор: Любовь Сумм
Главный редактор: Сергей Турко
Руководители проекта: Лидия Мондонен, Кристина Ятковская
Арт-директор: Юрий Буга
Дизайн обложки: Алина Лоскутова
Корректоры: Татьяна Редькина, Алиса Вервальд
Компьютерная верстка: Максим Поташкин
© Javier Peña, 2024
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2026
* * *
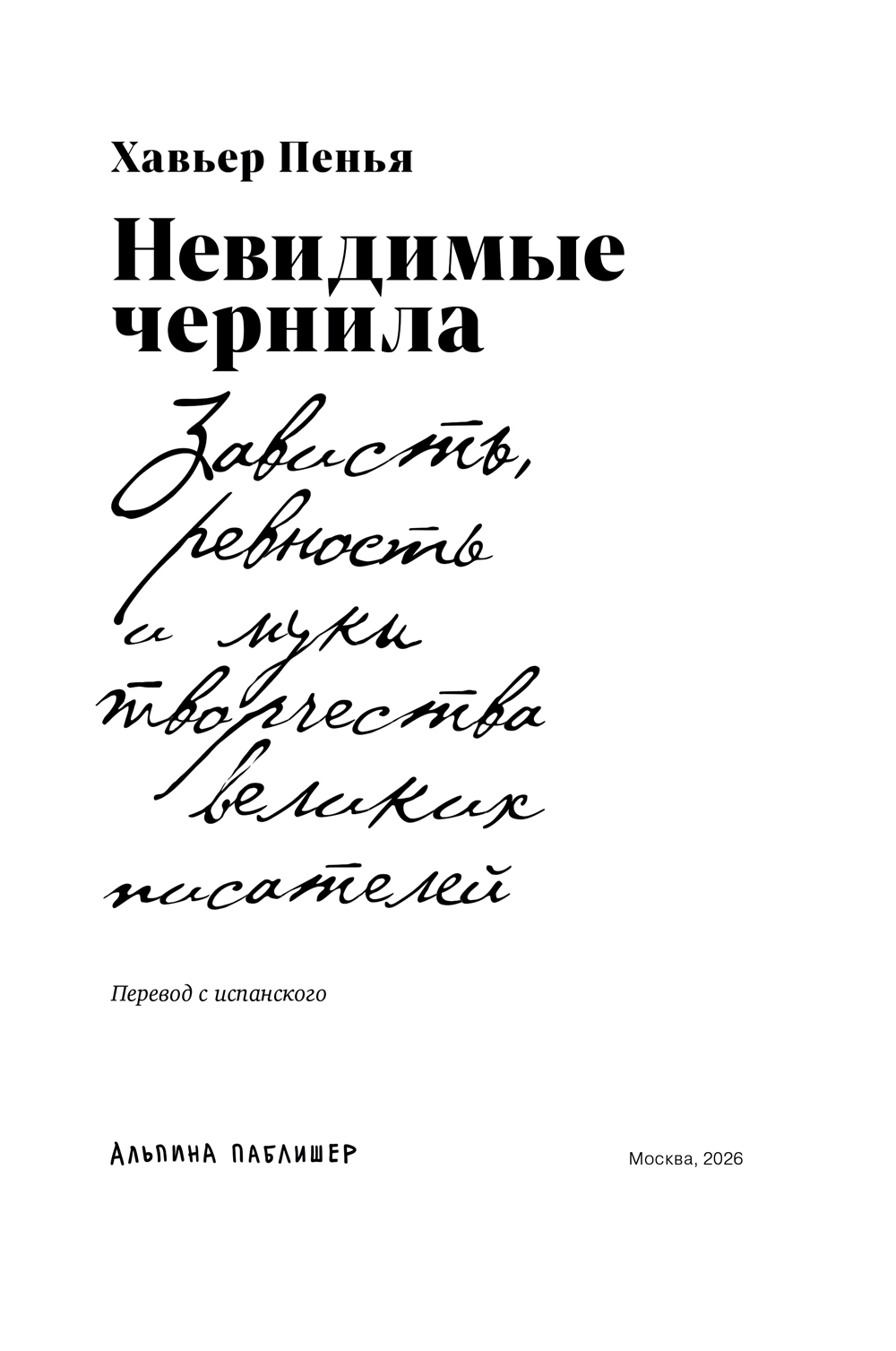
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
Моему отцу
1
Введение
Любитель читать этикетки на шампунях
Онетти1 вспоминает историю о том, как в середине 1930-х гг. Уильям Сомерсет Моэм, самый высокооплачиваемый в то время писатель в мире, тоскливо ждал поезда на затерянной станции в Индии. Ожидание тяготило его больше обычного, потому что, сойдя с предыдущего поезда, Моэм забыл там чемоданы. Писатель волновался не об одежде и прочих вещах, а о книгах. Как выдержать эти долгие часы, не имея возможности скоротать время за чтением? Он порылся в карманах и нашел старый контракт. Моэм перечитывал его, пока не выучил наизусть, но этого оказалось недостаточно, и он попросил у начальника станции какую-нибудь книгу. Тот указал на телефонный справочник, и писатель несколько часов подряд читал имена установивших у себя телефон обитателей этого отдаленного селения. Перед тем как Моэм наконец-то сел в поезд до места назначения, ему принесли забытые чемоданы и спросили, как он провел время. «Ужасно, кошмарно, – ответил Моэм, указывая на телефонный справочник. – Ну почему же здесь так мало жителей?»
Ненасытная жадность к чтению, из-за которой даже индийский телефонный справочник кажется коротким, напоминает мне об отце. Один из самых ярких образов, всплывающих у меня перед глазами, – он читает этикетку на бутылке шампуня в торговом центре. Мы его постоянно теряли, ходя по магазину: как только отец видел шампунь, он тут же принимался читать состав. У отца была привычка читать вслух или по крайней мере вполголоса. Он словно бы негромко бормотал молитву: казалось, буквы непреодолимо его притягивали.
Трудно было оставаться спокойным, посещая отца в больнице в последние недели его жизни. Мы знали, что конец близок, хотя и не обсуждали это между собой. Вот-вот должен был наступить момент, когда фиброзная ткань в легких настолько разрастется, что сердце уже не сможет справляться со своей работой. С каждым разом я видел, что отец выглядит все более изможденным. От рук его остались только кожа да кости; они настолько истончились, что, казалось, могут порваться при малейшем прикосновении, как страницы старинной книги. Чтобы подбодрить отца, я принес ему в больницу свой второй роман, который через несколько дней должен был появиться на полках. И хотя отец дважды брался за книгу, чтение требовало от него непомерных усилий. Когда человек, читавший этикетки на бутылках шампуня, откладывает роман сына на прикроватную тумбочку, это означает, что конец вот-вот наступит. Наверное, если бы дети Моэма увидели, что их отец перестал читать, пришли бы к такому же выводу, что и мы в тот день.
Печальнее всего, что болезнь не затронула мозг моего отца; он мыслил настолько здраво, что мы могли только сожалеть, что его тело отказывается служить сосудом для его разума. Поскольку пандемия тогда еще не закончилась, заходить в палату к отцу приходилось в маске и по одному. Когда мы с ним оставались наедине, то говорили о книгах и фильмах, писателях и персонажах, и именно в те минуты я понял, что мы с ним умеем общаться только с помощью историй. За сорок два года мы с отцом почти не говорили напрямую о своих чувствах, а просто рассказывали друг другу истории.
Однажды я пожалел, что мы с отцом никогда не были близки, и высказал это вслух – или вполголоса, как он читал этикетки на бутылках шампуня. Мне вдруг показалось, что я – разговаривающий со смертельно больным отцом Брик из фильма «Кошка на раскаленной крыше».
– Ты купил барахла на миллион, оно тебя любит? – спрашивает Брик.
– Для кого, по-твоему, я его купил? – отвечает отец. – Все состояние достанется тебе.
Ответ сына берет меня за душу.
– Мне не нужны вещи! – кричит он, круша все, до чего мог дотянуться.
У моих родителей никогда не было миллиона долларов; они даже не смогли купить собственный дом, но мне они всегда покупали все, что я просил. Они покупали мне вещи, но вещи мне не были нужны. В одном из рассказов Лусия Берлин2 душераздирающе красиво написала: «Раньше мне представлялось: если большой злой тигр откусит мне руку, а я побегу к маме, она просто залепит культю деньгами».
Долгие годы я был убежден, что получал от родителей лишь вещи. Но в те последние дни в больнице я осознал: отец дал мне нечто гораздо большее, чем самые дорогие вещи. Он подарил истории, способность слушать их, наслаждаться ими и умение их создавать. Тогда я осознал, что сам состою из историй. И понял: если однажды кто-нибудь лишит меня историй, это сделает со мной то же, что сотворила болезнь с руками моего отца. Я стану похож на старинную книгу, которую нужно подклеить, пока она окончательно не развалилась на части.
Умереть только в Гранд-Каньоне3
Первые ростки этой книги зародились в моей голове у больничной койки отца. Рискуя показаться экзальтированным, я бы сказал, что они стали результатом прозрения. Когда к безнадежно больному приходит посетитель, он обычно старается не молчать, чтобы в палате не воцарилась навевающая ужас тишина. В подобной ситуации она слишком напоминает смерть.
Окаменевшие от фиброза легкие не давали отцу дышать и говорить, но он, с трудом выдавливая из себя слова, все же сумел рассказать мне об исчезновении Амброза Бирса в 1913 г. Эту историю я хорошо знал. Он был одним из любимых писателей отца. Как человек Бирс вызывал раздражение. Критическими замечаниями в духе «Могу сказать одно: обложки этой книги слишком далеки друг от друга» он нажил себе много врагов. Когда Бирсу было уже за семьдесят, он написал знакомым письмо, в котором сообщал, что отправляется в Мексику, чтобы на собственном опыте прочувствовать революцию Сапаты4. Документально подтверждено, что писатель добрался до юга Соединенных Штатов, а затем исчез. Кто-то клялся, что видел некоего старого гринго, сражающегося в рядах армии Панчо Вильи в битве при Охинаге. Другие утверждали, что на самом деле Бирс отправился в Гранд-Каньон, чтобы умереть в одиночестве. По словам отца, Бирс пообещал, что никто не найдет его костей, и сдержал слово. Я слушал эту историю и смотрел на ребра отца, торчавшие из-под больничной пижамы.
Я спросил себя, почему в тот момент отец выбрал именно историю об Амброзе Бирсе. Может, он, подобно писателю, почувствовал, что пришло время отправиться по одинокой дороге к Гранд-Каньону? Или просто не умел по-другому разговаривать с сыном? Я вспомнил, что при общении с незнакомыми людьми или в ситуациях, которые вызывают у меня дискомфорт, я всегда рассказываю два одних и тех же исторических анекдота. Может быть, и мой отец поступал точно так же? Он рассказывал заранее заготовленные истории об известных людях, потому что ему было неловко со мной разговаривать? Он считал, что недостаточно хорошо меня знает?
Нет, дело было не в этом. Хоть и далеко не сразу, но, кажется, наконец я все понял. В юности я думал, что истории – это просто развлечение, второстепенная деталь. Позже, когда я стал писателем, истории превратились в мой образ жизни, стали полезны и необходимы. Только после смерти отца я понял, что они значат гораздо больше. Они – поток, формирующий мои идеи, суть того, кто я есть. Дело не в том, что мы с отцом общались посредством историй; истории и были нашим общением. Они были всем, были центром, а мы с ним – лишь периферией.
Многие свои любимые истории я впервые услышал от отца, а некоторые из них вошли в эту книгу. И чаще всего их главные действующие лица – это сами авторы, а не герои их произведений. Взять хотя бы Бирса: я читал у него только один рассказ – «Случай на мосту через Совиный ручей»5; а вот биографию знаю лучше, потому что отец частенько рассказывал о ней.
Жизнь великих писателей всегда интересовала меня, но с того дня в больнице этот интерес превратился в одержимость. На вопрос о том, почему мой отец больше говорил об авторах, чем о романах, я в итоге ответил себе так: зачастую жизнь писателей более литературна, чем их произведения. Быть писателем, думаю я теперь, значит не только писать истории, но и жить в мире историй. И, полагаю, самое близкое к этому – быть читателем.
Писать, врезавшись в землю носом
А еще я думаю, что жить в мире историй – это не личный выбор, а особенность характера. Иногда она может быть врожденной, но часто ее прививают с детства. Во мне, например, ее развил отец. В знаменитой переписке с Чеховым Горький признался, что, несмотря на успех своих книг, он «глуп, как паровоз». Горький работал с десяти лет, и у него не было времени на учебу. В своем письме6 он говорил: жизнь привела его в движение, и он теперь летит, но рельс под ним нет, его ждет крушение, и в итоге он зароется носом в землю. Однако Чехов ответил, что это не так: «Врезываются в землю носами не оттого, что пишут, наоборот, пишут оттого, что врезываются носами и что идти дальше некуда»7.
Существует древняя легенда о Гомере, которая повествует об опасности, подстерегающей того, кто живет в мире историй. Согласно этому рассказу, на могиле героя Ахилла Гомер попросил показать ему щит и доспехи, которые выковал для героя бог Гефест. Их невероятный блеск навсегда ослепил аэда8. Такую цену заплатил Гомер за чрезмерное любопытство, наказанный за стремление увидеть больше чем следовало. Но Фетида сжалилась над бедным слепцом и взамен наделила его поэтическим даром. В «Одиссее» говорится: «Муза его возлюбила, но злом и добром одарила: Зренья лишила его, но дала ему сладкие песни»9.
На мой взгляд, у писателей самая прекрасная профессия в мире: они создают истории, которые объясняют нас как людей; к несчастью, это добро обычно сопровождается каким-нибудь злом, например гомеровской слепотой. Но если это так, почему писатели мирятся с этим злом? Не разумнее ли сбежать от историй, скрыться от них? Ответ дал нам Чехов. Они мирятся с этим злом, потому что врезываются в землю носом и идти им некуда. Потому что они хотят испытать больше чем следует, хотят прожить несколько жизней, одной им мало.
Зло, которое сопровождает писателей, связано с любопытством и чувствительностью. Как и любой художник, писатель по определению человек исключительно восприимчивый. Его восприятие мира, скажем так, обострено, а потому он сильнее предрасположен к тому, чтобы чувствовать боль, а возможно, и причинять ее. Как мы увидим дальше, в числе воронов, которые в итоге выклевывают глаза писателям, окажутся эго, зависть, ложь, одержимость, страдание и не только они.
Несколько месяцев назад, заканчивая собирать материал для этой книги, я обнаружил, что на одном из витражей епископальной церкви Святого Георгия в Дейтоне, штат Огайо, изображен Клайв Стейплз Льюис, автор «Хроник Нарнии». Писатель предстает перед нами в пиджаке и галстуке, у его ног расположился лев Аслан, а на фоне видна взлетающая ракета, из которой вырываются языки пламени. Это такой откровенный китч, что он поневоле притягивает взгляд, но больше поражает даже не сам витраж, а место, где он находится: ведь писателя окружают изображения святых.
Результаты же моего собственного исследования лишь подкрепили первоначальное впечатление, что писателю, вероятно, место где угодно, только не на витраже в окружении святых. А вдобавок они подтвердили мое мнение о том, что великие повествователи – это глубоко страдающие люди и неисправимые нарциссы, неспособные ни справляться с успехом, ни переносить неудачи. Как же так получается, что авторы прекрасных текстов часто оказываются весьма сомнительными типами? Для чего изображать на церковном витраже представителя наименее святой профессии в мире?
Я сказал себе: возможно, это сообщество далеко не святых людей не просто будет очаровывать меня своими историями, но и в конечном счете окажет мне услугу. Вдруг, изучая жизнь писателей, я смогу лучше понять отношения, связывавшие нас с отцом? Углубляясь в печальные биографии авторов, лучше пойму причины своего собственного несчастья? Смогут ли другие писатели помочь мне познать собственные эго, зависть, ложь, одержимость, страдание? Я работал над этой книгой два года, и мне кажется, что кое-чему научился. Научился сильнее любить отца. Научился если и не прощать себя, то по крайней мере проявлять к себе снисхождение. Первый из этих уроков я усвоил поздно. Надеюсь, что применить на практике второй еще успею. И пусть моя книга принесет пользу и кому-то из читателей.
Bepul matn qismi tugad.