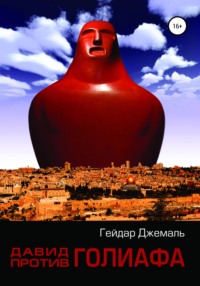Kitobni o'qish: «Давид против Голиафа»
Современный кризис интеллекта и возможности его преодоления.
Доклад на конференции «Дни Петербургской философии – 2007» Санкт-Петербург, 15 ноября 2007 года.
Если разговоры о кризисе интеллекта, кризисе науки, кризисе точного знания еще не стали общим местом в современном западном дискурсе, то, по крайней мере, очень быстро общим местом становятся. Уже на протяжении восьмидесяти и более лет разговоры о кризисе идут с разной силой, с разными акцентировками. Но, пожалуй, начал эту тему в ее всеобъемлющем характере Гуссерль, который впервые сформулировал, что западная мысль не состоялась в своих сверхзадачах, которые полагались в том, чтобы создать универсальное сознание, универсальный метод, позволяющий интегрально решить все аспекты истины. Он назвал это кризисом смысла. И сегодня вслед за ним очень многие, прежде всего из постмодернистов, которые пришли на волне этого кризиса и являются его экстериоризацией, говорят о кризисе смысла и даже апокалипсисе смысла.
Но что такое кризис? По крайней мере, данный конкретный кризис как внутренняя проблема интеллекта, как внутренний сбой интеллекта. Кризис – это, прежде всего, ложная презумпция, лежащая в основе посылки, которая будучи незамеченной, потом как мина замедленного действия приводит к сбою, приводит к слому системы.
В данном случае Гуссерль попал философским пальцем в нервный узел проблемы, когда начал говорить о несостоявшемся прорыве к универсальному. Он попал в том смысле, что именно проблема универсального является форматом и описанием кризиса.
Что такое универсальное в данном случае? Когда мы говорим об универсуме, когда мы говорим об универсальном, мы попадаем в очень серьезное метафизическое противоречие. Либо, с одной стороны, мы являемся свидетелями универсального, и тогда мы вне его, и тем самым мы ограничиваем его, и, таким образом, оно уже не универсальное. Либо же наоборот, мы утверждаем себя как часть универсального, но в этом случае, какое право часть имеет высказываться о целом? Как ни крути, сама постановка вопроса об универсальном или о том, что мы называем (с большой буквы) «Все» – это драматический вызов интеллекту, который с неизбежностью ведет к кризису.
Прежде всего, тема универсального неотделима от проблематики монизма как общей подкладки европейского философствования. Сквозь все превратности философских исканий от Платона до наших дней, общая подкладка в философском инстинкте мыслителя, воспитанного в духе эллинизма (а он воспитан в духе эллинизма, даже если творит в начале двадцатого столетия), это все равно подкладка монизма, это монистический инстинкт; а монизм представляет собой более глубокую, более метафизическую постановку вопроса об универсальном.
С самого начала своей истории философия явилась не чем иным, как опусканием метафизики на землю. Если метафизический подход, подход высокого жречества на уровне Пифагора, Эмпедокла, – это сведение конкретного к абсолютному, то философия с самых первых своих шагов, когда она оформилась именно как философия, была попыткой представить абсолютное в виде конкретного. И даже у Фалеса Милетского, даже у Анаксагора мы обнаруживаем всю ту же самую страсть сведения абсолюта с небес в непосредственно представимую конкретику. Поэтому философ, мыслящий в рамках этого посыла, стоит перед большой проблемой взаимоотношений субъекта и объекта. Субъект и объект в этом случае для него являются комплементарными аспектами абсолютного целого. И в тот момент, когда они сливаются, наступает состояние возвышенного познания истины.
Иными словами, фундамент европейской мысли – это то, что сознание определяется как бытие. Это очень важная мысль. Именно здесь зарыта мина замедленного действия. Тождество бытия и сознания возвращает нас к проблеме: каким образом сознание может свидетельствовать бытие, если оно ему, в конечном счете, тождественно? Вся философская история Европы есть попытка сбалансировать и откорректировать эту внутреннюю драму монизма, эту зарытую внутри него проблематику.
Наиболее полно это представлено у трансцедентальных авторов, у раннего Шеллинга, который сразу же скатился на философию тождества, и мэтра диалектики Гегеля, ибо в его случае диалектический метод есть не что иное, как попытка выйти на свободу из ловушки тождества сознающего субъекта самому себе.
Но проблема в том, что абсолютная идея ни при каких обстоятельствах не превращается в экзистенциальное сознание свидетеля. Вы не можете начать с чистого универсального ничто как исходного содержания абсолютной идеи, а закончить смертным человеком, который находится «здесь и теперь» и является зеркалом, предъявленным реальности. Потому что здесь есть барьер, который нельзя перешагнуть иначе, как совершив философский подлог.
Я хочу сказать, что этот аспект европейского мышления есть не что иное, как выявление внутренней парадигмы всей человеческой метафизики. Ибо, куда бы мы ни пошли, куда бы ни направили свой взор, мы найдем всюду монизм, монизм и один только монизм, начиная от дальневосточной традиции, от индуизма, и кончая друидами, ацтеками и так далее.
Исключение составляют совершенно уникальные традиции Единобожия, традиции авраамических пророков (Да будет мир над ними всеми!), которые осуществили революцию в метафизике, в самом понимании того, что такое сознание и что такое когнитивная способность человека.
Проблема универсализма, которая ставится всеми мыслящими носителями любой традиции в любой цивилизационной системе, – это внутренняя воля, внутренняя необходимость выйти на ту подлинность, которую нельзя определить иначе, как «То, кроме чего ничего нет». Что есть то последнее, достигнув которого, мы можем пережить ощущение избыточности, не допускающей никакую параллельную реальность рядом, ничего кроме себя? Именно этот избыток и есть критерий подлинности. И я скажу больше: именно это есть критерий правды. Ибо истина есть констатация сущего, а правда – это долженствующее, то, что должно стать.
Вот здесь главная проблема. В тот момент, когда человек сознает бесконечность как предмет своего созерцания, он самим фактом этого созерцания выступает как ограничитель той «бесконечности», которую он отражает как свидетель.
Я не согласен с теми исследователями, философами, которые полагают, что опыт бесконечности – это единственный опыт, который нам недоступен. Нет. На самом деле человек испытывает опыт бесконечности очень рано, когда ему всего лишь несколько лет отроду, до того, как к нему придет ощущение драмы, боли, смерти и так далее. Его способность смотреть, воспринимать и отражать мир уже закладывает в себя привкус неограниченной способности к отражению, неограниченной способности к перцепции. Причем в инстинкте этого взгляда на мир содержится интуиция, что потенциал перцепции больше чем то, что может быть отражено. Сила зеркала больше, чем то, что может попасть в фокус этого зеркала.
Потом, с приходом боли, с приходом ощущения бренности своего тела, эта интуиция уходит. Но она фундаментально встроена в сам акт свидетельствования. Акт свидетельствования есть нечто другое, чем интеллект. Потому что это экзистенциальное переживание той точки, которая находится внутри нас «здесь и теперь», в которой останавливается внешний мир.
В самой идее зеркала содержится этот момент. Он содержится в черной амальгаме с обратной стороны зеркала. Все, что отражается в зеркале, отражается благодаря тому, что его обратная сторона является непроницаемой для света. Но эта черная амальгама никогда не бывает в самой системе рефлексии, то есть она никогда не выводится непосредственно вот в эту рефлексию, в отражение. Черная амальгама является скрытым необходимым условием отражения. Совершенно аналогично этому, внутри человека тоже находится эта черная амальгама, некий фактор негативного апофатического присутствия в его сердце, о которое разбиваются волны внешнего наружного света, которые видны ему, которые несут ему впечатление о феноменологическом мире вокруг. И именно благодаря этому, в его личностном зеркале этот мир оживает. Потому что внутри него есть та точка, которая не тождественна ничему из того, что он способен увидеть, понять и почувствовать.
Авраамические пророки (Мир им всем!) сосредоточились именно на выявлении этого центра, формулируя дискурс об этой точке, которая не может быть выявлена в опыте, потому что она есть условие опыта. Она подобна черной амальгаме зеркала, благодаря которой зеркало отражает, но сама эта черная амальгама скрыта. Этого нет ни в одной традиции – языческой, консервативной, метафизической, традиции высшего жречества, духовно окормлявшего мир на протяжении всей его истории. Вы можете исследовать глубины эллинской философии, глубины дальневосточной традиции, можете пройти все шесть школ индуизма, но вы не найдете там сосредоточенности на этой актуальной точке, которая есть точка оппозиции, ограничивающая безграничное «Всё» вокруг, благодаря которой это «Всё» оживает не как хаос, а как структура.
В языческой метафизике присутствуют очень сложные и правдоподобные построения об эманациях, о том, как делятся первичные элементы мироздания, создавая «объективное» и «субъективное», но там нет того главного, что отличает живого субъекта от искусственного интеллекта: точки абсолютного нетождества всему сущему, которая одновременно воплощает в себе предчувствие неотвратимой смерти, да, по сути, и есть сама эта предстоящая смерть. Искусственный интеллект, не имея сознания смерти, не знает, что он «жив». А то, что нам описывает философия санкхья или мистика даосов как архитектонику живого существа, на самом деле есть подробнейшее описание искусственного интеллекта.
Единственное, что делает нас отличными от искусственного интеллекта, единственное, что не позволяет никогда, ни при каких обстоятельствах низвести нас до статуса искусственного интеллекта, – это реальность смерти, финальности, которую мы непосредственно чувствуем внутри себя, и которая является условием нашей перцепции. Наша смертность и наша непосредственная экзистенциальная включённость в свидетельствование «здесь и теперь» есть одно и то же. Это и есть субъект. Но этот субъект не тождественен объекту и не является комплементарным, не является одной из половин «Магдебургских полушарий». Его – субъекта – как бы «нет», если «есть» все остальное! То есть, бытие и сознание – это как день и ночь. Если бытие есть, то сознание – это диалектическая противоположность: его нет. Но благодаря этому «нет», в его зеркале существует бытие «для нас». Таким образом, нет и не может быть никакого онтологического монизма. Вместо этого есть интуитивное монотеистическое движение: переход от одной единицы к радикально и качественно другой. Если первая единица дается как исходное утверждение, то вторая единица существует рядом с ней как отсутствие. В тот момент, когда мы утверждаем «единицу», выражающую внеонтологическую субъектность, «единица» бытия, первичного Объекта становится призраком. Это динамика монотеистического перехода от абсолютного объекта к абсолютному субъекту выражена в аяте Корана: «В конце концов, не останется ничего, кроме лика Аллаха».
То, что я сейчас изложил в паре кратких тезисов, есть, конечно же, не философия. Это теология, теологический метод. Сегодня нужно поставить вопрос следующим образом: философия, две с половиной тысячи лет жившая Платоном, Аристотелем, неоплатониками и всеми теми, кто исповедовал идеи универсализма, монизма и тождества бытия и сознания, очевидно, исчерпала свой внутренний ресурс, что проявилось в виде постмодернизма. Нужно сделать шаг к совершенно новому – к методологии нетождества, к методологии субъекта, понятого не как онтологическая единица, а как фундаментальная оппозиция всякому наличному бытию, которая является условием когнитивного процесса. И возможно тогда теология откроет перед нами методологическую перспективу построения новых наук, в том числе, относящихся к естествознанию.
Завершая, я приведу простой пример. Кризис современной физики связан с тем, что физикам обязательно необходима объективная точка сборки мироздания. Им вынь да положь данное вне субъекта единство мира, то единственное и всеобщее силовое поле, которое должно оказаться основой всех остальных физических полей. Они не понимают простой вещи: единство мира в глазу смотрящего! Оно в сердце субъекта. Это подобно тому, как зритель переходит из театра в театр и смотрит разные спектакли на разных сценах, оставаясь самим собой.
Таким образом, смотрящий, будучи одним и тем же, играя на разных площадках физического мира, социального мира, исторического мира, духовного мира, является универсальной «точкой сборки» всех этих миров.
Последние станут первыми
Инструменты сломаны
АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ. Общим местом размышлений о современной реальности являются разговоры о том, что мир продолжает втягиваться в некий огромный кризис, который ломает хребет не просто ХХ веку, но колоссальному историческому периоду. Неизвестно, то ли это мир меняет кожу, то ли кожу с него сдирают, под ней – голое мясо, а новая кожа никогда не вырастет. Вы обладаете не только целостным мировоззрением, но и инструментарием, позволяющим рассматривать такие большие системы, как цивилизация, история, мировые кризисы. Как бы Вы описали нынешний кризис и эскизно объяснили, что же происходит сегодня в мире, кончаются ли источники вод, что питали человечество на протяжении огромного времени?
ГЕЙДАР ДЖЕМАЛЬ. Я согласен с тем, что мы переживаем сейчас одну из начальных фаз кризиса, который начался не сегодня и не вчера. Но мы только сейчас начинаем понимать, что речь идет о тектоническом сломе цивилизационного масштаба, уникального за 300– 400 лет.
Проблема в том, что интеллектуалы сегодня не готовы к исследованию происходящего. Один из характерных моментов этого кризиса связан с тем, что вместе с началом кризиса одновременно кончились и те интеллектуальные инструменты, которыми было комфортно в XIX—XX веках познавать реальность. Марксизм сегодня умер, он ничего не описывает. Хотя это был инструмент, дававший глобальную картину мира – сверху до низу, от макромира до микромира, с диалектикой и своеобразной метафизикой.
Марксизм был выстроен на основании монистического видения бытия. Это был гуманизм, центрированный на материи, которая, однако, определялась очень невнятно: то ли это было вещество, то ли движение, то ли некая субстанция, которая проявлялась в разных формах. Конечно, как только мы пытаемся разобраться в этой философии, мы тут же встречаемся с теми страшными противоречиями, которые очень быстро заставляют искать какие-то альтернативные методики. Но все же там был некий визион.
Для научной школы марксизм был ценен тем, что он приучал любого среднего студента к системному мышлению, к глобальной системе отсчета. Это очень хорошо отследил Сергей Кара-Мурза в книге «Манипуляция сознанием» – в ней он пишет, что с концом советской высшей школы исчезает то завоевание советской власти, когда каждому человеку дается возможность увидеть мир так, как его мог бы увидеть человек калибра Гегеля. Сегодня такая возможность резервируется только для элит и отнимается у эксплуатируемого рабочего, «механической скотины», функционального придатка к своему станку.
Но и с точки зрения интеллектуала, который дошел до вершин интегрального понимания мира, понятно, что с той методикой, которой владели либеральные мыслители XIX–XX века, мир описать уже нельзя. Проблема в том, что альтернативных методик нет. Постмодернизм разрушил все, в том числе и т. н. «буржуазные» попытки интегрального объяснения Вселенной. Поэтому сегодня все поползновения прокомментировать кризис выглядят очень жалко.
Одним из наиболее жалких «комментариев к кризису» я считаю объяснение, что мы живем будто бы в «эпоху столкновения/диалога цивилизаций». Дело в том, что «цивилизация» – это еще более маргинальный термин, чем мистическая «материя» Маркса. Цивилизация еще менее оперативна как рабочая категория. Потому что цивилизация – это набор интерпретируемых символических признаков, которые являются в любом случае всегда очень внешними. Серьезные мыслители давно уже доказали, что любая цивилизация «переводима» на другую через некоторый общий метаязык. Есть традиционалисты, которые показывают, что некое сверхсодержание может быть изображено и в терминах египетской цивилизации, и в символах цивилизации инков, и в рамках китайской традиции и т. д.
И всегда это будет одно и то же. Просто термины, образы, символы, знаки всякий раз разные, они адаптируются к внешним психофизическим характеристикам людей. Поэтому говорить о «столкновении цивилизаций» – это все равно, что говорить о «столкновении культур», о «столкновении богем» или «столкновении схоластов», говорящих об одном и том же, но на разных языках. То есть эта теория ничего нам не объясняет.
Ресурсы кончились
На самом деле, на мой взгляд, сегодня с человечеством происходит следующее.
Мировое общество – это вещь фундаментально затратная, потому что она реализует некий глобальный метапроект, благодаря которому человек является человеком, центром Вселенной. Мировое общество является коконом, который защищает человека от свирепствующей динамики внешнего мира, от сил вселенского Хаоса, которыми человек был бы стерт, если бы вокруг него не было бы этого кокона антропогенной вселенной. Прометей, принесший человеку в пещеру огонь, украденный у олимпийцев, осуществил, по сути, акцию создания антропогенного космоса, в котором человек с самого начала, как только он входит в общество, сколь угодно древнее, архаичное, примитивное, сразу же освобождается от фундаментальных законов деструкции, энтропии, от второго начала термодинамики, действующего во внешнем мире.
Представим себе дикарей Амазонки, которые еще не знают реального общества и в силу этого полностью зависят от некоторых обстоятельств – например, от того, как течет река, в которой дикари ловят рыбу. Когда приходит белый человек и перекрывает ее, эти бедняги должны либо куда-то убежать, либо вымереть. Скорее всего, произойдет последнее. Но когда подобная катастрофа происходит с обществом, пусть даже это древнеегипетское общество с его «десятью казнями Египетскими», – то с этим обществом ничего не происходит. Если прекратятся разливы Нила, общество не исчезнет. Оно найдет какие-то новые ресурсы, потому что антропогенный космос обладает неограниченным запасом устойчивости по отношению к любым катастрофам: землетрясениям, засухам, падениям метеоритов и т. д.
Но это – не бесплатно. Потому что, скажем, если вы живете в доме, в котором двадцать пять градусов тепла, а за окном – минус сорок, то дом надо топить. А чем топят глобальное человеческое общество? Нами. Нашим временем, нашей энергией. На компенсацию этого ледяного ветра, дующего сквозь Вселенную, идет жизненное время, отчуждаемое у миллионов людей в тысячах поколений. И каждый день надо платить чуть больше. Во времена фараонов компенсировать расходы на содержание мирового социума можно было самыми неограниченными средствами. Но рано или поздно возникает проблема: нельзя получить дополнительный ресурс из людей в том состоянии, в каком они все когда-то были: рабы, ручной труд, носилки, кирка. Это значит, что необходимо мобилизовывать сам социум, модернизировать его.
И мобилизация, и модернизация общества всегда идут сверху. От тех инстанций, которые наиболее глубоко осознают глобальные проблемы, стоящие перед человечеством. Во все времена уровень понимания такого рода был присущ только одной группе людей – тем, кто профессионально владел фундаментальной метафизикой, то есть жрецам. Именно жрецы являлись и являются проектантами истории, и все мобилизационные технологии идут от них. Но, поскольку они мобилизационные, они не должны иметь вид внешней, чужеродной стимуляции. Поэтому история имеет вид череды социальных потрясений «снизу»: революций, вспышек требований со стороны общественных групп и так далее.
Когда мы смотрим на всю систему вызовов, бросаемых низами, мы приходим к выводу, что на самом деле не рабство исчезает, не свобода приходит на место рабов фараона, а просто стоимость рабовладения, капитализация рабства непрерывно повышается. Современный технократический менеджер, яппи из мегаполисного офиса – это такой же раб, просто секунда его времени стоит в десять тысяч раз дороже, чем секунда времени строителя пирамид.
Так вот, сегодня проблема заключается в том, что социализировать человека еще больше, чем он социализирован в современном мегаполисе, невозможно. Нельзя повысить через мобилизационные технологии его отдачу. Например, в 30–50 гг. ХХ века в мобилизацию России, ста пятидесяти миллионов мужиков, которые превратились в обитателей колхозов и великих мегаполисов, были вложены колоссальные ресурсы. Но теперь нет таких ресурсов, чтобы вбросить в мегаполисную цивилизацию, скажем, семьсот миллионов жителей Африки или два-три миллиарда людей Азии и Латинской Америки. В Китае идет этот процесс, но крайне проблемно. В Индии этот процесс фактически привел к разрыву на две страны: высокотехнологичную Индию, которая является составной частью Большого Мегаполиса, и громадную остальную часть, которая осталась где-то внизу, как затонувшая Атлантида, и не участвует в этом Полисе. Такие же процессы протекают в Юго-Восточной Азии. Чтобы поднять социум архаического мира, необходимы колоссальные ресурсы, которые несопоставимы с тем, что потратили большевики на преображение России
Прикончить человечество?
Большевики нашли эти ресурсы: они были революционерами, они отняли бриллианты у фрейлин, они демпинговали, продавая зерно, предварительно отнятое у крестьян, то есть они вырвали ресурс из всего, что могли, и сделали из страны мегаполис: к сороковому году это была сверхдержава. Можно сказать, что тогда произошло чудо.
Теперь такое чудо невозможно. После 45-го года окончательно победила спекулятивная виртуальная экономика, которая базирует основную часть производимого продукта на чисто информационном базисе. Это фьючерсные сделки, это торговля ценными бумагами, это создание хай-тек компаний, что выпускают акции на несколько миллиардов долларов, а затем лопаются, потому что за ними ничего не стоит. И все эти сделки фактически проели реальные активы. Можно сказать, что сегодня спекулянты проели собственность человечества на несколько поколений вперед. Все разошлось по карманам элит и обслуживающих их проходимцев.
Сегодня, чтобы произвести какую-то трансформацию, надо у тех десяти процентов, что владеют 99 % мировой собственности, отнять все. И вопрос стоит так: поскольку эти десять процентов хотят обезопасить себя от каких бы то ни было вызовов, девяносто оставшихся процентов населения Земли должны быть признаны лишними и враждебными!
Для верхушки абсурдно и бессмысленно отдавать свою собственность для того, чтобы оставшийся мир стал современными яппи. Более того, нет таких большевиков, которые сегодня поставили бы так вопрос. У самих девяти десятых населения Земли такие ресурсы получить уже нельзя. Потому что их время стоит слишком дешево. Но ведь Хаос по-прежнему требует возрастания платы за антропогенную цивилизацию, которая защищает всех: и непальца, и француза, и клошара, и Саркози. Дальше невозможно нести на себе бремя этих девяноста процентов людей, которые живут так, будто они все еще в XV веке. А платить надо уже как в XXII веке. Поэтому сегодня уже открыто, без всякого стеснения, выдвигается на уровне профессорских кафедр суждение о том, что большинству населения Земли лучше поскорее подохнуть.
Подобные разговоры предшествуют великой подвижке, которая называется информационной революцией и переходом к информационному обществу – последней, на мой взгляд, стадии прогресса рабовладения. Древнеегипетское общество даже не подозревало о таких возможностях эксплуатации, отчуждения и интенсификации человеческого фактора, которые предусмотрены в информационном обществе. Раб, после того как отдал свое время на строительство пирамиды, возвращается к себе в шалаш и остается наедине со своим сердцем. А у современного человека уже нет этого сердца, этого внутреннего пространства, в которое он мог бы вернуться из офиса. Его социальная зависимость, его связи, его уровень ответственности возросли во много раз. Мозги его захлестнуты медиа, его сердце запрограммировано на то, что есть благо, политкорректность уже у него в бессознательном. Современный «человек офисный» – это терминал, через который идет информационный поток. Поток этот подобен ленте Мебиуса, на которой нет разницы между внутренним и внешним. Человек утрачивает свой внутренний мир для того, чтобы весь свой экзистенциальный капитал перекачать в этот информационный поток.
Но естественно, останется очень узкая сверхэлитная группа, которая и будет бенефициаром этого информационного общества. Что самое интересное, чего не было раньше: за последние триста лет образовалась правящая надстройка, которая вынесена за пределы общественного пространства. Если раньше церковь в широком смысле и короли с аристократией (которые являются собеседниками церкви, переводящими импульсы последней на человеческий язык) были составной частью социума, то сегодня эта группа видимым образом исключена из него. Исключена настолько, что обыватель, когда слышит о них, представляет их чем-то вроде зеленых человечков. Он спрашивает: «А разве эти люди еще существуют? Разве они оказывают какое-то влияние? Скорее всего, это уже живой музей, символы и ритуальные традиции!»
Это очень интересный психологический настрой, который подчеркивает страшную вещь. «Суперэлита» обеспечила себе некую форму господства и контроля над обществом без обратной связи с собой. То есть ей нельзя сделать предъявление по поводу ее позиции или ее ошибок. Надо понять, что великие посвященные, представителями которых являются Папа, Далай-лама и тому подобные персонажи, с нами не говорят. Папа, может быть, раз в год паломникам рукой машет сверху, и всё. Они в диалоге с избранными. С королем Олафом, с принцем Чарльзом, с Майклом Йоркским, королевой Джулианой.
«Черная дыра»
Россия здесь находится в особенной ситуации. Расстреляв в 18-м году Романовых, она стала «черной дырой». Имеется в виду не негативное толкование, а непредсказуемость. Голландия предсказуема, потому что там есть королевский дом. А Россия непредсказуема. Возможно, в том и заключается один из последних шансов истории, что Россия – «черная дыра». Не жесткая связка шарниров и шестеренок, а упругий резиновый патрубок с люфтом, позволяющим гулять налево-направо.
Церковь, монархии, – все это существует, как и во времена Борджиа. Но тогда они были центральными актерами исторической сцены, а сегодня они являются полностью вынесенными за скобки. Люди думают, что это они занимаются историей, проектируют собственное будущее, ходят голосовать, выбирают партии в парламент. Они не понимают, что подобная суета есть форма социальной мобилизации, которая чего-то стоит. И на самом деле, все, что они производят, – это отчуждаемая работа, на которую они тратят свое время. Это время отчуждается и трансформируется во внешний капитал: пересчитывается в деньги, которые тратятся на то, на се. Но эта деятельность не является значимой жизнью, не является реальностью. В ходе этой суеты не возникает никаких судьбоносных решений, исходящих от vox populi (гласа народа).
На самом деле, в современном обществе есть два противостоящих друг другу института. Бюрократия – анонимная, беспринципная, имеющая хозяина, находящегося за скобками, существующего скрытно. И институт публичных политиков, возглавляющих партии, появляющихся на экране телевизора, работающих ярмарочными зазывалами, которых бюрократы ненавидят, потому что их психотипы полярно противоположны. Одни угрюм-бурчеевы, анонимно скрытые в кабинетах за шторами корпоративной этики. Другие – рыжие, скачущие на ковре на потеху публике. Но, тем не менее, и те, и другие получают сигнал от одних и тех же «центров принятия решений». Не жириновские и не белых вырабатывают принципы легитимности. И даже не анонимные бюрократы в кабинетах. Мы знаем, к кому все они бегают на поклон.
Проблема России в том, что после зачистки девяносто лет назад романовской грибницы, выращенная здесь номенклатурная бюрократия и их сегодняшние наследники бегают на поклон к кому-то из другого, не российского пространства. Им хозяин необходим, но здесь, внутри России, такого хозяина, который нужен бюрократии, нет. Пока существовала квазиспиритуальность в виде советской идеологии, сверхзадачи и коммунистической футурологии, все это сдерживалось.Но когда советский проект был «слит», выяснилось, что бюрократия не может выживать в вакууме и быть царем самой себя. Она не Мюнхгаузен, который вытаскивает себя за волосы из болота.
Есть либералы, которые могли бы и хотели бы стать хозяином этой бюрократии. И в начале 90-х они стали на время таким хозяином. Но поскольку либералы и бюрократия онтологически ненавидят друг друга, бюрократия вырвала инициативу у либералов, часть из них используя сегодня как шестерок-политтехнологов. А большая часть либералов ушла в разнообразную оппозицию.
Либералы сегодня находятся по всему миру в большом кризисе, потому что крах экспоненциального роста мировой цивилизации – это, прежде всего, крах либерализма. Если невозможно включить в мобилизационные механизмы модернизации архаическую часть человеческого общества (а это сегодня более четырех из шести миллиардов человек, проживающих на Земле), то нет базы для либерализма. Ведь либерализм – это паразитическая вещь, которая процветает, как мох, на мобилизационных процессах. В своем нынешнем виде он возник после кризиса абсолютизма в Европе, когда началась буржуазная модернизация и когда, во Французскую революцию, аббат Сийес сформулировал главное учение буржуазии: «Третье сословие ничто, но оно должно быть всем». Либерализм нуждается в подобном росте цивилизации, но не во имя самой цивилизации – просто «подогревание» последней во время роста кормит и взращивает либерализм.
Конечно, либеральный клуб – это не единая система. Там есть и крайне правое крыло, вроде фашизма Муссолини. Есть крайне левое крыло в виде Троцкого. Но что касается России, то Ленин никогда не был либералом. Он принадлежит к совершенно иной породе людей: он русский коренной радикал. Того же замеса, что и Бакунин или Нечаев. Воспользовавшись либеральным дискурсом, чтобы овладеть международным потенциалом марксизма как языка протестных сил, Ленин оставался радикалом. Поэтому специфика большевистской революции отмечена не социал-демократическими принципами, не Каутским и даже не Троцким, а Лениным, восходящим к глубинным корням мессианской роли России. Эта роль связана не с Екатериной или Петром, а с Пугачевым, с раскольниками, с казачеством – с великим содроганиями, идущими снизу, которые ставят под вопрос существование верхней «грибницы» и бросают ей вызов.