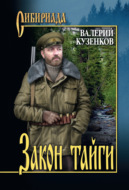Kitobni o'qish: «Прóклятое золото Колымы»
© Турмов Г.П., 2020
© ООО «Издательство «Вече», 2020
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020
Прóклятое золото Колымы
Пролог
Дайте человеку цель, ради которой стоить жить, и он сможет выжить в любой ситуации.
Иоганн В. Гете
Написав роман1, я отослал его внуку одного из главных героев, с которым переписывался во время работы над книгой, и через некоторое время получил от него следующее письмо:
«Уважаемый Геннадий Петрович!
Благодарю Вас за присланную Вами книгу. По-моему, получился новый жанр: сочетание художественного повествования с исторической публицистикой… Мы с женой перечитали Вашу книгу дважды… Отдаём должное Вашей огромной работе в архивах по сбору материала о составе Сибирский флотилии к началу Русско-японской войны. Особый интерес вызывают сведения о зарождении и становлении нашего подводного флота… Среди героев Вашего повествования – Валерия Александровна (Лера), сестра Дмитрия Александровича. Она моя крёстная. Может быть, для Вас будет интересна судьба её семьи. По-своему она трагична. В 1934 году по доносу близкого друга был арестован в Ленинграде её сын Женя, студент Политехнического института. В течение ряда лет Жора Кульпин собирал компромат на своего товарища, соперника в учёбе. Постоянно бывал в этой тепло относившейся к нему компании. В частности, когда группа студентов нечаянно уронила бюст Сталина, он приписал это намеренному действию Жени. Приговор был пять лет лагерей на Колыме. Понятно горе Валерии Александровны и стремление брата помочь любимой сестре. Вы написали в своей книге о риске такой помощи для собственной судьбы Дмитрия Александровича. Евгений Иванович Богданов (Женя) оказался в страшных условиях лагеря на золотых приисках. От непосильного труда и физического истощения он был близок к смерти. Спас случай. В лагере был объявлен конкурс на разработку установки для разогрева грунта (вечной мерзлоты). Это был единственный шанс выжить.
Под конвоем Женю привели в контору прииска, дали бумагу и карандаш. На всё дали 3 часа. Идея была стоящая, но не хватало знаний и практического опыта. На его счастье, вольнонаёмный инженер, оценивающий работу, оказался хорошим человеком. Он видел недостатки разработки, но оценил идею, да и просто хотел помочь способному молодому человеку-«доходяге». Так его перевели из забоя в бараки, где работали заключённые инженеры. С этого времени начался его «роман» с техникой по добыче золота на Колыме. «Зэк» смог защитить диплом горного инженера, две диссертации (кандидатскую и докторскую), стать членом-корреспондентом АН СССР. Там же, в Магадане, он встретил свою жену. На Колыме родились сыновья. И во всех этих посланных судьбой испытаниях опорой и поддержкой была горячо любимая им мама – Валерия Александровна Богданова (в девичестве Мацкевич)…
Ваш Мацкевич».
Впоследствии он писал:
«Здравствуйте, Геннадий Петрович! Получил Ваше письмо. Пытался отправить письмо с приложением: фото команды «Громобоя» в Алжире. Отправил, но получил ответ, что оно не доставлено. Я набирал электронный адрес, может быть, ошибочно? По поводу материалов о Евгении Ивановиче Богданове. К сожалению, его невестка на лето уехала в деревню и вернётся в конце лета. Я знаю, что у неё такие материалы есть. По её возвращении с ней встречусь. Ко мне приезжала дочь Юлия, она живёт и работает в Лондоне. Ведёт в университете Брунеля Департамент международных связей через Еврокомиссию. Она заинтересована в контактах с Дальневосточным федеральным университетом. Правда, сейчас осложнилась обстановка, поэтому на Ваше усмотрение, может, этот контакт и нежелателен. Я работаю в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского. После достаточно длительного перерыва у нас вновь большой набор, в том числе девушек (в будущем программисток). Поэтому осенью на меня придётся большая нагрузка. Весь год пришлось создавать известные Вам УМК, а поскольку гражданский персонал очень малочисленен, то электронный набор этих материалов со множеством формул и рисунков пришлось взять на себя. Пока нахожусь в форме – буду работать, да и коллегам нужно помочь в непростой ситуации.
Жму вам руку, с уважением ваш Мацкевич».
Встретились мы с Юлей Мацкевич летом прошлого года. Передо мной предстала цветущая женщина с чертами лица, весьма схожими с обликом её двоюродной бабушки.
Мы выпили по чашке кофе с конфетами «Птичье молоко», изобретёнными во Владивостоке. Юлия призналась, что очень любит эти конфеты. В заключение беседы она передала мне записку своего деда, с которым я в своё время вёл переписку.
Меня заинтересовала та часть записок, где он описывает свой арест и содержание в тюрьме на Шпалерной с 1 октября по 31 декабря 1937 года:
«Меня брали ночью на Мойке, 16. Звонок в 2 часа ночи. Пришли двое: один в штатском, а второй майор в лётной форме (голубые петлицы). Произвели обыск: забрали чертежи и часть бумаг. Позже, при освобождении, просили зайти и вернули все чертежи, синьки сварных катеров и барж Дальзавода. Поля и Лилечка плакали, Поля вытряхнула свои вещи из корзинки и дала её мне вместо чемодана (потом я с корзинкой вернулся). Андрюша спал, а я непрерывно просился в туалет от волнения. Был убеждён, что это недоразумение, завтра вернусь. Хамства и грубостей при аресте – никаких. Даже при прощании нас с Лилечкой оставили на несколько минут одних. Лётчик сказал своему спутнику:
– Выйдем на минутку, дадим им проститься!
Внизу на ул. Желябова стояла черная эмка. Машина новая, я заинтересовался её видом и устройством. Видимо, происшедшее не так уж взволновало меня. Привезли на Шпалерную. Сделана опись вещей и изъятие ремня и шнурков. Временно поместили меня в маленькую комнату-ожидалку. Постоянные просьбы в туалет (от волнения). Днём, наконец, перевели в общую камеру. Когда я шёл по коридору, из соседней камеры кто-то громко сказал:
– Смотрите, и Шостаковича забрали!
Это обо мне, т. к. я был сильно похож на композитора. Общая камера – помещение около 30 кв. м, в ней приблизительно 100 чел. Сидеть могли не все, многие стояли, т. к. на сдвинутых на день щитах мест не хватало. Лежать днём запрещалось. Днём выдали обед, но первое время есть абсолютно не хотелось. Мою пайку хлеба с удовольствием брали соседи. В дальнейшем я сам с радостью пользовался пайкой вновь прибывших, не евших от переживаний первые двое-трое суток. На ночь раскладывались щиты. На них ложились «долгожители» камеры. Во-первых, это был староста камеры. У нас им был Алексей Денисович Дикий – народный артист СССР. Прибывшие позднее ложились под нарами на полу. Наконец, несчастные «новички» просто сидели скорчившись, т. к. места лежать им не было. За время моего пребывания в камере до конца декабря я уже успел заслужить лежачее место под нарами внизу. Публика в камере была самая разнообразная, но много и интеллигентных людей. Вот некоторые из тех, кого я вспоминаю:
Константин Дмитриевич Миртов – вся наша последующая дружба в течение более 50 лет была определена «общей бедой 37-го». Вечная ему память! Василий Яковлев Рыбин – старый партиец, интеллигент. Убеждённый стойкий коммунист. Позже его выпустили, и я заходил к нему в лабораторию на улице Ракова (теперь Итальянская). Он был нашим с Костей наставником, предупреждая:
– Как, ребята, ни будут мордовать, ничего не подписывайте!
Я не подписал.
Михаил Петрович Бронштейн – тщедушный молодой человек, высокообразованный и талантливый физик. Оказывается, он был мужем Лидии Корнеевны Чуковской, писательницы, дочери Корнея Ивановича. Он читал нам лекции о строении вещества. Две его книги, 1935 и 1980 годов издания, с его биографией, есть у меня в библиотеке. Был он пессимистом. Считал, что дело сидящих – пропащее. Потом, спустя десятилетия, всё прояснится, люди ужаснутся, но этих сидящих уже не будет. Как прав он оказался! Тяжёлое прозрение наступило через 35–40 лет!
Беляков – бывший царский матрос, старый партиец, начальник Главморпрома. С интеллигенцией он в камере не общался, только с такими же партийцами.
Яхонтов, инженер, – чистенький, аккуратный, мудрый, с большим житейским опытом. Многое знал и советовал по личной гигиене. Настроение у него всегда было хорошее, ровное.
Женя Шениовский – поляк, немного старше меня, оптимист. Придумал стишки:
– Мы попали в ДПЗ, ах, здрасте! Нанимайте ЧКЗ, нанимайте ЧКЗ, ах, здрасте!
Острил, балагурил.
Костя Миртов потом утверждал, что его расстреляли. Сам Костя быстро подписал абсурдное обвинение во вредительстве при проектировании самолётов. Сидел, ждал суда. Позже рассказывал, что состоялась Военная коллегия, на которой все обвиняемые единодушно отказались от навязанных им обвинений. В итоге к 1939 году их выпустили. Костя, став полковником, благополучно профессорствовал сначала в Москве, в Академии Жуковского, а потом до конца дней в Риге.
Бове – старик-интеллигент, глубоко больной. Вероятно, он скоро умер. Панцошник – инженер, еврей, арестованный в ту же ночь, что и я. Поэтому мы сблизились как товарищи по несчастью. Дикий Алексей Денисович, народный артист, староста камеры, как долго сидевший Он задавался, с простыми не общался. Малосимпатичная личность. На меня он стал обращать внимание, когда начало выясняться, что меня, возможно, выпустят. Просил позвонить кому-то. Утверждал, что его посадили по доносу народного артиста Бабочкина. Страшно клял его. Но позже, к счастью, Дикий вышел и сыграл ещё много славных ролей, в том числе Кутузова.
Самарский (или Самаринский) – тенор, немолодой. Сидел много в разных тюрьмах. Много рассказывал, в частности, о том, что уголовники хорошо к ним относятся и щадят людей творческих профессий: певцов, рассказчиков, музыкантов и др. Нам он много пел арий из опер. Восхитительно. Его концерт всегда был праздником.
Павловский Роман Степанович. При мне он «стоял на конвейере». Утром его полуживого после очередного допроса втягивали в камеру и укладывали спать, спрятав за спинами. Через полчаса новый дежурный, не зная ничего, вызывал:
– Павловский!
Кто-то должен был рапортовать:
– Роман Степанович.
Дежурный провозглашал:
– На допрос!
Имитировалась возня с одеванием, а Павловский пока спал. Потеряв терпение, дежурный требовал снова. Наконец Павловский встал и плёлся из камеры. При мне так продолжалось 20 дней без перерыва! Вряд ли Павловский остался в живых. В камере, кроме бесконечных разговоров, были ещё многочисленные развлечения: концерты, которые давал Самарский, лекции, вернее научные семинары, шахматные турниры. Шахматные фигуры изготовлялись из хлебного мякиша. Было и различное рукоделие. В частности, я смастерил из картона и склеил шёлком футляр для своих очков. Шёлк был вырезан из подкладки – наколенников для моих брюк. Футляр этот сейчас хранится у меня на память. Много суеты, хлопот и ругани вызывало мытьё пола. Руководили этим умельцы, которые перегоняли всех со стороны на сторону, и швабрами, и тряпками растирали пол. Развлечением была также раздача заказов-покупок (в основном булки и муки). Их могли делать арестанты, имевшие денежный счёт. У меня такой счёт был, и в Новый год мы с Костей и Рыбиным пили чай с булкой, густо посыпанной репчатым луком. До сих пор помню прелесть этого угощения.
А позже, той же ночью, меня вызвали с вещами и отпустили домой (вероятно, одного на 10 000 человек!). В 1995 году, взяв в библиотеке журнал «Нева» (№ 6-95), я случайно нашёл статью некоего Марка Ботвинника «Пятьдесят лет спустя». Оказывается, он сидел там же, в КПЗ на Шпалерной, в январе 1938 года, т. е. на один месяц позже меня. Он – в камере № 25 (на 100 человек), а я в № 27. Его описание быта камеры совпадает с тем, что было со мной.
Теперь о допросах. Многих в камере вообще не вызывали. У меня их было 5 или 6. Через 3 дня после ареста первое знакомство, очень беглое. Канва примерно такая:
– Вы сомневаетесь, что вас справедливо арестовали. Органы не ошибаются!
Сразу тупое, примитивное обвинение в шпионаже:
– Подписывайтесь, что были шпионом! Каким – не важно, японским, немецким, английским, хоть каким.
Поражался наплевательству следователей к содержательной части допроса. Вопросов, подробностей – никаких. Просто выбивается подпись. Несколько ударов по лицу. Скучно… Стоянка у стены в кабинете по 5–6 часов. А потом в камеру. Однажды было предпринято искушение едой. Вызванная буфетчица принесла чай, бутерброды, булочки.
– Ешьте, успокойтесь и подписывайте. Зачем мучиться?
Я валял дурака, не понимая, чего от меня хотят. И тут появилось упоминание о моей «вредительской» деятельности на заводе по внедрению сварки. По-видимому, это был донос Н.К. Нисневича, работавшего со мной на Петрозаводе. Тут уж я попал на свой конёк! Взял бумагу и давай чертить и объяснять следователю преимущества сварных соединений перед клёпаными. Он скучал, требовал назвать членов группы. Потом ему всё надоело, и он прекратил этот цирк. На допросе фигурировала характеристика на меня, полученная от завода. Следователь сказал, что она «убийственная», но мне её не показал. Много лет спустя я узнал, что в то страшное время главный инженер завода Я.В. Вердников не побоялся остаться справедливым человеком. Характеристику на меня он направил самую положительную. Вечная ему память и благодарность!
В день первых в стране выборов (вероятно, в середине декабря 1937 года), утром я стоял снова на допросе. Настроение у следователей приподнятое: всенародный праздник! В комнате появился их начальник – какой-то маленький еврей в форме со шпалой на петлицах. Он звонит при мне утром домой, поздравляет жену с праздником, говорит, что скоро освободится и придёт голосовать. Тут неожиданно встал вопрос и обо мне. Вероятно, он и придумал:
– Отпустите вы его к чёрту! – Посмотрел что-то в бумагах, что-то сказал следователям, и те переменились. Настаивать на шпионаже перестали. Перемену я сразу почувствовал. Следователь мирно пообещал мне поторопиться с оформлением, чтобы успеть к Новому году. Обещание выполнил.
В камере мне стали давать поручения. Даже староста Дикий попросил позвонить кому-то. С Костей Миртовым и В.Я. Рыбкиным мы часов в 7 встретили Новый год, поев с чаем булку с маслом, полученные из магазина.
Потом меня вызвали с вещами и с проволо́чкой выпустили часов в 11 ночи. Я пустился бегом по Шпалерной к своим на Мойку. Поля ошибочно послала меня на канал Грибоедова, и лишь оттуда я отправился на Зверинскую, где все наши и были. Я ввалился после 12 ночи. Вероятно, это был один случай из сотни тысяч! Дома я долго был «чокнутым»: всё боялся, что за мной следят, меня подслушивают. А что пережила Лилечка за время моего сидения! Во-первых, она сначала спала не раздеваясь, считая, что и за ней придут. Кроме того, хождение по тюрьмам в поисках меня. Наконец, стояние в огромных очередях на Шпалерной, чтобы сделать передачу. В этом ей частично помогал и папа, находившийся тогда в Ленинграде.
После выхода из тюрьмы я явился на завод. Был направлен в местную командировку в группу Г.М. Вераксо на разработку проекта разделения корпуса проекта 53 (дизельного тральщика) на секции с целью их отправки на Дальний Восток. Группа работала в здании ЦКБ на Суворовском проспекте, напротив гарнизонного военного госпиталя. Там я однажды встретил своего следователя, но мы друг другу не признались.
В войну в здании ЦКБ размещался госпиталь. Во время одного из налётов он загорелся. Я в это время проходил на завод и видел этот страшный пожар, продолжавшийся несколько часов. Сколько раненых там погибло! После войны в этом месте располагались ЦНИИ-45 и отделение НТО судостроения.
После одного из заседаний я предложил академику Ю.А. Шиманскому подвезти его на Петроградскую. Выходим, он спрашивает:
– А где ваша машина? О ужас, украли!
Правда, через два дня наш порядочно «раздетый» «москвич» нашла милиция, которая в этом и поучаствовала. В январе у меня состоялась подробная большая беседа с папой о моём пребывании в тюрьме. Думал ли я тогда, что как будто бы ввожу его в курс тех роковых будущих событий. Разговор проходил на стрелке Васильевского острова. Это была наша почти последняя встреча, ведь жить папе оставалось лишь полгода. Так я её навсегда и запомнил!»
Тюрьма на Шпалерной, 25, – первая в России специальная следственная тюрьма, которую в разных кругах поселения называли по-разному: Дом предварительного заключения, ДПЗ, Шпалерная тюрьма, «Шпалерка». Она была открыта в августе 1875 года.
До революции в тюрьме на Шпалерной содержались известные революционеры: В.И. Ленин, Ю.О. Мартов, Б.В. Савинков, Н.И. Кибальчич, Софья Перовская и др.
В советское время к ним добавились: Ольга Берггольц, Н.С. Гумилёв, Г.С. Жжёнов, Д.С. Лихачёв, маршал К.К. Рокоссовский и множество других известных личностей, попавших под неумолимый пресс репрессий.
В 1944 году пленный финский лётчик Лаури Пекури так упомянул в своих воспоминаниях тюрьму на Шпалерной:
«Все тюрьмы совершенно тихие. Даже в коридорах нет ни звука. Во время переходов строго запрещается говорить. Похоже, люди ходят в коридоре в чулках».
В мрачном периоде советской истории аббревиатура ДПЗ расшифровывалась «Домой Пойти Забудь».
Тюрьма была известна также «Шпалерными тройками» – внесудебными органами из трёх человек, через которые прошли десятки тысяч репрессированных. Тюремный фольклор донёс до наших дней и стихи:
Шпалерка, Шпалерка,
Железная дверка.
И песни:
На улице Шпалерной
Стоит высокий дом,
Войдёшь туда ребёнком,
А выйдешь стариком.
Тюрьма на Шпалерной была для членов семьи Мацкевич своего рода голгофой. В 1934 году, в ноябре, был арестован и помещён в «Шпалерку» студент Евгений Богданов, в 1937 году в эту же тюрьму был помещён его двоюродный брат Вадим Мацкевич, по счастливой случайности отпущенный на свободу по неизвестной причине. И в этом же году был арестован и расстрелян отец Вадима и дядя Евгения – профессор Дмитрий Александрович Мацкевич, участник Русско-японской войны 1904–1905 годов.
Семья
Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Лев Толстой
В конце XIX века семья Мацкевич в Феодосии жила небогато, можно даже сказать, крайне бедно. Шестерых детей трудно было прокормить, одеть и обуть на небольшое денежное содержание пехотного штабс-капитана, к тому же ещё и пьющего. Главным кормильцем семьи была мама, энергичная Юлия Васильевна.
Энергию матери из всей семьи унаследовали только Митя и Лера (Валерия). Они были очень похожие внешне, да и дружили, как это часто бывает у детей-погодков, делились друг с другом счастливыми и горестными событиями в детской и взрослой жизни, вплоть до трагических событий 1937 года.
Валерия училась в Феодосийской гимназии, участвовала в любительских спектаклях. Окончив гимназию, она неожиданно получила наследство от своего крёстного отца – брата бабушки. Посоветовавшись с Дмитрием, она уехала в Женеву, где поступила в консерваторию, изучала театральное искусство и совершенствовалась в изучении французского языка. Время пролетело незаметно, и через год Валерия вернулась в Санкт-Петербург и была принята на театральные курсы Академического театра. Ей прочили большое будущее и находили внешнее сходство с русской актрисой Верой Фёдоровной Комиссаржевской, с которой она познакомилась в театре, и та ей покровительствовала и благоволила.
Валерия сопереживала Комиссаржевской, узнав о её трагедии. Ходили разные слухи и сплетни. В литературе встречались намёки на личную драму Веры Фёдоровны.
Измена мужа, художника графа Муравьёва, с её родной сестрой так подействовала на тонкую психику Веры Фёдоровны, что она не смогла оправиться от нервного шока в течение всей своей короткой жизни и периодически проходила лечение в психиатрических клиниках.
Правда, и у её сестры брак вскоре распался, вероятно, из-за непостоянства графа Муравьёва.
Всю жизнь В.Ф. Комиссаржевскую преследовали отголоски неудачного замужества и растоптанной любви.
Не раз присутствовавший на спектаклях В.Ф. Комиссаржевской будущий «красный» нарком А.В. Луначарский вспоминал, что хотя порой он забывался и радостно смеялся, «…всё-таки таланту Комиссаржевской была присуща неизбывная нота философского пессимизма. Никогда не могла она с крыльев своего таланта стереть какой-то траурный пепел…»
На гастролях в Америке в 1908 году одна из газет иронически писала: «Что это за графиня, которая ходит в простых платьях, не надевает на себя бриллиантов и играет в простой обстановке?!» В Америке, по рассказам её брата, В.Ф. Комиссаржевскую называли по фамилии бывшего мужа – графиней Муравьёвой.
Американцы, склонные к аналогиям, сравнивали игру В.Ф. Комиссаржевской с игрой известной в то время итальянской актрисы Элеоноры Дузе, выступавшей с огромным успехом во многих странах, в том числе и в России.
Валерия была уверена, что В.Ф. Комиссаржевская имела своё собственное лицо, свой собственный талант великой драматической актрисы, способной не только великолепно играть на сцене, но и создать свой театр в Санкт-Петербурге. Театр Комиссаржевской вошёл в список ста великих театров мира. Эстафету подхватил её брат Фёдор, открыв в 1914 году в Москве Театр имени В.Ф. Комиссаржевской, который к 1916 году заслужил репутацию «одного из самых значительных театров в Москве».
Однажды Валерия услышала, как Комиссаржевская сказала:
– Стихи Пушкина нельзя читать вслух. Их можно читать только про себя. Нет такого голоса, который бы мог чтением вслух не нарушить их нежности и не вспугнуть прелести.
В другой раз она заявила:
– Слова не имеют значения для пафоса актера. Вся тайна в силе души и в чарах голоса. Хотите, я уйду в соседнюю комнату и с «душой» прочитаю вам таблицу умножения? Не слыша слов, вы разделите моё волнение. Но это будет только таблица умножения.
У неё были странные настроения, и однажды она сказала про одного знакомого:
– Этот человек голубой и воскресенье, а этот – четверг и оранжевый. Он – чётный, а ты – нечётный.
Ну как тут не вспомнить «Войну и мир» Льва Толстого, когда Наташа Ростова описывает своей матери Пьера Безухова:
– Он синий, тёмно-синий с красным… Он славный…
Валерии и в самом кошмарном сне не могло присниться, что она повторит семейную драму Комиссаржевской, правда, не такую трагическую. Сказался твёрдый характер Валерии.
Валерии не довелось стать актрисой. С началом Русско-японской войны в 1904 году она бросает театр, поступает на курсы сестёр милосердия, заканчивает их и уезжает во Владивосток, где на крейсере «Громобой» служил её любимый брат Дмитрий2.
Прослужив всю Русско-японскую войну в морском госпитале во Владивостоке, Валерия сразу же после убытия крейсеров «Россия» и «Громобой» на родину выехала в Петербург на поезде. Во Владивостоке её уже ничего не держало.
Покидая Владивосток, Валерия не предполагала, что в 1909 году Комиссаржевская совершит «сибирские гастроли», которые проходили в городах, расположенных на линии Транссибирской магистрали и КВЖД – Иркутске, Омске, Челябинске, Владивостоке и даже Харбине. Даст она спектакли и в городе Уссурийске, драматический театр которого в наше время носит имя великой актрисы Веры Комиссаржевской. Вера Фёдоровна ушла из жизни через год после «сибирских гастролей», в 1910 году, заразившись в Ташкенте чёрной оспой. Валерия была потрясена настолько, что даже слегла на целую неделю. Но это будет уже в Петербурге.
Тем не менее за время Русско-японской войны Валерия не ожесточилась. Ежедневно сталкиваясь с болью, стонами, кровоточащими ранами, а частенько и со смертью, она научилась ценить жизнь. Единственной отдушиной этого времени были встречи с братом Дмитрием, когда «Громобой» заходил во Владивосток.
Конечно, приятно было, когда внимание ей оказывали сослуживцы брата, молодые, симпатичные военно-морские офицеры. Иногда возникало некоторое подобие флирта с кем-нибудь из них, однако сердце её принадлежало студенту горного института из Петербурга Ивану Богданову, с которым она познакомилась перед самым отъездом во Владивосток.
Она часто вспоминала их встречи, слова Ивана перед расставанием о том, что как-то всё получилось шиворот-навыворот – она уезжает на фронт, а он остаётся здесь, в тылу.
Валерия и Иван познакомились на каком-то благотворительном вечере. Иван вызвался её провожать. Он проводил её до самой двери. Неуклюже полуобняв, хотел её поцеловать, но получил увесистую пощёчину и такой же толчок, скатился по ступенькам крыльца, едва удержавшись на ногах.
– Ты чего, а? – возопил кавалер.
– А ты чего, а? – передразнила его девушка. Они весело рассмеялись.
Потом были удивительные и нежные белые ночи, когда вечером казалось, что уже наступило утро, а утром – вечерние сумерки.
Получив первый отпор, Иван уже не пытался лезть к Валерии с поцелуями, хотя нередко они бродили по улицам города крепко взявшись за руки.
И только на перроне вокзала, когда поезд отправлялся в Москву и далее в незнакомый и загадочный Владивосток, Иван приник к мягким губам Валерии.
– Береги себя, – прошептал он…
Надолго запомнила Валерия этот поцелуй.
В госпитале Валерии приходилось выполнять множество обязанностей. Особенно трудно пришлось, когда во Владивосток вернулись после битвы с эскадрой Камимуры крейсера «России» и «Громобой». На обоих крейсерах раненых было почти 350 человек. Госпитали были забиты, как говорится, под завязку.
Крейсер «Рюрик» остался на дне морском. Команда крейсера предпочла затопить корабль, но не сдать его врагу.
Привычные хлопоты медсестры, уход за ранеными не оставляли ни одной свободной минуты, и всё-таки она ухитрялась найти время, чтобы посидеть с ранеными матросами, а кому-то помогала и письмо написать.
Она не раз и в мыслях, и в молитвах благодарила Бога за то, что не дал брату погибнуть в сражениях, и Дмитрий возвращался из боя живым и невредимым…
Однажды в госпитале приключилась какая-то непонятная суета, все куда-то спешили, перебегая из корпуса в корпус, бегали не только сёстры милосердия, но и степенные доктора.
В перевязочную, где Валерия меняла бинты пострадавшему от взрыва на подводной лодке матросу Сюткину, забежала старшая медсестра и, подняв палец кверху, воскликнула:
– Инспекция!
И добавила:
– Из Петербурга. Везде ходят.
Валерия продолжала перевязку. Через некоторое время в перевязочную зашла большая группа врачей. Возглавлял её пожилой человек в круглых очках с седыми клочковатыми усами и бородкой клинышком. Белый халат скрывал его мундир, но то, с какой почтительностью обращались к нему окружающие, говорило о его высоком положении.
Лейб-хирурга Евгения Васильевича Павлова (а это был он) командировали по Высочайшему повелению на театр военных действий Русско-японской войны. Его инспекционная поездка длилась четыре месяца. За это время он побывал в медицинских учреждениях Иркутска, Хабаровска, Харбина, Владивостока, Никольска-Уссурийского и других городов и станций Транссиба и КВЖД.
Войдя в перевязочную, Павлов направился к Валерии, понаблюдал, как она ловко управляется с процедурой, одобрительно хмыкнул и спросил:
– Вы откуда, сестричка, где учились? – И, услышав ответ, повторил несколько раз: – Похвально, похвально…
Начальник госпиталя поспешил доложить:
– К брату приехала из Петербурга. Он здесь на крейсерах служит.
– О-о-о, – удивился тайный советник (этот титул был присвоен Павлову в 1901 г.).
– Ожоги? – продолжал беседу с сестрой милосердия Павлов.
– Да, – подтвердила Валерия. – Подводная лодка с каким-то рыбьим названиям взорвалась у причала3.
– Ну, продолжайте, продолжайте, – напутствовал Павлов и пошёл дальше, свита поспешила за ним.
По результатам своей поездки Евгений Васильевич Павлов издал в 1907 году книгу «На Дальнем Востоке в 1905 году: из наблюдений во время войны с Японией».
О своих впечатлениях после знакомства с Владивостоком он писал:
«…Со станции Кетрицево мы отправились далее – во Владивосток, отстоящий от неё на 102 версты. Последние 42 версты железнодорожного пути после станции Надеждинская проходят совсем по краю морского залива, над которым носится масса водяных птиц. Вдали по направлению к Владивостоку виднелись горы, казавшиеся особенно красивыми от яркого освещения их верхушек солнечными лучами, проходившими между разбившимися тучами небосклона.
Вблизи Владивостока из вагона видны и каменные копи, поставляющие топливо в Приморскую область. Начиная с последней станции перед Владивостоком, опять встретились проволочные заграждения, устроенные недалеко от пороховых погребов и хранилищ снарядов.
Во Владивосток наш поезд пришёл к 7 часам вечера. Помимо того, что день уже склонялся к вечеру, темнота увеличилась ещё больше вследствие дурной погоды и моросившего дождя.
Поезд подходит к вокзалу, расположенному почти в центре города, и потому было удобно остаться жить в вагоне, не перебираясь в гостиницу. После остановки поезда, не теряя времени, я отправился к коменданту крепости генералу Казбеку, живущему вместе с сыном в казённом здании очень близко от вокзала. Генерал, очень бодрый на вид, был назначен на эту должность лишь около месяца перед тем.
На его долю пришлось спешно укреплять город, оставшийся до того времени слабо защищённым местом. Все ждали, что японцы отрежут крепость. То же самое я слышал и при отъезде во Владивосток из Харбина. Уверенности в прочном нашем положении и здесь не было. Условившись с прибывшим к нему также недавно во Владивосток генералом Езерским, занимавшим должность инспектора госпиталей, уже знакомым по Харбину, относительно совместного осмотра лечебных учреждений, оставалось только распрощаться с ним до завтрашнего дня.
Хотя погода на другой день продолжала быть серой с выпадавшим по временам дождём, город казался всё-таки очень красивым. Он расположен по склону горы, примыкающей к северному берегу Владивостокской бухты. В городе можно видеть очень большое число прекрасных, даже высоких, каменных построек, но улицы очень неудобны вследствие плохих мостовых. Город по преимуществу торговый. Главная торговля находится в руках иностранцев, преимущественно у фирмы «Кунст и Альберс».
Ещё недалеко то время, говорят старожилы, когда Владивосток со всех сторон был окружён лесом, покрывавшим все прилегающие горы. В лесах водились даже тигры. Теперь же устройством крепости леса повырубили. Остался собственно кустарник и весьма небольшое число крупных деревьев. Дальше, к северу от Владивостока, леса сохранились в довольно больших размерах.
Вода бухты, красивого морского синего цвета, кишит рыбой, креветками, которые особенно крупны, и крабами, составляющими лакомое блюдо местных жителей. В ней же водится в обилии и камбала, достигающая больших размеров…