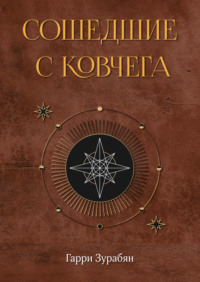Kitobni o'qish: «Сошедшие с ковчега»
Посвящается памяти жертв геноцида армян в Османской Империи 1915 г.
РОДИНА ОТ СЛОВА РОД

Жизнь пишет сюжеты, которые часто кажутся книжными, надуманными, в то же время талант писателя придумывает миры, в существование которых веришь больше, чем в реальность. Читая книгу «Сошедшие с ковчега», я ловил себя на мысли, что все описанное в ней предстает перед читателем как документальная хроника событий. Было ли на самом деле то, о чем написал автор? А именно описанная в романе трагедия одной армянской семьи, прошедшей ад геноцида. Строго говоря – нет. На то и художественное историческое произведение, чтобы словом построить образ прошлого, способный заставить пережить его совместно с героями книги. Сила таланта Гарика Зурабяна в том, что он сумел в судьбе одного рода отразить великую трагедию целого народа – геноцид армян в Османской империи.
Наверное, не случаен сюжет романа. Он о семье, о том, что составляет основу мира армянина. Теряя все, он будет с неистовством защищать свою семью, свой род, то, с чего для него начинается Родина.
Человеческий разум не в состоянии осознать и прочувствовать трагедию уничтожения в масштабах, когда смерть исчисляется миллионами. Статистика – лишь цифры, а смерть конкретного человека с его индивидуальной болью и трагедией переживается острее, бьет в самое сердце. Гарику Зурабяну это удалось. Он пишет историю семьи так, будто история записана со слов прадеда или бабушки, прошедших все дантовские круги страданий. Возможно, именно такой конкретной истории и не было, но точно были тысячи подобных, рассказанных детям и внукам теми, кто выжил в тотальном уничтожении целого народа. Эти истории, как хачкары с родниками, воздвигаются в каждой армянской душе, чтобы все мы помнили и знали, не отчаивались, но верили, что победим и вернем Арарат.
Еще подростком я впервые узнал об этой трагедии от отца, потом прочел много разных книг. Но больше всего поразили документы – свидетельства преступлений против человечности. Потрясение было настолько огромным и ошеломительным, что я не мог держать и до сих пор не держу книги о геноциде в своей библиотеке. Мне кажется, что дом наполняется образами замученных людей. Но в моей библиотеке собраны книги, которые, на мой взгляд, должны быть в каждой армянской семье: «Книга скорбных песнопений» Нарекаци, исторические романы Раффи и Мурацана, «Вардананк» Дереника Демирчяна, «Неумолкаемая колокольня» Паруйра Севака, душевная проза и поэзия Ованеса Туманяна и многие другие, которые пробуждали у меня чувства любви к родине и народу. Рядом с ними найдет для себя достойное место книга Гарика Зурабяна. Возможно, она не столь эпохальна, как труды великих мастеров армянской литературы, но является достойной книгой подмастерья, который, я надеюсь, удивит нас новыми открытиями своего таланта. Особенно приятно осознавать, что в дали от Армении, в далекой Керчи, не в самые спокойные времена, вечерами после работы сидел человек, думал и писал о судьбе своего народа. Словом, он зажигал лампаду и подливал в нее масла, чтобы огонь надежды не угасал. Чтобы потом приходили другие, читали книгу и воодушевленные несли свет сквозь века словом, делом, созиданием.
Книга Гарика Зурабяна вернула мне спокойствие человека, который пережил горе потери, но понимает, что надо жить дальше. Однако главное не в этом, а в том, что, даже погибая, можно побеждать своего врага. Более того, история не завершилась, и кто знает, как она еще может развернуться, – и это еще один урок от прочитанной книги.
У нашего народа достаточно духа и упорства, чтобы пройти дорогу до Арарата, и кто нам может это запретить. Даже если турки сравняли бы его с землей, то они не смогли бы стереть его из нашей памяти, нашей истории, нашей судьбы.
Я глубоко убежден, что настанет день, когда Арарат будет с нами. Книга Зурабяна не только вселяет эту надежду, но и приближает этот день. Такие книги – и знамя в руке фидаина, и камень в цитадели, которую он защищает, и кров, где он обретает уверенность в будущем.
Прошло сто лет с тех черных дней. Но разве это срок для тысячелетней истории армянского народа? У нас свой крест, и мы его несем. Как Христос воскрес, так и у нашего народа есть надежда на спасение, а иначе зачем Господь ниспослал на нас испытания и все же спас.
В 2015 г. жертвы Геноцида армян были причислены к лику святых мучеников. Жизнь будет пытать нас снова и снова и землетрясением, и войной, и блокадой, как точит базальт великой горы зной и холод. Но пока рука мастера проходит резцом по камню и вырезает буквы нашего алфавита, пока в армянском храме звучит молитва, пока не иссякла воля народа к жизни, мы, сошедшие с ковчега на твердь легендарной горы, будем длиться в веках.
Доктор философских наук, профессор
Олег Габриелян
Все – суета. Все – проходящий сон.
И свет звезды – свет гибели мгновенной.
И человек ничто. Пылинкой в мире он.
Но боль его громаднее Вселенной.
Аветик Исаакян,армянский поэт
По себе можно познать других;
По одной семье можно познать остальные;
По одному царству можно познать все.
Лао-цзы,даосский мудрец
ПРОЛОГ

1988 год, декабрь.
Армения, г. Ленинакан
Расслабившись, он сидел, откинув голову и закрыв глаза. Иллюзия сна. Сна, которого в ближайшее время будет не хватать. На память пришли Алжир, Бейрут, Италия, Мексика, Сальвадор. Пять кругов ада. Пройдет минут двадцать, и ему предстоит шагнуть в шестой. Судя по отрывочным сведениям, этот круг будет стоить всех предыдущих.
Словно отвечая его мыслям, послышался голос полковника:
– Город под нами. Идем на посадку. Приготовиться.
В его тоне он уловил легкое, едва обозначенное волнение.
«Сколько не старайся, к нашей службе тяжело привыкнуть, – подумал он, глядя сквозь иллюминатор вниз. – Никогда нам не приблизиться к невидимой черте, переступив которую человек полностью лишается чувств. А как иногда хочется, чтобы однажды так случилось. Видеть, слышать, обонять, осязать, но ничего при этом не чувствовать – сердцем и душой. Внешне сосредоточенные, бесстрастные, привыкшие обходиться минимумом слов и скупыми жестами – на первый взгляд мы кажемся сильными и волевыми. Но случись кому, заглянуть в наши сны, в них редко проявляются гармония и жизнь, чаще – разгром, сумятица, хаос и смерть».
Чуть подавшись вперед, он ощутил на лице холод от стекла. Зимний, забортный воздух, как уставший странник, в тщетной надежде льнул к призрачному, кратковременному теплу салона. На миг ему почудилось, будто небо и земля поменялись местами.
Город под нами…
Но города не было! Вместо него – пугающая бездонным провалом черная дыра, поглотившая в себя бесконечность пространства. Различимые кое-где огоньки от костров изредка вспыхивали во тьме, порождая ассоциацию с угасающим светом звезд или крохотными осколками разбитого зеркала. Звезда древнего Гюмри угасла. Разбилось зеркало, столетиями отражавшее лик славного Адександрополя.
Для него это были не безликие имена одного из чужестранных городов. Узнав о землетрясении, он прервал отпуск и вернулся на базу в Марсель, где их подразделение готовилось вылететь в Армению. Конечным пунктом командировки значился Ленинакан, о существовании которого его коллеги ранее даже не догадывались. Но только не он. Впрочем, и он воспринимал этот город в старинной ипостаси, как Гюмри, а позднее – Александрополь. Эти названия он не раз слышал из уст бабушки Гаянэ и дедушки Ованеса. А ведь были еще другие: Урарту, Месопотамия, Киликия, Карс, Баязет, Эрзерум, Муш, Сасун, Ван, Арарат. Много, очень много названий, вызывавших в душе необъяснимую грусть, но одновременно – столь же необъяснимую радость, надежду на встречу с чем-то неизбывно родным и прекрасным. Вместе с тем – он хорошо это помнил – в детстве ему порой снились сны, чем-то схожие с нынешними. В них мир его детства, наяву наполненный светом, любовью и счастьем, внезапно оказывался вовлечен в страшный смерч первородного хаоса, где лились потоки крови, мелькали искаженные лютой ненавистью лица, а смерть была безжалостной и единственной владычицей всего сущего.
В свое время он получил блестящее образование, на которое мог бы рассчитывать молодой человек, происходивший из семьи, чья родословная уходила корнями в поистине незапамятные времена: князей – потомков армянских царей и французских рыцарей-крестоносцев. Судьба щедро наделила его талантами. Причем проявлялись они и в гуманитарной сфере, и в естественно-научной. Что же до возможностей, они определялись самим фактом его рождения в аристократической семье. Но неожиданно для всех он выбрал для себя стезю военного спасателя. Это был первый и пока единственный случай, когда он пошел наперекор мнению семьи, где авторитет старших, их слово являлись незыблемыми и не подлежали обсуждению.
Стеснительный и застенчивый от природы, он проявил не свойственную ему настойчивость и упрямство. Правда, не прошло и пары лет, и главы семейств – по отцовской и материнской линии – признали его выбор, как и обрели право гордиться сыном и внуком – Эдмоном Лазорио.
…Из разговора с сотрудниками ереванского аэропорта Звартноц было известно, что аэродром Ленинакана также пострадал в результате землетрясения. Поврежденными оказались здание вокзала, взлетно-посадочная полоса, отсутствовали связь и энергоснабжение. Но уже на вторые сутки после катастрофы аэропорт начал принимать самолеты. Воздушный мост действовал на пределе – и человеческих возможностей, и технических. Но об этом никто не думал, все было подчинено главному: спасти как можно больше пострадавших людей.
Борт, на котором они прибыли, садился почти во мраке. Самолет начал заход на глиссаду. Над слабо отсвечивающей взлетно-посадочной полосой стелилась густая дымовая завеса. В отблесках тусклого света, под резкими порывами ветра и снежной кутерьмы, она колыхалась, словно живая, временами принимая очертания мифических животных или невиданных, инопланетных существ. И единственным знакомым и узнаваемым в этой печальной аллегории конца света виделся пусть приглушенный, но постоянный свет в диспетчерской аэропорта. Он был сродни маяку, чей огонь – живительный глоток надежды для тех, кто испил до дна боль и горечь земных дорог. Для тех, кто еще жив, кто обязан выжить и жить – во имя и за всех, кому уже не суждено.
Эдмон не мог не восхититься мастерством пилотов и диспетчеров, сажавших самолеты в сложных метеоусловиях. Вдобавок, учитывая особенности горного рельефа, аэродром располагался на высоте почти полутора километров над уровнем моря. В сумерках и ночью в составе экипажей бортов, летящих в Ленинакан, были только советские летчики. Это вселяло уверенность на благополучный исход полета. Итак, полет завершился, они – на земле.
Их разместили в здании местного райкома партии. С первой минуты они принялись обустраиваться. Все необходимое для работы и жизнеобеспечения привезли с собой. Это были автономные источники питания, оборудование, палатки, спальные мешки, пайки, вода, лекарства и, конечно, их неизменные тринадцать помощников – собаки-спасатели. А потом началась работа: бессонная, изнурительная, изматывающая большей частью, скорбная. Иногда она приносила кратковременную, нежданную радость, поэтому последняя ценилась особенно дорого. Как, например, в тот день, когда посчастливилось достать из завалов чудом уцелевшую беременную женщину, у которой им же пришлось принимать роды. Надо было видеть восторженные лица собравшихся людей, слышать их приветственные, ликующие голоса, когда Пьер Кабю – врач бригады, с улыбкой на уставшем лице поднял вверх на руках новорожденного мальчика.
К сожалению, подобные случаи происходили все реже, а чаще им выпадала нелегкая участь поднимать на поверхность мертвых. Это была одна из печальных, но непреложных истин: как правило, результативными считаются первые сутки, два, три дня. Потом вероятность спасения живых людей тает с каждым часом, ее остается все меньше.
Новый день начался обычно. Если такое выражение применимо к ситуации, составляющей неотъемлемую часть жизни спасателей. Всегда найдутся те, кто не прочь обвинить их в «толстокожести», равнодушии, а то и цинизме. Но профессионал тем и отличается от других людей: для него не существует внутренних и внешних эмоций. Его мысли, чувства и силы сосредоточены на том, чтобы выполнить свою работу на профессионально качественном уровне. Включение в окружающий мир, полный человеческих страданий и горя, приходит потом, но это, как говорится, не для прессы. Этого никто не должен видеть и слышать. Внутренний мир спасателей – такое же таинство, как рождение или смерть. Им, как никому, ведомы изначальные истины бытия. Внутренним чутьем они обострено ощущают, насколько хрупкой и беззащитной бывает человеческая жизнь, как трудно ей обрести «второе рождение», но как легко угаснуть и оборваться.
Группа французских спасателей из семи человек только что прибыла на базу, расположившись на отдых в одной из комнат райкома. Перед тем, на протяжении восемнадцати часов, они работали в успевшем приобрести печальную славу «Треугольнике». Так в Ленинакане называли район панельных девятиэтажных домов. После землетрясения они в одночасье превратились в некрополи. Ныне микрорайон походил на древние курганы-могильники, только из щебня, мусора, кусков бетона и арматуры, нагромождения перекрытий. Словом, жуткая фантасмагория, изваянная рассвирепевшей стихией над многочисленными останками людей.
Эдмон как раз пригубил первый глоток обжигающе горячего кофе, когда в коридоре послышались громкие, возбужденные голоса. Он взглянул на стоявшего рядом Кабю, тот понимающе вздохнул и сочувственно покачал головой. В отличие от них, местные жители, настроенные эмоционально и экспрессивно, общались в основном на резких, повышенных тонах. Впрочем, их можно было понять. Отныне и до скончания дней жизнь, быт и судьбы этих людей неизменно будет оцениваться с приставками «до» и «после». До – у них было все, после – не стало ничего.
В комнату заглянул переводчик Марат Овсепян, студент-пятикурсник, прикомандированный к их группе из Ереванского университета.
– Понимаю, вы столько времени без отдыха, – виновато начал он. – Но, пожалуйста, помогите! – его умоляющий взгляд был красноречивее любых слов.
Марат чуть сдвинулся в сторону, освобождая проход. Рядом с ним показался молодой мужчина лет тридцати. Эдмон окинул его быстрым взглядом, у него возникло ощущение, будто однажды они уже встречались. Черты его лица показались смутно знакомыми.
С детства он обладал хорошей памятью, в том числе на лица. И хотя за несколько лет службы в спасательной бригаде Лазорио повидал сотни людей, он мог бы вспомнить многих, с кем его сводила судьба в тех или иных ситуациях. Сейчас же, внимательно глядя на незнакомца, которого привел Марат, Эдмон уверился, что ранее никогда его не видел. Но при этом – вот ведь странность! – был убежден, что стоявший перед ним мужчина ему знаком.
– Мой друг, его зовут Тигран, – между тем взволнованно продолжал Марат. – Он родом из Ленинакана, тоже учился в нашем университете, на историческом факультете…
Тот неожиданно перебил Марата, отчаянно жестикулируя, он принялся что-то громко и нетерпеливо говорить.
– Да, я понял, – закивал Овсепян. И вновь обратился к французам: – У него есть сестра. Тигран уверяет, что София жива. Он разговаривал с ней. Вместе с добровольцами попытались вытащить ее из завала, но не смогли, – Марат развел руками. – В общем, нужна помощь.
Без единого упрека, без проявления и малой степени сожаления или недовольства, спасатели принялись спешно собираться. По дороге выяснилось, что путь их лежит в Антараван, что означает «Лесной». Этот окраинный микрорайон считался сравнительно молодым. Раньше тут были полосы огородных наделов да заброшенные пустыри. Но в начале шестидесятых годов власти Ленинакана решили возвести здесь жилые дома. Вскоре появился, как говорили ленинаканцы, «маленький городок в большом городе»: четырех-, пятиэтажные здания из розового туфа, широкая, просторная Октемберян, красивая площадь Звезды – Астг, кинотеатр на шестьсот мест, магазины, детские учреждения, парковые ансамбли – уютные и тенистые. Жилье в Антараване предоставлялось тем, кто недавно вернулся в родную Армению, окончив долгий путь вынужденных скитаний по землям Египта, Кипра, Ирана и иных стран.
За годы службы совместные действия всех, кто входил в группу, были отработаны до автоматизма. Стоило покинуть машину, ступить на землю, и срабатывал внутренний механизм – внимание, работа! Все должно быть сосредоточено на ней, никакой реакции на окружающий мир. Хотя сделать это было далеко не так просто.
Как только они, ведомые Тиграном, приблизились к завалу, вокруг них тотчас образовалось плотное кольцо из местных жителей. По опыту Эдмон знал, что просить их отойти, кричать, даже ругаться – бесполезно. Они вновь и вновь будут сбиваться в стайки, тесниться и, в конечном итоге, группироваться вокруг завалов, где работают спасатели, будто притянутые невидимым, но мощным магнитом. Это был один из психологических аспектов любой катастрофы. Люди, оставшиеся в живых, неосознанно тянулись друг к другу, ибо оказаться одному, наедине со своим горем и мыслями, нередко вело к потере рассудка. Невдалеке, в десятках метрах, закончили расчистку австрийские спасатели. Но сразу выразили готовность помочь французским коллегам. Сначала завал обследовали, оценили обстановку. Сестра Тиграна находилась под тремя плитами, упавшими друг на друга. Две нижние образовали подобие шалаша. Но сложность заключалась в том, что конструкция не была статичной. В любой момент при неосторожном движении плиты могли рухнуть, и девушку уже ничто бы не спасло. Поэтому зону действий решили расширять снизу. Работа предстояла ювелирная – продвигались вперед по десятку сантиметров. Когда убрали последнее препятствие, в образовавшемся отверстии показалась рука Софии.
Краем глаза Эдмон заметил, как Тигран, стоявший от них в пяти шагах, сорвался с места. Лазорио предупреждающе поднял руку.
– Назад! – негромко, но властно приказал он.
Овсепян, все время находившийся рядом, успел перехватить друга.
– Потерпи, – горячо принялся увещать он. – Эти люди знают, что делают. Ты можешь помешать им. Осталось совсем немного. Они обязательно достанут ее. Достанут живой.
– Я подожду…Немного…Они достанут ее…Живой,
– прерывисто повторил тот, часто кивая головой. В его глазах стояли слезы. Потом, не сдержавшись, закрыв лицо ладонями, Тигран беззвучно заплакал.
На лицах стоявших вокруг людей читалось понимание и сочувствие. Но вместе с тем и надежда – неизменная спутница людей, что идет вместе с ними по дорогам земли, осушая горькие слезы сердца, врачуя страшные раны души. Между тем, работа продолжалась. Софии передали маленькую бутылку с водой и глюкозой. Ей просто необходима была эта частичная поддержка, чтобы хоть немного восстановить силы.
Проведя переговоры с девушкой, Кабю обернулся и, ободряюще улыбнувшись, констатировал:
– Ей здорово повезло, серьезных повреждений нет. Марат перевел его слова Тиграну.
Едва тот их услышал, как его облик мгновенно преобразился. Радость, поначалу затеплившись в глазах крохотной искоркой, вдруг полыхнула ярко и сильно, будто внутренним солнцем озарив черты Тиграна. Глядя не него, Эдмон, напротив, нахмурился. По его собственному лицу промелькнула гримаса досады.
«Где и когда мы могли встречаться?», – вопрос, мучавший Лазорио, не давал ему покоя, поневоле отвлекая от спасательной операции, которая, впрочем, уже близилась к завершению.
В арсенале подразделения имелись небольшие подушки, которые при соответствующем опыте и сноровке легко помещались в завалы. Затем в них накачивался воздух, и маленькие «думки» на поверку оказывались настолько прочными и надежными, что поднимали массивные плиты. После этого тщательно, с соблюдением всех мер предосторожности, из завалов удаляли более мелкие обломки. Таким образом готовился своего рода оперативный простор для действий врача. Он первый спускался к жертвам, чтобы обследовать и вынести окончательный вердикт.
Главной опасностью являлся синдром длительного сдавления. Ткани пострадавших, находясь в течение многих часов, а то и суток под своеобразным прессом, лишенные кровообращения, постепенно отмирали. В участках, пораженных некрозом, скапливались токсические вещества. Стоило вызволить людей из завалов, как яд, устремляясь по кровеносным сосудам, разносился по всему организму. В результате люди, еще пару мнгновений назад бывшие живыми, при освободении из каменных ловушек тут же умирали.
Осмотревший девушку Пьер, к счастью, вновь подтвердил прежнее мнение о ее состоянии: она практически не пострадала. Сотрясение мозга, ушибы и ссадины, конечно, имели место. Но переломы, как и синдром длительного сдавления, отсутствуют.
И вот этот миг, подобный чуду – выстраданный и долгожданный – наступил! Приложив последние усилия, бережно и осторожно, Эдмон при поддержке Жерара Жюли и коллеги из Австрии Герхарда Риттера поднял Софию на поверхность.
Человеческая масса, колыхнувшись, сомкнулась еще плотнее. Большинство из находившихся здесь людей не миновала горькая чаша потерь и скорбных утрат. Но сейчас они не скрывали своих чувств, будучи предельно искренними. Чужое счастье ни в коей мере не являлось для них поводом для зависти. Напротив, они естественно и пылко выражали свой восторг, немалая доля которого предназначалась и тем, кто спас девушку.
Описать же состояние Тиграна вряд ли представляется возможным. С его стороны это был вулканический взрыв эмоций. Не стыдясь уже слез радости и счастья, он, скорее мешая, чем помогая, суетился около сестры. А то, внезапно оставив ее, снова кидался к спасателям, в который раз обнимая их, пожимая руки, при этом не умолкая ни на минуту.
Марат, оставив попытки успокоить разволновавшегося друга, подошел к Эдмону. Лазорио позволил себе короткую передышку, присев на огромный, отколовшийся от панели кусок бетонной плиты с торчащими в стороны прутьями арматуры.
– Вы позволите? – спросил Овсепян. Кивнув, Эдмон подвинулся.
– У них вся семья погибла, – заметил Марат. – Только они с сестрой остались. Но все-таки двое, – он горестно вздохнул. – Многие погибли целыми семьями, никто не уцелел.
Многие погибли… Целые семьи…
Никто не уцелел…
Мысленно повторил за ним Лазорио. Его взор заскользил по сторонам. Напряжение последних часов отпускало. Чувства, порожденные ощущением происшедшей трагедии, но до того запертые глубоко внутри, делали робкие попытки прорваться наружу. Он не мог этого допустить, ведь ничего не закончилось. Однако окружающая действительность с каждой минутой и все возрастающей агрессивностью проникала в сознание. Эдмону было известно, насколько непредсказуемо и опасно подобное состояние.
Сначала замечаешь отдельные, разрозненные картинки, в которых видится что-то неправильное, уродливое, стихийное. Как жесткая накипь это оседает в памяти, порождая и множа ячейки, куда ложатся новые картинки. В итоге разум, переполненный негативом, взрывается, захлебнувшись в потоках окружающего кошмара. Сердце срывается в бешеный ритм, разгоняя по телу уже не кровь, а чистый адреналин. Нервы свиваются в тонкую, готовую вот-вот разорваться паутину. Они вибрируют и стонут, превращая человека в оголенный комок плоти, в котором к этому моменту, среди всего разнообразия ощущений, остаются только два: боль и ужас. Ибо каким бы ни был человек, ему тяжело взирать на уложенные в бесчисленные ряды обезображенные тела детей, оставаясь при этом бесстрастным и равнодушным. Сколько Эдмон не пытался, он так и не смог до конца защитить свой разум от этой страшной действительности всех земных катастроф.
Погибшие дети – наиболее сильное потрясение. Поднимается плита, а под ней – ребенок. Мертвый. Разумом понимаешь, что жизнь навсегда покинула его тело, а сердце и душа отчаянно сопротивляются. Ведь дети, как ангелы, безгрешны и невинны. Ангелы не могут умереть! – пытаешься убедить самого себя. Но это убеждение вступает в непримиримое противоречие с реальностью. Перед глазами – зримо и ясно десятки, сотни мертвых детей. Кладбище погибших ангелов…
Ангелы маленькие, а рядом – ангелы постаревшие. Дети и старики. Эдмону с трудом удавалось сохранять выдержку и держать себя в руках, когда он видел этих детей и рыдающих над ними стариков. Сердце, как набат, гулко отбивая ритм, болезненно сжималось от бессилия и тоски. К сожалению, ему не раз доводилось смотреть в пугающе расширенные глаза человеческого горя, до краев наполненные нестерпимой болью и невыразимым страданием. Страшно было видеть такие глаза у женщин. Еще страшнее – у мужчин. Но почти невозможно вынести зрелища, если боль – всеохватная, выжигающая все внутри, словно напалмом заполняет глаза стариков. Ужасно не столько ее отражение, сколько неподвижный, безжизненный взгляд, в котором ледяным осколком застыл немой, невысказанный вопрос…
За что?! Почему?!
Никто не может ответить, за что и почему им выпал такой чудовищный жребий – хоронить своих детей и внуков.
Помимо этого, были еще часы. Он затруднился бы вразумительно объяснить, отчего привычные, ординарные атрибуты человеческой жизни вызывали в нем противоречивые и неоднозначные чувства. С одной стороны часы несли в себе сугубо практические, утилитарные признаки. Вместе с тем они ассоциировались и с глобальными, непостижимыми величинами – вечность, бесконечность. Часы представлялись ему таинственными посланниками высших сущностей, призванными помочь людям пройти земной путь. Драгоценные капельки-секунды наполняли глубокий сосуд жизни, образуя ручейки-часы. Эти в свою очередь формировали дни и ночи: реки-сутки. А последние – разливались уже вширь и глубину: озера-недели, моря-месяцы, океаны-годы. Этот древнейший механизм открывал перед человеком путь к постижению смысла его существования и роли в том мире, куда он приходит и который должен будет покинуть. Механизм работает как часы! Время отмеряется. Жизнь идет. Человек существует. Но что значат разбитые, сломанные часы? Механизм разрушен. Время остановилось. Жизнь погрузилась в хаос.
Привыкнуть к виду разбитых, сломанных часов Эдмону тоже было нелегко. В нем начинал пробуждаться подспудный страх, рождавший ощущение чего-то стылого, липкого и мерзко-студенистого. Правда, за время службы он научился его контролировать. Ко всему, интуитивно он чувствовал, природа страха подобного рода, его истоки – не результат колоссальных, эмоциональных перегрузок и напряжения, что связаны с его профессией. Этот страх родился вместе с ним, пришел с первым его криком, как отголосок прежних, прожитых им ранее жизней. Где бы ни бывал Лазорио за последние годы – будь то Мексика, Италия, Сальвадор, наткнувшись взглядом на часы с замершими стрелками, в первый момент он испытывал сильное волнение. Каждый раз перед его мысленным взором начинали возникать отрывочные, но ужасные картины нездешней – не этого века и времени реальности.
Мало того, в отрезок этого мимолетного оцепенения приходило чувство незавершенности происходящего. Что-то – инстинкт? внутренний голос? – упрямо твердили ему: он, Эдмон Лазорио – не сторонний наблюдатель, волею неведомых законов вторгшийся в чужую по времени реальность. Он – ее свидетель и участник. Однажды ему приходилось в ней существовать: задыхаться от боли, мучиться от бессилия, слепнуть от слез и даже умирать.
Впрочем, в его ощущениях – смутных, не обретших завершенную форму, присутствовала и надежда. Как тяжелый, прочный якорь, она удерживала сознание, не давая его разуму перейти опасную черту, за которой человека нередко ждет корабль-скиталец по океану безумия. Он искренне верил, что когда-нибудь в его жизни наступит момент и он найдет ответы на свои вопросы. Но и в самых смелых желаниях вряд ли мог предположить, что это наступит так скоро. Собственные часы Лазорио шли исправно и точно. Механизм работал. Время отмерялось. Жизнь продолжалась.
…Увидев подъехавшую машину скорой помощи, Эдмон и Марат поднялись. До того хмурые и уставшие, они сидели рядом, погруженные каждый в свои мысли. Теперь лица обоих оживились. К машине они приблизились, когда Софию, положив на носилки, уже собирались отправлять. Мимоходом Лазорио отметил, что даже искаженные страданием, черты лица девушки отличаются необыкновенной красотой. И так же, как у брата, на них лежит отсвет утонченности и благородства.
Встретившись с ней взглядом, он улыбнулся.
– Все будет хорошо, Софи, – проговорил на французском. Она ответила благодарной улыбкой:
– Я обязана вам жизнью. Возможно, мы больше не увидимся. Но хочу, чтобы вы знали. Отныне у вас есть сестра, – затем взглянула на Тиграна, державшего ее за руку, и добавила: – Сестра и брат, которые будут помнить о вас.
Брови Лазорио взметнулись вверх, в глазах возник неподдельный интерес. Она отвечала на французском языке, что приятно его удивило.
Не обратив внимания на его замешательство, София, оттянув книзу широкий ворот свитера, сняла с шеи массивную, золотую цепочку с подвеской, украшенной крупными бриллиантами. Даже человеку, не искушенному в тонкостях ювелирного искусства, и тому, сразу стало бы ясно, что вещь эта старинная и дорогая. Подвеска представляла собой голубя, несущего в клюве ветвь цветущего дерева.
Она протянула медальон Эдмону:
– Возьмите на память. Это принадлежало моей прабабушке. Согласно библейской легенде, голубь принес Ною оливковую ветвь. После чего он вместе с семьей покинул Ковчег. У голубя на подвеске – ветвь абрикоса. Это дерево по латыни звучит как Armenica. Оно схоже с именем моей родины. У вас опасная, тяжелая профессия. Пусть этот старинный медальон станет вашим талисманом. В трудный час вы пришли на помощь Армении. Отныне моя родина будет защищать вас.
– Да, да, берите! – подхватил и Тигран. К ним приблизился Кабю.
– В чем дело, Эдмон? – послышался рядом его неуверенный голос. – У тебя такой вид, будто… – он не договорил и умолк.
– Откуда это у вас? – обретая дар речи, хриплым от волнения голосом ошеломленно воскликнул Лазорио, обращаясь к Софии.
Девушка взглянула на него с недоумением.
– Он принадлежал моей прабабушке, – повторила она.
– Как ее звали? – потребовал Эдмон. Похоже, излишне резко. Но он чувствовал, что выдержка вот-вот изменит ему.
Пьер и Тигран обменялись встревоженными взглядами.
– Пожалуйста, назовите ее имя, – уже спокойнее и тише, почти ласково, попросил ее Лазорио.
– Анастасия Лазорян, урожденная Арзумовская.
– Что здесь происходит? – подошел к ним командир группы Жерар Жюли. – Девушку надо немедленно отправить в больницу. В чем причина задержки? – осведомился он.