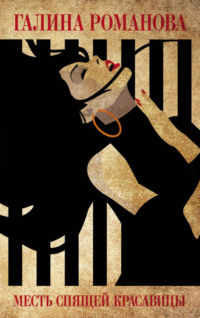Kitobni o'qish: «Месть Спящей красавицы»
© Романова Г.В., 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
Глава 1
Каждый их шаг отдавался в голове визгливым скрипом. Он никогда не думал, что снег может издавать такие отвратительные звуки. Всегда считал его беззвучным, невесомым, красивым. Это когда осторожно засыпало двор дома парящими в безветрии снежинками. А он из комнаты рассеянно наблюдал. Стоял у окна, кутаясь в теплую кофту отца, и наблюдал, как падает снег. И находил, что в этом хаотичном полете тоже есть свой порядок. И он безмолвен и красив.
В руках большая керамическая чашка отца с горячим сладким чаем, настоянным на смеси ароматных, непременно полезных – по мнению мамы – трав. Из кухни тянет творожной запеканкой с изюмом – мама затеяла. В доме тихо, тепло, хорошо. Можно думать о чем угодно. И мысли такие легкие, нежные, парящие, как снег за окном…
– И она стоит такая с сигаретой у окна, улыбается ему и говорит… Я умру не сегодня, представляешь?!
Вопрос, перекрывший мерзкий скрип под их подошвами, заставил его вздрогнуть. Настена поправила мелкую прядку волос, выскочившую из-под вязаной шапочки, ниже натянула ее, почти на самые глаза, и жалобно улыбнулась посиневшими от холода губами.
– Представляешь?!
– Кто представляет? Я? Или она?
– Ты, – она растерянно моргнула и остановилась. – Ты представляешь?
И он тут же наткнулся на нее и едва не упал. И сразу панически озверел. Ему… Им нельзя падать! Нельзя останавливаться! Остановка – это смерть!
– Чего встала? – заорал он не своим, хрипым от холода голосом. – Чего встала? Ну! Пошла, пошла!
– Саш… – ее мохнатые от инея ресницы задрожали. Синие губы пошли ломаной линией. – Саш, не ори на меня, ладно?
А он бы больше и не смог. Он забыл на краткий миг, что ему не только нельзя останавливаться. Ему и на Настю смотреть нельзя. Потому что он тут же начинал задыхаться от жалости. От понимания того, что это он, он во всем виноват! В их несчастном жалком положении. В том, что у него поломался снегоход и они вторые сутки бредут по кромке леса, пытаясь выйти к людям, и, кажется, заблудились. В том, что она промерзла до костей, и вымоталась, и, похоже, потеряла всякую надежду.
– Не буду, – еле выдавил он. Задышал часто. И спросил: – И что дальше-то было?
– Где?
Настя тоже дышала часто. От обиды? И от обиды, конечно. Но больше от усталости и страха. Ей было страшно, очень. Он это видел. Она боялась, что они не дойдут до стойбища оленеводов. А оно должно быть уже где-то близко. И он обещал ей, что они обязательно дойдут.
Боялась диких зверей, хотя они за два дня, что шли, так ни разу никакого зверья и не встретили. И даже ночами, когда жгли костер и тесно жались друг к другу, боясь засыпать, к ним никто не вышел из чащи. И слава богу!
Боялась, что больше никогда не увидит своего отца, а она его очень любила. И всегда ставила его Саше в пример. И это его немного бесило. Не у нее одной, слышь, были такие образцово-показательные отцы, любящие своих детей всем сердцем! Просто ее отец был жив, а Сашин погиб на охоте. Пять лет назад погиб. При загадочных, как мама утверждала, обстоятельствах. В полиции, правда, в его гибели ничего загадочного не увидели.
Был на охоте с другом? Замечательно! Зачем было разделяться? Зачем один пошел в одну сторону, а второй в другую? Не знали, как потом добычу станут делить? Упал Сашин отец с какой-то высоты? Упал! Заключение экспертов о ссадинах и множественных ушибах имеется. А также порванная одежда. Ногу сломал? Да! Дойти не смог? Тоже да. Вот вам и причины его гибели. Где же тут загадка?!
Но мама в такую нелепость верить отказывалась. Утверждала, что упасть отец с какой-то там высоты не смог бы, толкай его! Он эти сопки знал как свои пять пальцев! Он каждого зверя знал в морду. Он…
Внутри все вдруг сжалось от дикого страха за мать. Как же она?! Как же она сможет пережить, если и с ним подобная беда приключится? Если и его найдут скорчившимся и замерзшим под еловыми лапами, как нашли его отца?! Что станет с ней?
А Настя! Она…
– Чего замолчала, малышка?
Саша раздвинул губы, пытаясь улыбнуться, хотя было очень больно это делать. Рот обветрил и саднил.
– Что? – Настя неуверенно сделала шаг вперед.
– Ты рассказывала мне историю про какую-то женщину, которая стояла у окна и говорила, что умрет не сегодня. Ну!
– Неудачная история. – Ее замерзшее лицо, казавшееся почти прозрачным, сделалось хмурым. – Она плохо закончилась.
– И все же?
Они должны были разговаривать, хотя это и отнимало силы. Если замолчат, то все. Это почти то же самое, что остановиться!
– Она умерла в тот же миг. – Настя протяжно вздохнула, будто всхлипнула. – У нее под окном что-то такое было с газовой трубой. И там велись работы. Ее попросили не курить. А она крутую из себя корчила. Стояла и пепел за окно стряхивала. Ей раз замечание сделали. Два. А она такая: я умру не сегодня. И снова пепел стряхнула. И как бабахнет! И ее потом с потолка соскребали… Саш…
– Что?
Он нахмурился. История и правда была так себе. И чего это Настя ее вспомнила?
– Саш, мы тоже, да?
И она снова остановилась. Спина прогнулась дугой и дрогнула. Она собиралась зареветь. А он панически боялся женских слез! Ничего так не боялся, как слез женщин. Даже волк когда из чащи вышел на его тропу, а отец где-то отстал метров на тридцать, Саша так не испугался. А вот когда плакали женщины, и особенно Настя…
– Настя! Настя, прекрати немедленно! – хрипло заорал он и пошел на нее. Быстро, как ему казалось. Странно замедленным казался скрежещущий скрип под ногами. Странно замедленным. Он дошел до нее, обхватил сзади, прижал ее спину к своей груди. С силой, которая еще осталась, прижал. И зашептал: – Не смей! Не смей сдаваться, слышишь! Пока мы идем, дышим, мы живы!
– Нас не ищут? Почему нас не ищут, Саня?! Мы идем по самой кромке, тут и снега мало, и деревьев. Нас же видно с воздуха! У меня яркая курточка и штаны. Почему?! Мы… Мы никому не нужны, да?!
Она завозилась в его руках, разворачиваясь к нему лицом. Глянула мокрыми от слез глазами. Тоскливо глянула, нехорошо, без надежды. Совсем худо!
– Девочка моя, ну что ты такое говоришь, а? Нас ищут! Непременно найдут! И даже если и не найдут, то мы сами…
Его голос вдруг сделался глубоким, гортанным, как у мастера горлового пения. Он присутствовал однажды на празднике у оленеводов, слышал. Понравилось. Никогда не думал, что сможет повторить. И вдруг вышло.
– Что мы сами?
Кончик ее носика – острый, холодный, как льдинка, уперся ему в щеку.
– Мы сами спасемся, Настюша! Мы дойдем до стойбища. Оно совсем рядом! Мне даже кажется, что я чувствую запах дыма.
– Это мы с тобой пропахли, Сашка, – прошептала она и тронула его щеку губами, обветренными, шершавыми. – У нас почти не осталось газа в зажигалке. Почти не осталось.
– Но ведь осталось же, малыш! На сегодняшний костер нам хватит. А завтра мы уже выйдем к стойбищу! И у нас с тобой еще – о-го-го – целая пачка печенья! Живем! – Он теснее прижал ее к себе, задышал ей в лицо, пытаясь отогреть щечки. – Все будет хорошо, слышишь? Верь мне! Мы спасемся!
– Да. Я верю.
Она зажмурилась и странно блаженно улыбнулась. И вдруг обмякла в его руках и начала оседать.
– Настя! Настя, нет! Не надо, держись! Я прошу тебя! Нужно идти, девочка! Стой!!!
Она слышала его заполошный крик как сквозь вату. Вернее, как будто бы она закрыла голову подушкой, при этом кутаясь в пуховое одеяло, как в кокон. Было тепло, почти жарко и душно, но отчаянно не хотелось из этого кокона вылезать. И звуки, жившие поверх толстой большущей подушки, казались глухими и непонятными. И не разобрать было, кто на кого кричит: отец на Свету, или Света на отца? И совсем казалось неважным, кого они обвиняют в своих семейных непонятках. Либо работа отца виновата, либо Светкина придирчивость. Либо то и другое, вместе взятое. Когда подушка запаздывала падать ей на голову, то Насте доводилось слышать обвинения и в свой адрес. Орала все больше Светка, обвиняя Настю…
Подушка благополучно глушила то, чем конкретно Настя ей не угодила. И звуков бьющейся посуды не бывало слышно. А осколки наутро в мусорном ведре находились. Странно…
Сейчас, она это отчетливо понимала, спасительной подушки не было. Но Сашка орал все равно невнятно. Ее мотало из стороны в сторону. Какая-то грубая посторонняя сила. Но больно не было, нет! Было хорошо, покойно. И вдруг тепло. Да, стало так тепло, так славно. Она словно очутилась в ванне, полной горячей воды. Поверх плавали мохнатые хлопья душистой пены. Светкина блажь! Она кучу денег тратила на эту пену, выписывая ее по каталогу из Франции. А зачем? Вся эта пена потом клочьями повисала на кафеле, и Насте приходилось ее смывать. Почему Насте? Потому что Светка не считала нужным, или могла умчаться из дома, вовсе забыв слить воду. Настя сердилась и, невзирая на запрет, нарочно лила ее дорогую французскую жижу себе в ванну. И не находила в этом ничего особенного. Никогда.
Но сейчас…
Плотная ароматная пена обволакивала ее тело, она согревала ее, убаюкивала. Ум-мм, блаженство! Не нужно было заставлять себя идти все время вперед. Не нужно было считать шаги, дающиеся с каждой минутой все труднее и труднее. Не нужно было проклинать унты, сделавшиеся почти неподъемными. Можно было просто лежать в горячей воде, прятать лицо в ароматной пене и слушать Сашкино дыхание: судорожное, обжигающее. И улыбаться его словам: нежным, славным, обещающим. И она даже поверила на какой-то миг, что все будет у них хорошо. Их спасут, они всю жизнь проведут вместе и будут безгранично счастливы, до тех пор, пока плотная черная масса небытия не поглотит их. Плотная черная масса, надвигающаяся все стремительнее и стремительнее, давящая на грудь, плечи, ноги, забивающая нос, мешающая дышать.
Ну вот и все, озарило ее как вспышкой молнии, это и есть конец всему…
Глава 2
Город, в который он приехал, не был крохотной точкой на карте. Его там вообще не было. Он так подозревал. И провинциальным этот городок назвать было невозможно. В провинциальном, по его разумению, проживало тысяч тридцать человек, никак не меньше. Там должны были быть какие-то фабрики или хотя бы один, но крупный завод. Школы, больницы, детские сады. Магазины, аптеки и отдел полиции, куда он был направлен после окончания школы полиции. А тут что?
Ни заводов, ни фабрик, ни школ, ни больниц. Все это существовало, но за границами этого захолустья, гордо именующего себя городом! Весь живущий тут народ – все пять с половиной тысяч – ездил за тридцать верст в школы и больницы, на фабрики и заводы. На все захолустье имелось три магазина, четко расположенных на равной удаленности друг от друга. А отдел полиции…
Саша Говоров с тоской осмотрел одноэтажное здание, выкрашенное в мрачный фиолетовый цвет. Пыльные окна за решетками, щербатое бетонное крыльцо, подтекающий в дождь козырек над железной дверью. Тщательно выметенный, укатанный в асфальт дворик с двумя служебными автомобилями. С десяток чахлых деревьев неизвестной Саше породы. Внутри здания пять кабинетов. Начальника, заместителя, участковых, инспектора, выдающего лицензии на право ношения оружия, и кабинет сотрудников уголовного розыска.
В последнем разместился он. Один! И вообще в каждом кабинете было по одному сотруднику. Хотя штатное расписание и предполагало еще двух участковых и еще парочку коллег в помощь Саше. Не было! Не было больше никого. Никто не шел работать в этот отдел, потому что никто не ехал в этот, с позволения сказать, город!
А он вот приехал. Не по своему желанию, конечно. По приказу. Или по чьей-то злой воле. Ему сразу выделили кабинет с пыльным столом и полками. Сводили в подвал, где размещался сейф с оружием. Показали в торце длинного, как кишка, коридора камеру предварительного заключения с толстыми стенами, толстой железной дверью и без окна.
– Круто! – качнул он тогда головой и подергал дверь, та не шелохнулась. – Отсюда не сбежишь!
– Укрепили, – подмигнул ему замначальника. – Пришлось. Два года назад был побег, был…
Кто отсюда мог бежать и почему попался, Саше оставалось только догадываться, поскольку ничего, кроме протоколов о пьяных дебошах приезжих строителей, ремонтирующих мост, в подшивках с делами не нашел. Ничего! Получалось, что в этом странном городе никто ничего не крал, никто никого не оскорблял. И, тьфу-тьфу, никто никого не убивал никогда.
– Странное место! – пожаловался он тем же вечером коту Спиридону, прибившемуся к его холостяцкому жилью в первый же день. – Странное, таких не бывает, Спиря!
Кот, сжавшийся в комок возле Сашиных форменных ботинок, глянул на него и тут же зажмурился.
– Может, ты что-то знаешь, а, Спиридон? Может, что-то такое, о чем мне тоже надобно знать?
Саша застыл с ложкой у рта, с которой свисала длинная нитка домашней лапши, приготовленной соседкой.
Та сразу навязала Саше свои услуги по ведению хозяйства и отказа слышать не хотела.
– Возьму недорого! – отрезала она. – Не обедняешь! Тебе все равно тут тратить некуда. Да и один ты…
Но у него вдруг сразу появился кот Спиридон. Не вошел, ввалился в его тесную деревенскую избу с улицы – тощий, лохматый, с неправильно сросшимся хвостом, сломанным, видимо, в какой-то драке. Все обошел, обнюхал и сразу расположился возле Сашиных ботинок. Сжался в комок и зажмурился. Будто всем своим видом давая понять: все, я тут жить теперь стану. И никаких возражений быть не должно.
Саша спорить не стал. Он еще по соседке понял: спорить с местными жителями бесполезно. И зажили они с котом Спиридоном, как в той сказке: тихо, мирно, без проблем. Утром кот, позавтракав вместе с хозяином, провожал его на работу до покосившейся калитки. В обед, а Саша обедал дома, благо идти было недалеко, и вечером встречал его. Доводил его до кухонного стола, где уже заботливой соседкой все было накрыто. Ключи она у него затребовала сразу.
– Стану я твоих выходных ждать, чтобы избу вымести, как же!
Саша не спорил. Вручил ей вторые ключи, и так обнаглел к третьему месяцу своего пребывания в этом захолустном городишке, что даже перестал убирать и мыть за собой посуду. Знал, Марина Ивановна все приберет и вымоет.
– Небось не останешься у нас насовсем-то? – спросила она как-то, протирая огромное старинное зеркало в единственной Сашиной комнате, где кроме зеркала и шкафа со столом уместился еще и широченный диван, на котором он спал.
– В смысле? – он читал что-то в компьютере и почти ее не слушал.
– Ты же тут на год? На два?
Марина Ивановна обернулась на него от зеркала, в котором сквозь мутные разводы отражалась ее громоздкая нескладная фигура, облаченная в синий рабочий халат.
– Я? – Саша почесал макушку, вздохнул. – Надеюсь, что на год.
– Вот-вот. А потом куда?
А потом он надеялся вернуться в свой родной город, из которого удрал сначала в армию, а потом, не возвращаясь, сразу поступил в школу полиции.
– В Москву небось?
– Почему в Москву?
Он нетерпеливо скосил взгляд на монитор. Там было интересно, а Марина Ивановна его отвлекала.
– Вы все в Москву рветесь! – вздохнула она и снова принялась возить тряпкой по старому зеркалу. – И сын мой туда смылся, как только школу окончил. И невеста его следом за ним. Одна я тут. Внук приезжает раз в пять лет. Что это?! Хорошо, что хоть фирма у него своя там, у сына-то. Невестка дома сидит. Кобыла… Внук молодец! Досрочно школу окончил и сразу на второй курс университета математического поступил. Голова… Жду к зиме на каникулы. Ой как жду! Уже тушенки ведро наварила, законсервировала.
Саша невольно покосился. Спрашивать у Марины Ивановны, из чего та готовит тушенку, постеснялся. Ясно из чего! Из чего и все! Из мяса, добытого браконьерами. Их тут пруд пруди. Валят подряд без разбора: лося, кабана, косулю. И потом продают своим. Участковому и начальнику, конечно, за так отдают долю.
Для него это было не ново. На его родине жили так же. Потому что надо было как-то выживать местным.
Как-то… Выживать…
Это слово он ненавидел. Оно всегда будоражило в нем воспоминания. Болезненные, мутные, отдающие свирепым холодом и чудовищным скрипом снега под ногами.
Он-то выжил, а Настя нет! И мать его не выжила. Сначала слегла от переживаний, что Саню затаскали по следователям, подозревая в убийстве Насти. Потом, когда он решил не возвращаться из армии и поступать, и вовсе затосковала, и померла.
А он, сволочь такая, выжил! А Настя и мать нет!..
– Тушенки-то страсть сколько скопилось. Тебе-то некому послать домой? Я бы продала по дешевке, – пробился сквозь болезненный туман в голове монотонный голос Марины Ивановны. – Некому послать-то?
– Некому, – хрипло отозвался Саша и сгорбился за столом. – У меня никого нет.
– А что так? – изумленно всплеснула Марина Ивановна руками, развернула тряпку, отыскивая место посуше, и снова принялась мотать ею по зеркалу. – Ты глянь какой пригожий у нас! Али девонька не нашлась?
– Девонька не нашлась… – прошептал он и зажмурился.
Черт бы побрал эту Марину Ивановну с ее болтовней! Он запретил себе думать о том дне, когда его нашли оленеводы. Едва живого. Одного. Он запретил себе думать об этом. И не думал. Просто жил. Ел, спал, дышал, говорил, иногда улыбался. Правда, редко. Но о том дне не вспоминал. Потому что было больно, потому что было страшно. Потому что невозможно было представить, что сделали с Настей дикие звери, если это, конечно, они утащили ее из их укрытия той последней ночью, которую они провели в сопках. А не она сама ушла куда-то и сгинула. Провалилась в глубокую яму и замерзла.
– Девонька не нашлась, – именно так шептали ему в спину, когда он шел по улице в своем городе. – Он вон, жеребец, что ему! А девонька так и не нашлась…
Этот шепот рвал ему душу в клочья. Колол острыми иглами в сердце, в мозг, в каждую клетку. Он возвращался домой и выл, корчась в постели. Рвал зубами кожу на ладонях в кровь и выл. Несколько шрамов так и осталось. Мать всерьез опасалась, что он сойдет с ума. Да только сама сошла в могилу.
А девонька так и не нашлась. Ни следа, ни намека на след. Ни клочка одежды, а на ней в тот раз был лыжный пуховый костюмчик. Яркий, нарядный. Светка, жена Настиного отца, заказала себе по каталогу откуда-то из-за границы, да не влезла в него. Нехотя отдала Насте. И она его на лыжне и катке не трепала, надевала по редким случаям. В тот день случай был особенный. Они собрались на день рождения к Сашиному другу в соседний район. На Сашином снегоходе. Настя и нарядилась. Правда, Саша заставил ее обуть унты, заставил снять нарядные сапожки.
– На первом километре окочуришься, – проворчал он, сел перед ней на коленки и расстегнул молнию на сапожках. – Давай, малышка, не упрямься.
– И что я там, по городу, в унтах гулять буду? – Настя надула губы, но переобуть себя позволила.
– День рождения в доме. Туфельки ты с собой взяла, платьишко тоже. Переоденешься, – он пощекотал ее ступни в шерстяных носочках и втиснул в оленьи теплые унты. – Так-то лучше…
Ее пакетик с платьицем, туфельками и тонкими колготками был потом найден вместе со снегоходом. Сломавшимся снегоходом. В тридцати километрах от того места, где нашли едва живого Сашу.
Они прошли с Настей тридцать километров. И не дошли до стойбища оленеводов всего чуть-чуть. Всего два с половиной километра. Они бы непременно дошли, но Настя…
Она обессилела, она сломалась. Она остановилась, а останавливаться было нельзя. И все, конец.
– Зачем ты повел ее в ту сторону, урод? – брызгал потом слюной Саше в лицо Настин отец. – Зачем ты повел ее в ту сторону? Город же, в который вы собирались, совсем в другой стороне!
Это так. Они просто заблудились. И ушли в другую сторону. И их там не искали. Спасатели, охотники, волонтеры прочесывали сопки в направлении соседнего районного центра. И вертолет там же летал. А они в это время замерзали. В двух с половиной километрах от оленеводов. И просто чудом оказалось то, что одному из них выпала блажь в тот день поохотиться. И его собака наткнулась на Сашу. И он остался жив.
А девонька так и не нашлась. Передислоцированные в другом направлении спасатели ее не нашли. И охотники тоже. Ни единого следа. Ни клочка одежды. Настя просто сгинула.
Но Саша узнал об этом почти через неделю. Когда немного оправился от болезни, вызванной переохлаждением. И это было еще ужаснее, чем ярость Настиного отца, чем впоследствии болезнь матери.
– Насти нет с нами, и больше никогда не будет…
Эти слова долгое время снились ему, и он просыпался с криком в холодном поту. Каждый новый сон бывал разным, и люди в нем бывали разными, и события. Но слова, которыми обрывался его сон, всегда оставались одними и теми же.
– Слышь, лейтенант Говоров, – откачнулась от зеркала Марина Ивановна, прищурилась, – принимай работу, что ли.
– Все отлично, спасибо, – он улыбнулся.
Марина Ивановна как только его не величала.
– Вот и ладно.
Она побросала тряпки, стеклоочиститель, мокрую губку в ведро. Подхватила его и вразвалку двинулась к двери. Нелюбезно отодвинула ногой, обутой в старую растоптанную туфлю, Спиридона. Тот со вздохом подался в сторону.
– Саня, ты не кручинься, – вдруг проговорила Марина Ивановна, хватаясь за дверную ручку. – Все будет у тебя хорошо в жизни, поверь.
– Спасибо, – он кивнул, попутно подмигнув обиженному коту. – Будем надеяться.
– Надейся! Непременно надейся! – выпалила она и шагнула за порог. – Хорошим людям непременно везти должно. А ты хороший парень. Кишками чую, что хороший. Все будет хорошо, верь мне… Повезет тебе… И твоя девонька найдет тебя…
Он вздрогнул и побледнел то ли от ее слов, то ли от того, с какой силой Марина Ивановна шарахнула дверью. Уставился на эту дубовую дверь, выкрашенную охрой, за которой пожилая женщина только что скрылась. И едва сдержался, чтобы не заорать ей вслед.
Что вот она, а?! Что вот она только что сказала? Зачем? Что нервы-то ему мотает, старая карга?
Он захлопнул крышку ноутбука, уставился за окно, мимо которого старой ладьей проплыла Марина Ивановна. Крупное тело, большая голова, или просто казалась большой из-за пышной седой шевелюры. Острый нос и тонкие губы. В городке ее побаивались и не любили. И участковый, тщательно подбирая слова в разговоре с Саней, посоветовал быть с ней поосторожнее.
– А что такое?
– Да болтают о ней всякое.
Участковый Валера, молодой, неглупый, крепкий малый, строивший себе где-то на окраине дом и собирающийся вот-вот обзавестись ребенком, вдруг трусливо вжал голову в плечи и суеверно перекрестился.
– Болтают, что она на черную мессу в соседний город ездит время от времени!
– Куда-куда? – вытаращился Саша и через мгновение фыркнул. – Ты это… Валер, думай, когда повторяешь за бабами всякий вздор!
– Не веришь? – Валера обиженно поджал губы. – А зря! Я вот лично… Я вот лично ничего не боюсь! В рукопашную на медведя пойду. А этой вот хрени всякой демонической не переношу. Знаешь почему?
– И почему?
– Потому что нет этому никакого объяснения! Никто не взялся объяснить, ни один ученый. Мямлят только и головами качают. А объяснить – хрена!
Саша Говоров вырос в тех местах, где у каждого охотника был свой бог и свой дьявол. Видел и слышал шаманский бубен. И странным пением их был пленен и очарован. Но не более. Ни разу не видел он чудес. Ни разу они не случились. И сколько ни бил в свой бубен один из местных шаманов, пытаясь пробудить дух Насти и спросить у нее, как она погибла, ничего у него не вышло.
– Не вижу ее в мире мертвых, – выпалил запыхавшийся в своем изнуряющем танце шаман. – Не вижу…
– Она ничего мне плохого не сделала, Валера, – ответил Саша в ответ на предостережения участкового. – И крест православный она носит. Какие черные мессы? О чем ты?
– Ну не знаю, – заявление коллеги о кресте на груди ведьмы его озадачило. – Болтают всякое…
Честно? Он сейчас был готов догнать эту неуклюжую большую женщину в синем рабочем халате, упасть перед ней на колени и заставить отслужить эту чертову мессу, хотя бы для того, чтобы узнать – что стало с бедной Настей? Что?