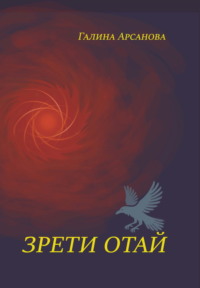Kitobni o'qish: «Зрети отай»

Научно-фантастический, исторический роман.

© Оформление. ООО «Издательство Перо», 2025
© Галина Арсанова, 2025
© Галина Арсанова, дизайн обложки, текста, 2025
НИИ ИЮИ
В Москве на последнем этаже здания НИИ ИЮИ, что расшифровывается как Научно-исследовательский Институт Истории Ювелирного Искусства, шло заседание. В повестке дня был один вопрос:
История золотого ожерелья с каменьями, названного на древнерусском языке «Зрети отай», что в переводе значит «смотреть тайное» или «видит тайное».
Только однажды эта драгоценность «засветилась» в описи, сделанной дьяком Емелей при царе Борисе Годунове*. И всё!
Было указано, что оно золотое, «зело тяжело» и имеет девять камней.
Откуда появилось?
Куда делось?
В двадцатые годы уже двадцатого века, когда большевистское правительство в нарушение Указа Императора Петра I о неприкосновенности коронных ценностей* начало их распродавать, его не продавали (это точно!), но и в наличии нет.
Великий знаток минералов Александр Евгеньевич Ферсман*, бывший экспертом на той позорной распродаже, не мог бы его не отметить.
Что значит такое странное название?
Как оно выглядит?
На заседание были приглашены самые разные исследователи, могущие хоть что-то узнать про него даже и случайно, попутно в связи с другими своими изысканиями. Соответствующие запросы были адресованы многим специалистам еще год тому назад. Сегодня заинтересованный учёный люд из разных ведомств собрался, чтобы рассказать и послушать, что удалось найти в разных источниках.
Была и еще одна причина, с которой всё, собственно, и закрутилось. Год тому назад к нашему Правительству с письмом обратилось Правительство Перу.
Учёные Университета Сан Маркоса в Лиме просили проинформировать их: не имеет ли Россия хоть каких-нибудь сведений о легендарном ожерелье инков, которое было похищено испанцами во времена Конкисты* и сложными путями могло попасть в Россию?
«Мы ищем его везде», говорилось в письме, и «готовы выкупить за сумму, которую укажет его современный владелец».
В письме давалось его описание и условное название, которое наши перевели как «Всё прозреваю».
Учёные потому и учёные. Сопоставив информацию из Лимы со списком дьяка Емели они не без основания предположили, что речь идёт об одной и той же вещи.
Значит вещь всё-таки была! Некое ожерелье, названное «Зрети отай», или «Всё прозреваю», или «Видит тайное», или «Смотреть тайное».
А может и есть.
Стало быть, надежда его найти или хотя бы проследить его путь – имеется.
На данном этапе задача сводилась к сбору любой информации.
Первым на заседании выступил заведующий отделом НИИ ИЮИ, доктор исторических наук Федотов Андрей Васильевич.
Он начал, как это водится у учёных, издалека, с рассказа о шаманизме, как явлении, и о шаманах индейцев Южной Америки с оглашением данных из письма, присланного специалистами Университета Сан Маркоса.
– Племена различных континентов имели и имеют поныне своих шаманов, – начал он. – То есть шаманизм, как явление, достаточно распространён. Соплеменники чтят своих шаманов, преклоняются перед ними, идут к ним за помощью, однако их боятся. Как не убояться того, кто может общаться с духами, с умершими, с живыми на большом расстоянии, превращаться в животных, птиц и даже в их кровь, видеть болезнь человека и её причину, вылечивать и убивать, не притрагиваясь, кто узнаёт прошлое и прозревает будущее? Именно так представлялись их возможности.
Андрей Васильевич был осторожен в выражениях. Он-то знал, что материалистическое мировоззрение всего этого не допускает и быть этого не может.
– И что? В это всё можно верить? – встрял Анатолий Солёный, собирающийся поступить в аспирантуру Института и оказавшийся здесь случайно.
– Видите ли, молодой человек, – откликнулся Андрей Васильевич. – То, что теперь знаем мы, ничего не значит для инков, как и их вера для нас – не более, чем исторический факт.
– Нет, нет, постойте! – оживилась Серафима Семеновна, секретарь парторганизации НИИ, въедливая такая, сухонькая дама. – Я хочу понять: могут они всё это или нет? Как на самом-то деле?
– Кабы знать… – прогудел низкий неопознанный голос из зала.
– Нет, нет! – не унималась Серафима Семеновна. – Пусть наука скажет своё веское слово. Советские трудящиеся должны быть правильно ориентированы!
– Товарищи! Тише! – повысил голос председательствующий. – И ближе к теме, пожалуйста. А то мы так до ночи не уйдём. Пожалуйста, Андрей Васильевич, продолжайте.
– Шаманы – очень значимы в жизни инков. Шаманами были некоторые Главные Инки. Для одного из них, жившего в незапамятные времена еще до правления Манко Капак, – он произнёс это имя так, словно каждый знал его не менее, чем имя Пеле, – было изготовлено сложное многозвенное ожерелье из девяти крупных магических камней, подобранных и расположенных в специальном порядке и сочетании, что определяет, по вере инков, качество магической силы всего ожерелья.
Собственное имя этого атрибута шаманских практик в истории не сохранилось, тем более, что произносить его вслух было запрещено. Однако известно, что на каком-то древнем наречии инков оно означало что-то вроде «Вижу сквозь».
– Вот бы сфотографироваться в нём! – тихо и мечтательно пролепетала секретарша директора Танечка. Она вела протокол. А Танечка знала толк в красоте драгоценных камней, как обработанных, так и натуральных. В узких кругах она была известна как «витрина НИИ ПЮИ».
На неё цыкнули.
– Продолжайте, пожалуйста.
Андрей Васильевич взглянул на очаровательную секретаршу.
– И не мечтайте! Просто человеку небезопасно даже дотрагиваться до такого ожерелья, не то чтоб примерить или поносить. Так они говорят! – улыбнулся Андрей Васильевич в сторону Серафимы Семеновны.
Аудитория, наконец, прониклась важностью информации и притихла.
– Девять редких и уникальных по качествам самоцветов входило в это ожерелье, – продолжал Андрей Васильевич. – Центральным был священный камень инков, называемый Роза Инков. Современные минералоги называют его Родохрозитом. Почти прозрачный, густого цвета спелой вишни.
Выше по цепи, по четыре справа и слева, шли два ряда уникальных по красоте камней.
Верхний слева – Обсидиан. Почти черный, полупрозрачный на краях, вулканического происхождения.
Под ним переливался коричнево-желтым Тигровый глаз.
Ниже темнел синий с фиолетовым отливом Лазурит и ещё ниже – совершенно прозрачный желтозолотистый Цитрин.
Ряд справа начинался с Горного хрусталя цвета родниковой воды, за которым следовал вспыхивающий изнутри сине-голубыми искорками черный Лабрадор, или Лунный камень. Под ним сверкал желтый полупрозрачный Пренит с включениями иголочек Рутила, и, наконец, – серо-стальной Гематит, который называют Кровавиком за цвет его порошка.
Восьмерка магических камней имела округлую не вполне правильную форму и была значительно меньшей по размеру, чем центральная Роза Инков.
Держащие камни золотые лапки были выполнены в форме орлиных когтей. Сама цепь состояла из крупных перекрученных золотых звеньев.
– А фото есть? – подал голос штатный институтский фотограф Леонид.
– Фото?! Какое фото?! Оно ж пропало в шестнадцатом веке!
– А-а-а… Извините.
Ожерелье покоилось в удлиненной округлой коробке из почти черного и очень твёрдого дерева. На её дне имелись углубления под камни, проложенные пробкой. Коробка закрывалась крышкой с секретным запором. На внешней стороне крышки тоже в углублениях поблескивали три золотых магических знака.
До прихода европейцев всё это великолепие хранилось в специальном помещении, около которого всегда стоял караул.
Караул был убит испанцами в годы Конкисты, и святыня инков пропала из поля зрения его народа на столетия.
Но, как говорят их шаманы: «Время пришло»!
Инки ищут свою святыню для какого-то важного дела и уверены, что найдут и сделают, что завещано, ибо так предсказано свыше.
– Я окончил. Спасибо! – и Андрей Васильевич опустился в своё кресло.
Искать через столько столетий?!
Почему в России?
И что это за дело такое?
Вопросы, естественно, повисли в воздухе.
Следующим было сообщение историка по древним актам Павла Петровича Кута. Чуть послушав его, аудитория, наконец, смекнула: так вот при чём тут Россия!
Павел Петрович начал тоже издалека.
– Еще в середине 16 века, а точнее в 1553 году, собираясь отыскать кратчайший северный путь в Китай, англичанин сэр Хью Уиллоуби* со спутниками оказался в нашем Белом море, – затрещал он так, будто сыпали горох. – Англичане шли на трёх кораблях. Два из них вместе с самим Уиллоуби были затёрты льдами и погибли. Но одному кораблю, которым управлял главный кормчий Ричард Ченслер (видно, хороший был мореход!), всё-таки удалось добраться до места, где сейчас стоит Архангельск. Еще через месяц, уже посуху, англичане дошли до Москвы и договорились с царствующим Иваном IV Грозном* о посольской встрече.
Так впервые стали налаживаться дипломатические отношения между Россией и Англией, – выдохнул Павел Петрович.
– Вообще-то не впервые, – тут же поправился он. – Известно, что еще Владимир Мономах* (а это 11–12 век) был женат на английской принцессе Гите Уэссекской*. Однако с Ордынским* нашествием об этом крепко забыли.
Англичанам, свалившимся с севера, Царь удивился, но появлению новых купцов обрадовался. Он даже разрешил им беспошлинную торговлю на своей Земле. Однако, когда сам он во времена Ливонской войны* (1558–1583) попросил Елизавету Английскую* продать ему пушки и ядра, то желаемого не получил. И когда начал свататься в 1582 году к племяннице королевы Марии Гастингс*, то получил отказ.
Царь обиделся, более того – рассвирепел и написал Елизавете очень сердитое письмо.
Нелицеприятные царские выражения Елизавету не особенно смутили, но ей никак нельзя было лишиться беспошлинной торговли в русских землях, транзитной торговли через Россию, равно как и вывоза оттуда леса, хлеба и пушнины.
Чтобы загладить ситуацию, хитрая Елизавета усмирила царский гнев ласковым ответным посланием. И вот здесь… – Павел Петрович поднял указательный палец. – она вполне могла присовокупить в качестве посольских подарков кое-что из драгоценностей, полученных от королевских корсаров*. Как раз в это время самый удачливый из них Френсис Дрейк* бросил к ногам Английской короны добычу, почти в два раза превышавшую годовой доход её казны!
Неслабо?!? Вдумайтесь только! Почти в два раза большей, чем годовой доход страны!
Это было испанское, вернее – американское, а точнее – индейское, дважды краденное золото! Судя по всему, ожерелье, которое в Посольском приказе нарекли «Зрети отай», было среди этих подношений.
Другого золота у Елизаветы просто не было! Тогда у неё были только долги.
Значит, до России оно-таки дошло!
Но как, куда и когда пропало? Вот вопрос.
Можно предположить, что исчезло оно не при Федоре Иоанновиче*, правившем после своего отца Ивана IV, и не при Борисе Годунове, царском шурине, который правил после.
В те времена на Руси порядок еще всё-таки был.
Скорее всего что-то с ним случилось в Смутное время* уже после смерти Бориса Годунова, когда не то, что ожерелье – страну чуть не потеряли.
На этом Павел Петрович свое выступление закончил.
Больше никто ничего по существу вопроса добавить не мог, хотя разговор продолжался, был еще долгим, заинтересованным и громким.
Итак, ожерелье Зрети отай – вещь вполне реальная, но его след обрывался и порадовать Лиму пока было нечем, что и отписали в ответном послании с выражением максимального сожаления. Но обнадёжили: Будем искать!

Шаман Канги
Как искать в России, никто не знал. Надеялись на случай и, как всегда, не очень спешили. Но инки знали.
Не потому, что полиция Перу работает лучше российской. Думали, соображали и решали, что делать, их шаманы, а шаманы инков – высочайшие специалисты в своём деле, чтобы о них не думали в стране победившего социализма.
Более того. Шаманы инков, как они говорят, получили знак свыше: «Время пришло!»
Веками мудрейшие и старейшие из них бережно накапливали, сохраняли и передавали через поколения крупицы информации о месте нахождения Зрети отай, если таковые удавалось кому-либо из них получить. В особые дни на восходе солнца сильнейшие из самых сильных шаманов, а их было три, мысленно объединялись в «Солнечный круг». Путешествуя во времени и пространстве, они ловили вибрации своей святыни. Она была (была! – это они чувствовали!) у них под ногами с другой стороны планеты, но масса Земли глушила и искажала её голос, что сильно осложняло прогнозы. Тогда они решили: хотя бы один из них должен поехать туда, на ту сторону Земли.
Кто?
Три сильнейших шамана были уже так стары, что о перемещении в реальном пространстве нечего было и думать. Сделать это никто из них не сможет.
Поразмышляв, они решили найти среди коренных инков молодого мальчика или девочку, которые родились со способностями к шаманизму, и общими усилиями сделать его настоящим шаманом. До того ему надо будет получить высшее светское образование и знание двух-трёх европейских языков.
Быстро, конечно, не подготовить. Но как иначе? Дольше ждали. А теперь «Время пришло!»
И они «пошли в народ» искать такого человека. На самом деле они остались там, где жили. Шаманским чутьем на расстоянии они стали перебирать и изучать детей, каждый на своём участке, временами прибегая к помощи других шаманов этой местности.
Помощь главной шаманской троице для всех других шаманов считалась праведным и обязательным делом. Слишком много стояло на карте. Никакой конкуренции и взаимной вражды! Объединились все!
Продвигаясь таким образом, они выявили трёх перспективных мальчиков восьми, шестнадцати и восемнадцати лет. Было не очень понятно, как будут развиваться их шаманские способности во времени и каковы они сами по натуре? Времени на детальное обследование не хватало.
Однако уже через пару месяцев старым шаманом стало понятно, что самый маленький слишком ленив, а его магические возможности делают его еще более ленивым. Его будет трудно и главное – долго перевоспитывать.
Средний туповат к языкам и не слишком артистичен. С этим уже ничего не поделаешь.
Наиболее подходящим оказался старший. Его звали Канги, что в переводе означает ворон.
Он был сиротой из захолустья с далёких гор. Уже лет с семи работал с пастухами.
Грамоте научился поздно, но от природы умел общаться с птицами, животными и деревьями. Он их слышал и понимал, что уже много для задуманного дела. Всякие уменья усваивал слёта, был любознателен, находчив и необычайно трудолюбив. Жилистый такой парень. Характер имел смелый, жизнерадостный и артистичный.
Как раз то, что надо!
В ходе поисков придётся не раз прикидываться другим и, конечно, скрывать что ты – шаман, особенно в такой стране, как Россия. Россия тогда была страной, где допускалось только материалистическое мировоззрение, поэтому о шаманских умениях лучше совсем не заикаться. К тому же власти этой страны еще и очень подозрительны по части иностранных шпионов, что тоже надо как-то принимать во внимание.
Через четыре года Канги уже имел диплом Университета Лимы и знал три языка, в том числе русский. И только теперь из него начали делать шамана. Три мудрейших шамана инков уединились с новобранцем в горах почти на год.
Так еще никого не учили. Правда и такие способности нечасто увидишь. Да и обстоятельства требовали.
Пройдя обучение, Канги выглядел внешне, как средний американец. Никаких перьев, никаких камней, никакого бубна и завываний. Простой такой парень, приятный в общении, без особых запросов. Как все. Только парфюма избегает. Ну и что? Таких пруд-пруди.
Решили, что сначала он поедет в Европу как турист. Присмотреться, а там – как получится.
Сочинили ему биографию: он занимается горным животноводством, бизнесмен среднего достатка. Не женат.
Хоби ему придумали: изучает хищных птиц, с которыми охотились на королевских охотах, и вообще – царские соколиные охоты как явление мировой культуры.
Красиво звучит!
В начале июня Канги вылетел в Европу и далее его путь лежал в Россию.
Его главная задача – пока! – найти место, где находится магическое ожерелье инков, так как организации, как и просто люди, могли искренне не знать, что оно лежит где-нибудь рядом с ними в собственных закромах, подвалах, архивах, полках, ящиках.
В Россию
Итак, последний перелёт Лондон-Ленинград, и Канги ступил на землю СССР. Была предварительная договорённость о гиде. Предполагалось, что турист знает испанский и английский.
Его встречала полноватая, но весьма подвижная и яркая дама, похожая на испанку средних лет.
– Сеньор Канги Луис Мигуэль Икаса? – спросила она и её левая бровь вопросительно вскинулась.
Красивая и притягательная! Немножко ведьма. Да, пожалуй, и не немножко!
– Вы угадали! – засветилась его открытая улыбка. – Просто Канги. А вы мой гид?
– Адель Александровна Мерлич, или просто Адель. Как долетели? Приветствую Вас на нашей земле… и еще десяток обязательных к случаю слов.
– Прекрасно! Прекрасно.
– С чего начнём? Ресторан или гостиница?
Начали с такси. Потом гостиница в центре города.
– Вы составите мне компанию за столом?
– Сегодня точно – нет. Извините, работа. Уточним завтрашний день.
На Ленинград у него был всего один день. Завтрашний. Уже в ночь уходил экспресс на Москву.
О Ленинграде он кое-что читал, но его историю, архитектуру и все прочие интересности Канги решил отложить до лучших времен. В этот первый визит можно успеть лишь слегка увидеть и почувствовать город: его облик, дыхание, пульс, запахи, эмоции толпы. Всё разом и без подробностей. Хорошо бы, как пёрышку на ветру, побродить по его улицам, набережным, паркам, дворам и базарам, мимолетно улыбаясь прохожим и вступая в незатейливые короткие разговоры.
– Адель, любите ли Вы ходить пешком?
– Умеренно.
– Ну, а если часов шесть подряд?
– Для меня это слишком. А зачем? У нас есть машина.
– Мне хотелось бы побродить по городу. Белой ночью. Сейчас как раз время белых ночей. У меня она всего одна. Может быть у вас есть на примете длинноногий студент со знанием испанского или английского, который любит не спать ночами и не заблудится в городе?
– Один такой есть. Мой племянник. Он как раз подыскивает себе подработку на лето.
– Это здорово!
– Есть сложности. Я должна согласовывать изменения маршрутов, докладывать руководству. Ну… и все остальное.
– Давайте оставим на бумаге всё как есть, а я доплачу, если понадобиться.
– Надо подумать. Я позвоню.
Она позвонила.
– Племянник согласен. У него неплохой английский и длинные ноги, как вы просили.
– То, что надо!
– Тогда ждите! Он может приехать часам к восьми. Или позже, как скажете.
– Прекрасно. Дайте мне его на минутку. Как его зовут?
– Зовут Даниил, откликается на имя Даня.
– Даниил, здравствуйте! Я рад, что вы согласились со мной походить. Как у вас со временем? Не могли бы вы приехать прямо сейчас?
Даня только что освободился от экзаменационной сессии, не был обременен ничем и готов к любым авантюрам.
– Как мне к вам обращаться?
– Канги.
– Понял, Канги. Еду.
Через полчаса Канги открыл входную дверь и увидел…
Так рисуют дети и называют своё творение «солнышко».
В обрамлении лохматых желтых с рыжеватым отливом волос на него смотрели огромные зеленые глаза, окруженные веснушками, как поле в одуванчиках.
Улыбка рождалась непроизвольно.
– Вам отметки ставят сразу же или всё-таки просят что-то рассказать?
– Вас Канги зовут? Я правильно попал?
– Правильно. Ну так, как насчет отметок?
– Спрашивают. Иногда даже требуют прийти еще разок.
– Кто требует?
– Есть одна такая. Только с третьего раза отстала. Пол-учебника рассказал. Хорошо хоть в сессию гоняла.
– Но ведь в сессию! И что поставила?
– Поставила пять, но сказала, что из этой пятёрки моя только тройка, а двойка – её, за то, что вовремя не заметила «мои штучки». А она еще два семестра читать будет…
– Мудрая у тебя учительница.
– Она профессор.
– Ну раз так – есть предложение, вернее два: первое – перейти на «ты» и второе – пойти подкрепиться.
– И по первому и по второму пунктам я всегда «за». Только…
– «Только» – моя забота. – махнул рукой Канги.
И они спустились в ресторан, где для Дани начался праздник живота. Всю сессию он жил на кофе и бутербродах. И вот…сказка Шахерезады в натуре. Тарелки пустели только так.
Когда они вернулись в номер, Дане было достаточно присесть на краешек дивана, чтобы тотчас задремать.
Канги прикрыл его пледом и сам тоже лег поспать перед ночной прогулкой.
В 23.45 запикал будильник. Из ресторана принесли горячий кофейник с чашками. Даня не сразу сообразил – что от него требуется, но Канги протянул ему что-то в крышечке от фляги.
– Выпей! И кофе чашечку прими. Будешь – как с утра.
И они вышли в ночной город.