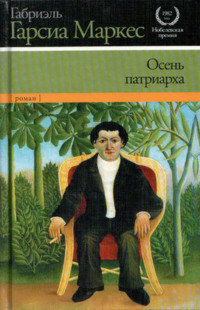«Осень патриарха» kitobidan iqtiboslar, sahifa 2

Чёрт подери, как это может быть, чтобы этот индеец написал такую прекрасную вещь той же рукой, которой он подтирается?

есть такие люди, со дня рождения меченные клеймом одиночества

Сердце - это третье яичко, мой генерал!

«Бросим монету, — сказал он, — и ежели выпадет „орел“ — умрешь ты, ежели „решка“ — я». Но Патрисио Арагонес возразил на это, что умереть придется обоим, ибо, сколько ни кидай монету, всегда будет ничья: «Разве вы забыли, мой генерал, что президентский профиль отчеканен с обеих сторон?»Всё это он проделал в глубокой тоске, охваченный чувством безмерного одиночества, понимая, что стал отныне самым одиноким существом на всём белом свете.Он был ему даже благодарен за острое ощущение и спросил: «Сколько ты хочешь за этого красного петуха?», — на что Дионисио Игуаран робко ответил: «Этот петух ваш, господин генерал, возьмите его»; толпа наградила Дионисио рукоплесканиями, когда он, сопровождаемый грохотом музыки и взрывами петард, отправился домой, показывая всем шесть прекрасных породистых петухов, подаренных ему взамен непобедимого красного; но той же ночью Дионисио Игуаран заперся в своей спальне, выпил целую бутыль тростникового самодельного рома и повесился на веревке от гамака, бедняга, потому что слишком хорошо знал, какие бесчисленные беды и несчастья подстерегают отмеченного высокой милостью человека.

Насытиться властью невозможно не только до конца нашего света, но и до конца всех иных миров.

А ведь он знал с самого начала, что его обманывают в первую очередь те,
кто ему угождает, знал, что за лесть берут чистоганом, знал, что толпы
людей, с ликованием славящих его и желающих ему вечной жизни, сгоняют силой
оружия; все это он знал и приучил себя жить с этой ложью, с этой
унизительной данью славы, ибо в течение своих бессчетных лет не раз
убеждался, что ложь удобней сомнений, полезнее любви, долговечнее правды; он
уже ничему не удивлялся, когда дожил до позорной фикции власти: повелевал,
когда все уже было ему неподвластно, был прославляем, когда утратил свою
славу, и утешался подчинением приближенных, не имея уже никакого авторитета.
В годы желтого листопада своей осени он убедился, что никогда не будет
хозяином всей своей власти, никогда не охватит всей жизни, ибо обречен на
познание лишь одной ее тыльной стороны, обречен на разглядывание швов, на
распутывание нитей основы и развязывание узелков гобелена иллюзий, гобелена
мнимой реальности; он и не подозревал, не понял даже в самом конце, что
настоящая жизнь, подлинная жизнь была у всех на виду; но мы видели эту жизнь
совсем с другой стороны, мой генерал, -- со стороны обездоленных, мы видели
ее изнутри бесконечных лет нашего горя и наших страданий, видели сквозь годы
и годы желтого листопада вашей нескончаемой осени, несмотря на которую мы
все-таки жили, и наша беда была бедой, а мгновения счастья -- счастьем; мы
знали, что наша любовь заражена вирусами смерти, но она была настоящей
любовью, любовью до конца, мой генерал! Она была светочем той жизни, где вы
были всего лишь призрачным видением за пыльными стеклами вагонного окна, в
котором мы мельком видели жалкие глаза, дрожащие бледные губы, прощальный
взмах затянутой в шелковую перчатку руки, -- взмах лишенной линий судьбы
руки старца, о котором мы так никогда и не узнали, кем он был на самом деле,
не был ли он всего лишь нашим мифом, этот нелепый тиран, не знавший, где
оборотная, а где лицевая сторона этой жизни, любимый нами с такой
неиссякаемой страстью, какой он не осмеливался ее себе даже представить, --
ведь он страшился узнать то, что мы прекрасно знали: что жизнь трудна и
быстротечна, но что другой нет, мой генерал! Мы не страшились этой
единственно подлинной жизни, потому что знали, кто мы такие, а он остался в
неведении и относительно себя, и относительно нас, этот старец, вечно
носившийся со своей свистящей килой, поваленный одним ударом роковой гостьи,
вырванный ею из жизни с корнем; в шорохе темного потока последних мерзлых
листьев своей осени устремился он в мрачную страну забвения, вцепившись в
ужасе в гнилые лохмотья паруса на ладье смерти, чуждый жизни, глухой к
неистовой радости людских толп, что высыпали на улицы и запели от счастья,
глухой к барабанам свободы и фейерверкам праздника, глухой к колоколам
ликования, несущим людям и миру добрую весть, что бессчетное время вечности
наконец кончилось.

Между тем, собрав необходимые
доказательства, генерал Родриго де Агилар вступил в сговор со штабом
президентской гвардии, со всеми его офицерами, и было решено, что президент
должен быть помещен в приют для выдающихся старцев, в этот расположенный на
скале дом призрения, где обитают бывшие диктаторы, и было решено осуществить
это в полночь первого марта сего года, низложить президента во время
традиционной ежегодной вечери в честь Святого Ангела Хранителя -- патрона
телохранителей. -- "То есть через три дня, мой генерал!" Ни единым жестом он
не выдал, что ему известно о заговоре, ни единым жестом не вызвал
подозрения, что все знает, и в назначенный час принял своих гостей -- высших
офицеров своей личной гвардии, усадил их за банкетный стол и предложил им
аперитивы: "Пропустим по рюмочке, пока прибудет генерал Родриго де Агилар и
подымет главный тост". Он мирно беседовал со своими гостями, шутил, а
офицеры один за другим как бы невзначай посматривали на свои часы,
прикладывали их к уху, заводили, подводили -- было уже без пяти двенадцать,
но генерал Родриго де Агилар не появлялся. Стало жарко и душно, как в
корабельном котле, но это была благовонная духота -- пахло гладиолусами и
тюльпанами, пахло свежими розами, однако дышать было нечем, кто-то открыл
окно. "И мы все вздохнули и снова посмотрели на часы, а в открытое окно
повеял легкий бриз и донес нежный аромат праздничного кушанья". Все
вспотели, все, кроме него, и всем на миг сделалось неловко, стыдно стало
смотреть в широко открытые, помаргивающие глаза этого дряхлого животного,
отгороженного от присутствующих, как броней, давно прошедшими годами,
животного, которое выглядывало из какого-то своего пространства, из своего
неподвластного времени мира. "Ваше здоровье, -- сказал он, приподнимая
бокал, как томную лилию, -- ваше здоровье!" Он чокался этим бокалом весь
вечер, даже не пригубив его ни разу. И вот в тишине, как на дне роковой
пропасти, послышались утробные звуки часового механизма -- часы начали бить
двенадцать. Но генерала Родриго де Агилара все не было. Кто-то попытался
встать и откланяться, но был пригвожден к месту, превращен в камень
уничтожающим взглядом и просьбой: "Пожалуйста, не уходите!" Все поняли, что
нельзя ни двигаться, ни дышать, нельзя обнаруживать себя живым, пока не
прозвучат все двенадцать ударов. И когда затих последний удар, шторы на
дверях раздвинулись, и все увидели выдающегося деятеля, генерала дивизии
Родриго де Агилара, во весь рост, на серебряном подносе, обложенного со всех
сторон салатом из цветной капусты, приправленного лавровым листом и прочими
специями, подрумяненного в жару духовки, облаченного в парадную форму с
пятью золотыми зернышками миндаля, с нашивками за храбрость на пустом
рукаве, с четырнадцатью фунтами медалей на груди и с веточкой петрушки во
рту. Поднос был водружен на банкетный стол, и услужливые официанты принялись
разделывать поданное блюдо, не обращая внимания на окаменевших от ужаса
гостей, и когда в тарелке у каждого оказалась изрядная порция фаршированного
орехами и ароматными травами министра обороны, было ведено начинать вечерю:
"Приятного аппетита, сеньоры!"

"Ты вкусная, - шептал он мне, - у тебя привкус пота... я хотел бы съесть твои почки, сваренные в твоем соку, с солью твоего пота..."

...в день национального праздника, держа в руке полную корзину пустых бутылок, протолкалась сквозь строй почетного караула к президентскому лимузину: гремели овации, раздавалась торжественная музыка, кругом было море цветов, президентский лимузин вот-вот должен был открыть парадное шествие, а Бендисьон Альварадо просунула свою корзину с бутылками в окно машины и крикнула: «Все равно ты едешь в сторону магазина, – сдай бутылки, сынок!»

Была объявлена амнистия политическим заключённым, а изгнанникам было разрешено вернуться на родину - всем, кроме интеллектуалов, разумеется.