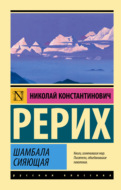Kitobni o'qish: «О русской литературе»
Серия «Эксклюзив: Русская классика»

© ООО «Издательство АСТ», 2023
Ряд статей о русской литературе
I. Введение
1
Если есть на свете страна, которая была бы для других, отдаленных или сопредельных с нею стран более неизвестною, неисследованною, более всех других стран непонятою и непонятною, то эта страна есть, бесспорно, Россия для западных соседей своих. Никакой Китай, никакая Япония не могут быть покрыты такой тайной для европейской пытливости, как Россия, прежде, в настоящую минуту и даже, может быть, еще очень долго в будущем. Мы не преувеличиваем. Китай и Япония, во-первых, слишком далеки от Европы, а во-вторых, и доступ туда иногда очень труден; Россия же вся открыта перед Европою, русские держат себя совершенно нараспашку перед европейцами, а между тем характер русского, может быть, даже еще слабее обрисован в сознании европейца, чем характер китайца или японца. Для Европы Россия – одна из загадок Сфинкса. Скорее изобретется perpetuum mobile1 или жизненный эликсир, чем постигнется Западом русская истина, русский дух, характер и его направление. В этом отношении даже Луна теперь исследована гораздо подробнее, чем Россия. По крайней мере, положительно известно, что там никто не живет, а про Россию знают, что в ней живут люди и даже русские люди, но какие люди? Это до сих пор загадка, хотя, впрочем, европейцы и уверены, что они нас давно постигли. В разное время употреблены были пытливыми соседями нашими довольно большие усилия для узнания нас и нашего быта; были собраны материалы, цифры, факты; производились исследования, за которые мы чрезвычайно благодарны исследователям, потому что эти исследования для нас самих были чрезвычайно полезны. Но всевозможные усилия вывесть из всех этих материалов, цифр, фактов что-нибудь основательное, путное, дельное собственно о русском человеке, что-нибудь синтетически верное, – все эти усилия всегда разбивались о какую-то роковую, как будто кем-то и для чего-то предназначенную невозможность. Когда дело доходит до России, какое-то необыкновенное тупоумие нападает на тех самых людей, которые выдумали порох и сосчитали столько звезд на небе, что даже уверились наконец, что могут их и хватать с неба. Всё доказывает это, начиная с мелочей до самых глубокомысленных исследований о судьбе, значении и будущности нашего отечества. Кое-что, впрочем, о нас знают. Знают, например, что Россия лежит под такими-то градусами, изобилует тем-то и тем-то и что в ней есть такие места, где ездят на собаках. Знают, что кроме собак в России есть и люди, очень странные, на всех похожие и в то же время как будто ни на кого не похожие; как будто европейцы, а между тем как будто и варвары. Знают, что народ наш довольно смышленый, но не имеет гения, очень красив, живет в деревянных избах, но неспособен к высшему развитию по причине морозов. Знают, что в России есть армия, и даже очень большая; но полагают, что русский солдат – совершенная механика, сделан из дерева, ходит на пружинах, не мыслит и не чувствует и потому довольно стоек в сражениях, но не имеет никакой самостоятельности и во всех отношениях уступает французу. Знают, что в России был император Петр, которого называют Великим, – монарх не без способностей, но полуобразованный и увлекавшийся своими страстями; что женевец Лефорт воспитал его, сделал его из варвара умным и внушил ему мысль завести флот и обрезать русским кафтаны и бороды; что Петр, действительно, обрезал бороды, и потому русские тотчас же сделались европейцами. Но знают и то, что, не родись в Женеве Лефорт, русские до сих пор ходили бы с бородами, а следовательно, не было бы и преобразования России. Но, впрочем, довольно и этих примеров; все остальные познания то же или почти то же самое. Мы говорим совершенно серьезно. Сделайте одолжение, разверните все книги, об нас написанные разными заезжими виконтами, баронами и преимущественно маркизами, – книги, разошедшиеся по Европе в десятках тысяч экземпляров; прочтите их внимательно и увидите, правду ли мы говорим, шутим мы или нет? И что всего любопытнее – некоторые из этих книг написаны людьми, бесспорно, замечательно умными. То же самое бессилие, как и в этих попытках заезжих путешественников бросить высший взгляд на Россию и усвоить ее главную идею, видим мы и в полнейшей неспособности почти всякого иностранца, которого обстоятельства заставляют жить в России иногда даже пятнадцать и двадцать лет, хоть сколько-нибудь оглядеться, прижиться в России, понять хоть что-нибудь окончательно, выжить хоть какую-нибудь идею, подходящую к истине. Возьмем сначала ближайшего соседа нашего, немца. Приезжают к нам немцы всякие: и без царя в голове, и такие, у которых есть свой король в Швабии, и ученые, с серьезною целью узнать, описать и таким образом быть полезным науке России, и неученые простолюдины с более скромною, но добродетельною целью печь булки и коптить колбасы, – разные Веберы и Людекенсы. Иные даже принимают себе «раз навсегда за правило и даже за священную обязанность» знакомить русскую публику с разными европейскими редкостями и потому являются с великанами и великаншами, с ученым сурком или обезьяною, нарочно выдуманною немцами для русского удовольствия. Но какая бы ни была разница между ученым немцем и простолюдином в понятиях, в общественном значении, в образовании и в цели посещения России, – в России все эти немцы немедленно сходятся в своих впечатлениях. Какое-то больное чувство недоверчивости, какая-то боязнь примириться с тем, что он видит резко на себя не похожего, совершенная неспособность догадаться, что русский не может обратиться совершенно в немца и что потому нельзя всего мерить на свой аршин, и, наконец, явное или тайное, но во всяком случае беспредельное высокомерие перед русскими, – вот характеристика почти всякого немецкого человека во взгляде на Россию. Иные приезжают служить у помещиков Буеракиных 2, управлять вотчинами; другие являются в виде естествоиспытателей, ловят русских жуков, приобретают этим бессмертную славу и обращаются в каких-нибудь заседателей. Другие, с успехом заседая лет пятнадцать, решаются наконец быть современными и полезными и для этого подробно опишут, из каких горных пород будет состоять цоколь будущего памятника тысячелетию России. Есть из них чрезвычайно добрые; такие почти всегда начинают специально учиться по-русски, очень полюбят русский язык и русскую литературу, получают наконец употребление русского языка, конечно не без тяжких усилий, и, в припадке восторга, желая принести себе, русским и человечеству несомненную пользу, решаются – «перевести ‟Россияду” Хераскова на санскритский язык». Впрочем, не все переводят «Россияду» Хераскова. Иные приезжают писать свою «Россияду» и издают ее уже в Германии. Есть знаменитые сочинения в этом роде. Читаешь эту «Россияду» – серьезно, дельно, умно, даже остроумно. Факты верны и новы; глубокий взгляд брошен на иные явления, взгляд оригинальный и меткий именно потому, что иные русские явления удобнее наблюдать не русскому, а со стороны, и вдруг на чем-нибудь самом важном, коренном, без чего никакие познания о России, никакие факты, приобретенные трудом самым добросовестным, не дадут никакого о ней понятия или дадут самое сбивчивое, чтоб не сказать бестолковое, – вдруг наш ученый становится в тупик, обрывается, теряет нитку и заключает такою нелепостью, что книга сама вырывается из рук ваших и падает, иногда даже под стол.
Приезжие французы совершенно не похожи на немцев; это что-то обратно противоположное. Француз ничего не станет переводить на санскритский язык, не потому чтоб он не знал санскритского языка – француз всё знает, даже ничему не учившись, – но потому, во-первых, что он приезжает к нам окинуть нас взглядом самой высшей прозорливости, просверлить орлиным взором всю нашу подноготную и изречь окончательное, безапелляционное мнение; а во-вторых, потому, что он еще в Париже знал, что напишет о России; даже, пожалуй, напишет свое путешествие в Париже, еще прежде поездки в Россию, продаст его книгопродавцу и уже потом приедет к нам – блеснуть, пленить и улететь. Француз всегда уверен, что ему благодарить некого и не за что, хотя бы для него действительно что-нибудь сделали; не потому что в нем дурное сердце, даже напротив; но потому что он совершенно уверен, что не ему принесли, например, хоть удовольствие, а что он сам одним появлением своим осчастливил, утешил, наградил и удовлетворил всех и каждого на пути его. Самый бестолковый и беспутный из них, поживя в России, уезжает от нас совершенно уверенный, что осчастливил русских и хоть отчасти преобразовал Россию. Иные из них приезжают с серьезными, важными целями, иногда даже на 28 дней, срок необъятный, цифра, доказывающая всю добросовестность исследователя, потому что в этот срок он может совершить и описать даже кругосветное путешествие. Схватив первые впечатления в Петербурге, которые выходят у него еще довольно удачно, и, кстати, рассмотрев при этом критически английские учреждения, выучив мимоходом русских бояр (les boyards) вертеть столы или пускать мыльные пузыри, что, впрочем, очень мило и гораздо лучше величавой и чванной скуки наших собраний, он решается наконец изучить Россию основательно, в подробностях, и едет в Москву. В Москве он взглянет на Кремль, задумается о Наполеоне, похвалит чай, похвалит красоту и здоровье народа, погрустит о преждевременном его разврате, о плодах неудачно привитой цивилизации, о том, что исчезают национальные обычаи, чему найдет немедленное доказательство в перемене дрожек-гитары на дрожки-линейку, подходящую к европейскому кабриолету; сильно нападет за все это на Петра Великого и тут же, совершенно кстати, расскажет своим читателям свою собственною биографию, полную удивительнейших приключений. С французом всё может случиться, не причинив ему, впрочем, никакого вреда, до такой степени, что он после своей биографии тотчас же начинает рассказывать русскую повесть, конечно истинную, взятую из русских нравов, под названием «Petroucha», имеющую два преимущества: во-первых, что она верно характеризует русский быт, а во-вторых, что она в то же время верно характеризует и быт Сандвичевых островов. Кстати уж обратит внимание и на русскую литературу; поговорит о Пушкине и снисходительно заметит, что это был поэт не без дарований, вполне национальный и с успехом подражавший Андрею Шенье и мадам Дезульер, похвалит Ломоносова, с некоторым уважением будет говорить о Державине, заметит, что он был баснописец не без дарованья, подражавший Лафонтену, и с особенным сочувствием скажет несколько слов о Крылове, молодом писателе, похищенном преждевременною смертию (следует биография) и с успехом подражавшем в своих романах Александру Дюма. Затем путешественник прощается с Москвой, едет далее, восхищается русскими тройками и появляется наконец где-нибудь на Кавказе, где вместе с русскими пластунами стреляет черкесов, сводит знакомство с Шамилем и читает с ним «Трех мушкетеров»…
Повторяем, говоря это, мы вовсе не шутим, вовсе не преувеличиваем. Между тем мы сами чувствуем, что слова наши как будто отзываются пародией, карикатурой. Правда ведь и то, что нет такого предмета на земле, на который бы нельзя было посмотреть с комической точки зрения. Всё можно осмеять, скажут нам, сказать то, да не так, передать почти те же самые слова, да не так их выразить. Согласны. Но возьмите же сами самое серьезное мнение о нас иностранцев; и вы убедитесь, что всё сказанное нами нисколько не преувеличено.