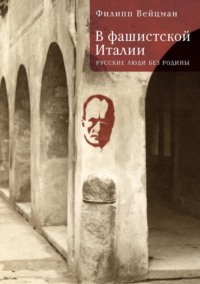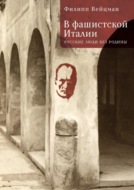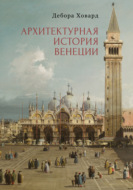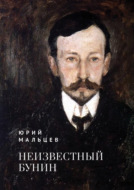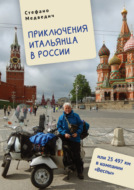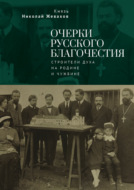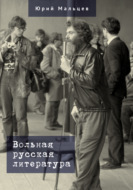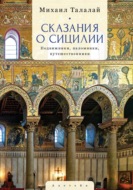Kitobni o'qish: «В фашистской Италии. Русские люди без Родины», sahifa 2
Прощай, Родина!
…В 1927 году общее положение в стране стало вновь ухудшаться: сказывались первые сталинские мероприятия. В Москве, перед булочными и некоторыми другими магазинами, появились «хвосты».
Незадолго до нашего отъезда в Одессу на дачу, проходя по улице мимо одного из таких «хвостов», мы с мамой услыхали крик какой-то бабы: «Опять хлеба нету. Это всё жиды проклятые! Они весь хлеб забрали, да в Кремле спрятали».
Мы все были рады, хотя бы на несколько недель, уехать на юг. Отец нам сказал, что его, вероятно, в этом году пошлют за границу, в Италию, хотя он предпочел бы оставаться еще один год в Москве, чтобы дать мне время окончить девятилетку. Мы с мамой ничего не возразили, но были, на этот счет, другого мнения.
Из Москвы в Одессу было сорок часов езды. Приехав, мы остановились, на пару дней, у тети Рикки3. Уже свыше двух лет, как у нее проживали престарелые родители4. Мы их нашли сильно подряхлевшими, в особенности дедушку. Сердце у него ослабело, и он больше не выходил из дому. Целые дни дедушка проводил перед своим столом, куря одну папиросу за другой, и раскладывая пасьянс. Бабушка была бодрее; она помогала тете по хозяйству, и регулярно, по субботам и праздникам, посещала одесскую синагогу, которую власти оставили открытой. Весть о нашей близкой поездке за границу их сильно огорчила. Моя мать, как могла, успокаивала своих родителей, объясняя им, что ничего еще не решено, и, что, во всяком случае, наше пребывание в Италии не продолжится больше года. Дня через два мы переехали на нанятую, на Большом Фонтане, дачу. Через пять недель отец уехал на службу в Москву.
Купание в море, загорание на солнце, прогулки в компании моих кузенов, кузин и друзей, ухаживание за Флорой, дочерью адвоката Небесова, всё это занимало мое время, и оно летело быстро. Я много играл в крокет, и в этой дачной игре достиг довольно значительной степени совершенства, оказавшись, однажды, победителем на устроенном нами турнире. В августе погода начала портиться, но мы решили оставаться на даче до двадцать пятого числа этого месяца, а после погостить у тети Рикки, в Одессе, еще с неделю. В Москве, занятия в моей школе начинались пятнадцатого сентября.
19 августа 1927 года в 9 часов утра мы по обыкновению отправились на пляж. Стоял холодный и ветреный день. Купаться было невозможно, и через час мы поднялись, чтобы вернуться на дачу. Не доходя еще до нее нам встретилась тетя Рикка, с распечатанной телеграммой в руке. Подойдя к нам, она молча протянула ее маме. Телеграмма была от отца, из Москвы: «Через десять дней уезжаем Италию выезжайте Москву первым поездом Моисей». Сегодня, в девять часов утра, у себя на одесской квартире, тетя получила, на имя мамы, эту телеграмму, испугалась, и, распечатав ее, села в трамвай и приехала к нам на Большой Фонтан. Собрав наши пожитки, мы спешно оставили дачу, и к часу дня были уже в Одессе, в доме тети. Дядя пошел на вокзал, покупать билеты. Все были взволнованы, бабушка плакала.
– Мама, чего ты плачешь? – уговаривала ее моя мать, – ведь я уезжаю только на год.
Но бедная бабушка была безутешна:
– Знаю я, что значит – на год. Шутка ли: в Италию! В такую даль. Ведь я так стара, и тебя, наверное, больше никогда не увижу.
Бедняжка! Она не ошиблась!
Дядя достал билеты в мягкий вагон поезда, отходящего в Москву в 16 часов. Мы наскоро пообедали, взяли извозчика, и отправились на вокзал. На прощание бабушка, обливаясь слезами, дала нам на дорогу баночку, ею самой сваренного, розового варенья, а дедушка, стоя у окна, долго махал нам вслед рукой. Снова сорок часов езды, и утром, 21 августа, на Брянском вокзале, нас встретил отец. Всё было готово к отъезду, паспорт взят, и 29 августа нам предстояло отправиться в далекий путь. Папа рассказал, как он старался протянуть время, пока ему не заявили, что если он не возьмет теперь своего паспорта, то месяца через два его всё же пошлют за границу, но не в Геную, а в Варшаву. Папа взял паспорт.
Последняя неделя прошла быстро, и как бы в полусне. Мы с отцом пошли в московскую сберегательную кассу, и он положил на свое имя порядочную сумму, обусловив, что в случае его смерти я, его единственный сын, являюсь наследником этих денег.
В Москве стояли ясные, теплые и тихие дни конца лета. Утром, в канун отъезда, я отправился в Александровский сад, и там провел с час, любуясь Кремлем.
Наступило 29 августа. Наш поезд отходил с Варшавского вокзала ровно в 17 часов. Мы завершили последние сборы. Я взял с собой несколько учебников, чтобы иметь возможность, во время моего пребывания в Италии, повторять пройденные предметы. По русскому обычаю, прежде чем переступить порог, мы все присели на минуту. Носильщик, нанятый на вокзале, помог нам перенести чемоданы через площадь, и поставить их на перрон, в ожидании подачи поезда.
Нас провожала небольшая группа родственников и знакомых. Среди них были: дядя Миша5 с тетей Аней и моим двоюродным братом, Женей; Маршак, двоюродная сестра моей матери, с мужем6; Джанумов7 с дочерью… Елизавета Георгиевна плакала – ей очень хотелось уехать из СССР. Пришли Либманы, но без Соли8. Он был на каком-то заседании, и опоздал. Подали поезд и мы сели в международный вагон. В это время, весь запыхавшись, прибежал Соля. Я вышел ему навстречу и мы обнялись, после чего я поспешил вернуться в вагон и стал у окна. Поезд тронулся. «Смотри, не сделайся в Италии фашистом!» – закричал мне Соля. Провожавшие нас засмеялись. Перрон, с людьми на нем, пополз назад. Замелькали железнодорожные строения, загрохотали вагоны на стрелках… Прощай, Москва!
Наш вагон был спальным, международным. Пассажиров в нем ехало мало, и нам досталось четырехместное купе. В соседнем купе находились два папиных сослуживца по Экспортхлебу. Они были назначены в Варшавское Торгпредство. В другом купе ехала в Париж семья, состоящая из мужа, жены и дочери, девочки моих лет. Несколько дальше, ехали два японских дипломата, транзитом через СССР. Они направлялись в одну из западноевропейских стран. Вероятно, и в других вагонах имелось много свободных мест. В те времена еще не существовало Интуриста, и сообщение между СССР и другими странами было слабое.
Я уселся поудобней у окна и стал смотреть на мелькающие телеграфные столбы, и уходящие назад предместья Москвы. Скоро начались бесконечные леса. Стало смеркаться; зажглись огни. Прозвонил колокольчик, приглашая пассажиров в вагон-ресторан, ужинать. Отец повел нас туда. Мы выбрали уютный столик у огромного зеркального окна. Ужин оказался превосходным. Пока мы ели, поезд остановился на большой станции. Это была Вязьма.
Двое железнодорожных рабочих трудились над чем-то у самого нашего окна. Мне стало немного стыдно: ведь, как-никак, социалистическое государство, и вот, поди ты! Мы сидим в вагон-ресторане и ужинаем. Всё здесь шикарно: ярко светит электричество, на столе маленькие вазочки с цветами, нам прислуживает внимательный кельнер, а за окном рабочие трудятся, и, вероятно, никогда им не сидеть за этим столиком. Но поезд вновь тронулся, и Вязьма исчезла позади, а с ней и все мои угрызения совести. Кончился ужин; мы вернулись в наше купе, и вскоре улеглись спать. Я устроился на верхней полке. Вагоны катились по рельсам и мерно постукивали. За окном, в темноте, проносились силуэты стройных сосен. Я уснул.
Проснулся я довольно рано, и моей первой мыслью было: мы едем за границу. Но вот, во мраке, замелькали редкие огоньки еще спящего города. Я поспешно соскочил с моей полки и прильнул к окну. Заскрипели буфера. Ярко освещенный перрон. Минск. Засуетились около поезда железнодорожники. К нашему вагону подошли двое в военных формах и беретах – чины пограничного ГПУ. Постояв минуты две, они поднялись к нам в вагон, и пошли по коридору, открывая все двери, зорко и подозрительно вглядываясь в полусумрак каждого купе. Поезд тронулся, и вскоре послышались их голоса: «Граждане, паспорта! Паспорта! Граждане, пожалуйте ваши паспорта!»
Весь вагон проснулся, зажгли свет. Вновь прошли чины ГПУ по вагонам, теперь они отбирали у всех паспорта, и еще зорче вглядывались в лица, сверяя их с фотографиями. Тем временем начало светать. Клубы пара и дыма летели за окнами, цепляясь за ветви деревьев. Умывшись, мы сели завтракать, взятыми мамой в дорогу, несколькими бутербродами. Бежал поезд, летело время! Вновь и вновь прошли по вагонам агенты ГПУ, всё время сохраняя на своих лицах всё то же выражение крайней подозрительности. Было немного жутко.
Справа, за окном, появилось большое, неуютное, деревянное здание, серо-грязного цвета: станция Негорелое9 – советская пограничная таможня. Мы все вышли, таща с собой наш багаж. Утренний, свежий, приятный воздух. Пахнет сосной и немного паровозным дымом. В таможенном здании душно; тускло светят электрические лампочки. Наш багаж осматривает какая-то женщина. Она любезна, но с упорством педанта роется во внутренностях наших чемоданов. Нашла мои учебники: «Учебные пособия вывозить из СССР запрещено, но, впрочем, вы, вероятно, скоро вернетесь. Можете их везти с собой». У нашего соседа по вагону нашли советский, юмористический журнал «Крокодил». Таможенный чиновник предупредил: «Поляки его не пропустят». На этом свете всё имеет свой конец, даже советский таможенный досмотр, и вот мы вновь погрузились, со всеми нашими чемоданами в вагон.
Снова пришли чины пограничного ГПУ. На этот раз они возвращали пассажирам их паспорта. Это происходило так: один из них держал в руках пачку паспортов, и показывал их пассажиру, один за другим, спрашивал: «Это ваш? Это ваш?..», а другой, в это время, внимательно глядел на вопрошаемого. Нужный паспорт всегда оказывался последним в пачке. Это был трюк, значение которого мне неизвестно. Наконец, мой отец, подвергнутый, как и все прочие, этой странной процедуре, получил свой паспорт, и чины ГПУ прошли далее. Застучали по рельсам вагоны, и серо-грязная станция Негорелое уплыла назад, став прошлым.
Ехавший в Варшаву папин сослуживец по Экспортхлебу, уже не в первый раз совершавший это путешествие, посоветовал нам, если мы желаем увидать границу, глядеть в левое окошко. Я буквально прильнул к стеклу. Рядом со мной стояли мои родители, а у соседнего окна поместились муж, жена и дочь. Всем хотелось узреть этот последний пограничный пункт. Чтобы понять наше настроение надо помнить, что в то время весь мир делился на две неравные части, насмерть враждовавшие между собой: одна шестая земной суши – СССР, и остальные пять шестых.
Мы приближались к демаркационной линии, их разделяющей. Агенты ГПУ открыли двери нашего вагона и стали на его подножку. Показались деревянные, вероятно, наблюдательные, вышки. Поезд шел всё медленней и медленней и наконец остановился перед небольшим белым зданием, с маленькой четырехгранной колонкой на крыше. На верхушке этой колонки виднелись скрещенные серп и молот. Впереди, на дороге, стояло нечто вроде арки. Я позже узнал, что это были ворота над железнодорожным путем. На одной из ее сторон было написано: «Коммунизм сотрет границы». А на другой стороне: «Привет рабочим запада».
Чины ГПУ соскочили с подножки вагона, и в тот момент, когда поезд вновь тронулся, отдали ему по-военному честь, приложив три пальца к своим беретам. Поезд прошел под аркой. Рядом с ней стоял последний красноармеец-часовой. В руке он держал винтовку с привинченным к ней штыком. Теперь мы двигались со скоростью человеческого шага. За окном был пустырь. Виднелись наблюдательные вышки и колючая проволока. Это была нейтральная зона. Девочка, стоявшая у окна, воскликнула: «Кончено!» Родители ее немного смутились. Ползли минуты…
И вот за окном снова появилось такое же белое здание, с четырехгранной вышкой, но на ней виднелся, растопырив крылья, белый польский орел. Действительно: кончено.
«Господа, паспорта, паспорта! Господа, пожалуйста, предъявите ваши паспорта!» Как непривычно звучало слово: «господа». Два польских жандарма вошли в вагон, отбирая у всех пассажиров их документы. Говорили они по-русски, без всякого акцента, и я от них не слыхал ни одного польского слова. Снова остановка – последняя: советский поезд дальше не шел. Станция Столбцы10. Надпись на фронтоне польская – латинскими буквами. Небольшой чистенький, даже изящный домик, с цветочными клумбами перед ним. Железная дорога проходила с двух его сторон: ширококолейная – советская, и узкоколейная – западноевропейская. Мы вновь взяли наш багаж и с помощью носильщика перенесли его на станцию. Польский таможенный осмотр оказался под стать советскому. У пассажира, везшего юмористический советский журнал «Крокодил», он был, несмотря на все просьбы и протесты, отобран. По окончанию довольно длинных таможенных формальностей, мы вышли через другие двери вокзала, и сели в вагон первого класса польского поезда, идущего в Варшаву. Пришли польские жандармы, и без всяких трюков вернули всем пассажирам проверенные и проштемпелеванные паспорта11.
Поезд тронулся. Было утро, 30 августа 1927 года.
Прощай, Родина!
В пути
В шестиместном купе, польского вагона первого класса, поместилось пять человек: нас трое и два папиных сослуживца по Экспортхлебу. Один из них, хорошо знавший Варшаву, посоветовал нам остановиться дня на два в этом городе, обещая свести в театр и показать главные достопримечательности польской столицы. Мой отец колебался: с одной стороны ему хотелось воспользоваться случаем, но с другой стороны он ехал на службу, и не в его обычае было терять время, когда он знал, что там, в далекой Генуе, его ждет серьезная работа. Но пока впереди имелся целый день пути и торопиться с решением этого вопроса было нечего.
На первой небольшой станции мы услышали крики, по-русски, польских газетчиков: «Русские газеты! Русские газеты!» Сразу бросилась в глаза старая орфография. Это были ежедневные органы белой эмиграции, выходящие в Варшаве.
В Слониме12 к нам в купе села молодая, красивая польская девица, лет двадцати. Мой отец попытался заговорить с нею по-русски, но в ответ она только улыбалась и повторяла: «Не разумию цо пан мове». Однако она довольно неплохо изъяснялась по-французски, и на этом языке папе удалось от нее узнать, что ее зовут Зося, что она чистокровная варшавянка и, что прогостив некоторое время в Слониме, у своей тетки, она теперь возвращается домой.
Сослуживцы моего отца оказались шахматными мастерами. Один из них, изрядно соскучившись в дороге, предложил другому сыграть с ним партию. Шахмат у них не имелось, и тут я впервые в жизни увидел, как два настоящих шахматиста играли без доски. Каждый из них, по очереди, указывал словесно, без всяких записей, буквой и цифрой, сделанный им мысленно ход, и все ходы, и все варианты игры оба держали в своей памяти и никогда не ошибались. Удивительно!
Вопрос о том, остановиться ли нам на два дня в Варшаве, всё еще не был решен, но подъезжая к ней, мой отец, всегда любивший ездить с максимальными удобствами, и даже с известным шиком, попросил, по-французски, юную польку, указать ему адреса лучших варшавских отелей. Паненка ехидно усмехнулась: «Как же так? Пан из социалистической страны едет, а в лучших отелях останавливаться хочет!» Однако адреса дала, но папа ими не воспользовался, и в последнюю минуту решил продолжать свой путь без промедлений. Солнце уже садилось, когда поезд прибыл в Варшаву. Девица опустила окно и стала звать носильщика: «Пст! пст!» Меня это очень удивило и покоробило: в СССР, когда зовут носильщика, то ему кричат: «Товарищ носильщик!», а не как собаке: «пст! пст!» Во мне тогда было еще много наивного идеализма.
На варшавском вокзале мы попрощались с нашими спутниками. Курьерский поезд «Варшава-Вена» отходил ровно в 22 часа.
Снова ночь в международном спальном вагоне. На этот раз, чтобы не беспокоить спящих пассажиров при переезде границ, паспорта были у всех отобраны в самый момент отхода поезда из Варшавы. Утром мы уже пересекали Чехословакию, и вскоре в вагоне зазвучала немецкая речь. В полдень поезд прибыл в Вену. Вспоминая теперь наше путешествие, я удивляюсь плохой организации существовавшего в ту пору западноевропейского железнодорожного движения. В Вене мы узнали, что вагона прямого сообщения, идущего в Геную, просто не существует. Отец, со своим служебным паспортом в руке, пошел объясняться к начальнику станции, который проявил себя очень предупредительным человеком и забронировал для нас в поезде, отходящем около полуночи в Венецию, отдельное купе первого класса, на три места. В Вене мы провели полдня в прогулках по городу.
Обедали в хорошем ресторане и ели знаменитый венский «шницель». На десерт отец меня угостил бананом – фруктом, о котором доселе мне приходилось только изредка читать. В общем, я убедился на собственном гастрономическом опыте, что далекие путешествия полезны юношам и сильно расширяют круг их познаний. К вечеру мы все изрядно устали, а я еще немного простудился, и у меня слегка разболелось горло. Наконец настал час отъезда. Мы уселись в приготовленное нам трехместное купе, и устроились в нем, как могли лучше. Всё же спать нам пришлось сидя.
Проснувшись утром и взглянув в окно, я сразу примирился и с усталостью, и с простудой: за окном высились горы, низвергались водопады, зеленели хвойные леса, а по склонам гор лепились маленькие селения с островерхими церквами и расстилались зеленые луга. Ныряя из туннеля в туннель, поезд пересекал Тирольские Альпы. Заметив мой восторг, мама мне напомнила, что в этом году мне сильно повезло: вместо подготовки к началу занятий, я теперь сижу в поезде и любуюсь таким необычайным видом.
Еще одна граница: финансовая гвардия в зеленых шапочках с маленьким воткнутым в них пером, карабинеры в наполеоновских треуголках и звучная, певучая итальянская речь, заменившая немецкий отрывистый, несколько гортанный говор. На одной из станций в наш вагон вошла группа фашистов в черных рубашках. Вот они – враги коммунизма и трудящихся! Я ожидал увидеть каких-то разбойников, угрожающе глядящих на всех пассажиров. К моему удивлению это были, в своем большинстве, молодые, приятно улыбающиеся итальянцы, с лицами приветливыми и симпатичными.
В десять часов утра мы приехали в Венецию. На станции нам сказали (отец объяснялся с итальянцами по-французски), что поезд прямого сообщения отходит в Геную только на следующий день в 8 часов утра, но в 13 часов имеется другой поезд, идущий в Милан. Мы решили сесть в него и перетерпеть еще одну пересадку. Чтобы убить время, отец нанял гондолу, и мы немного покатались в ней по Большому Каналу. Царица Адриатики, при моем с ней первом знакомстве, мне не понравилась. Я слишком устал в дороге и не был способен воспринять всё великолепие этого, увы, медленно умирающего, но единственного в своем великолепии, города. Зато я сразу был поражен грязью каналов и дохлыми кошками, плывущими в них по течению. Снова посадка в вагон, и только вечером мы прибыли в Милан. Поезд в Геную отходил ровно в полночь. Поужинав в станционном ресторане, мы, очень уставшими, сели в неспальный вагон первого класса, и приготовились, сидя, провести в пути нашу четвертую ночь.
К счастью еще, что мест свободных было много, и мне удалось лечь и растянуться во всю длину; это было воспрещено, но когда контролер, войдя в наш вагон, понял, какой путь мы совершили и как устали, то ограничился тем, что попросил подложить под ноги газеты. Милые итальянцы с их добрым сердцем!
Поезд еще стоял на миланской станции, когда я глубоко уснул. Была темная ночь; сквозь сон я услыхал голос моего отца: «Проснись, Филя, приехали!»
Я, с большим трудом, открыл глаза. За окном во мраке виднелись очертания гор и мелькали огни Генуи. На станции отец нанял такси и велел везти нас в хорошую гостиницу в центре города. Через десять минут мы оказались в отеле «Бристоль» и, сняв в нем номер, тотчас улеглись спать. Проснувшись около полудня и приведя себя в порядок, мы сошли в ресторан обедать; всё было чрезвычайно дорого. Пообедав, отец отправился на место своей службы, в Торгпредство, находившееся очень близко от нашего отеля, а мы с мамой пошли гулять по улице Двадцатого Сентября13, главной артерии города.
Вернувшись в отель, мы там застали папу в компании одного из его новых сослуживцев, Юлиана Донатьевича Ландберга, который нам посоветовал сегодня же переехать в Нерви, небольшое предместье Генуи, в котором проживало тогда большинство служащих Торгпредства. Вечером того же дня, т. е. 2 сентября 1927 года, мы отправились туда и поместились на несколько дней в «Международном» отеле, находящемся на его центральной площади. Для меня началась новая жизнь.
Bepul matn qismi tugad.