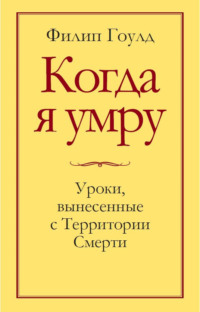Kitobni o'qish: «Когда я умру. Уроки, вынесенные с Территории Смерти»
Русское издание книги посвящено памяти Юрия Николаевича Стабникова, мужественно боровшегося с раком до последнего дыхания, как и многие другие жертвы этой страшной болезни.
Мы благодарим врачей и сотрудников Первого московского хосписа, лично Главного уролога России д.м.н. Дмитрия Юрьевича Пушкаря, а также всех специалистов, медсестер, санитарок, сотрудников «Скорой помощи», которые, не жалея сил, с душевной теплотой помогают людям, страдающим этим тяжелейшим недугом.
Посвящается персоналу больниц Royal Marsden Hospital, Лондон, и Royal Victoria Infirmary, Ньюкасл.
Предисловие
Впервые я встретился с Филипом Гоулдом 15 июня 2011 года. Мы с Джеймсом Хардингом, редактором «The Times», приехали к нему домой – он жил неподалеку от Риджентс-парка. Мы ожидали увидеть человека на пороге смерти, но перед нами был полный жизни мужчина. Еще бы! В этот самый день ему подарили надежду прожить еще полтора года. Он был весел и общителен, предвкушал поездку по Италии в обществе жены Гейл Ребак.
Мы пришли к нему как к автору пространного и по дробного описания всех перипетий лечения рака пищевода. (Это описание составляет первые главы настоящей книги.) Филип был уверен, что его текст заслуживает того, чтобы с ним ознакомилась как можно более широкая аудитория. По объему он составлял более двадцати тысяч слов, а нам, газетчикам, трудно иметь дело с такими статьями. Чересчур длинная для того, чтобы разбить ее на части и подать в нескольких номерах, она в то же время была слишком короткой для публикации отдельной книгой. При этом автор настаивал, чтобы его текст увидел свет именно в газете «The Times». Материал производил такое глубокое впечатление, что Джеймс решил печатать его целиком, не пожертвовав ни единым словом, и выделять под него по четыре газетные полосы каждый день в течение недели.
Мы договорились снабжать каждую публикацию интригующей концовкой, чтобы читатели с нетерпением ждали продолжения. Филипу понравилась идея сделать из его рассказа триллер. Решено было пустить весь цикл под единым названием «Unfinished Life» («Жизнь без конца»), намекнув таким образом на политологический трактат Филипа «Unfinished Revolution» («Революция без конца»).
Филип активно помогал нам дробить текст на самостоятельные куски, засыпал нас электронными письмами, требовал, чтобы ему давали на вычитку корректуру и подписи под иллюстрациями. Кроме того, вместе с Гейл они дали трогательное интервью Дженис Тернер, обозревателю «The Times Magazine».
Когда эта серия статей увидела свет, читатели «The Times» встретили ее с искренней доброжелательностью, в которой невозможно было усомниться. Отдел писем просто утонул в потоке читательских отзывов.
Через пару недель Филип отправился в поездку по Италии, где намеревался дописать еще страниц двадцать к новому изданию книги «Революция без конца». На поверку там оказалось не двадцать, а все сто сорок страниц, которые и вошли в последнее издание.
Мы решили опубликовать новую часть такими же выпусками, как это делали прежде, и приступили к подготовке проекта, интенсивно обмениваясь электронными письмами. В сентябре корректура была готова, но к тому моменту мы уже знали, что болезнь вернулась к Филипу с новой силой.
Это ничуть не ослабило энтузиазма, с которым он относился к нашему общему делу. Он снова стремился участвовать в проекте на всех его этапах, спорил со мной о заголовках, придирался к каждому слову, желая, чтобы его мысли дошли до читателя во всей их полноте. Попутно он продолжал обсуждать планы чего-то большего, только начавшегося с изданием «Жизни без конца». Он хотел не просто написать историю своей болезни – впереди его ждали новые этапы лечения и крепнущая уверенность в неминуемой смерти.
На этих страницах он рассказывает, как сначала не видел никакого смысла в том, чтобы убедиться в своей обреченности. Это ведь ужасный момент для человека, который всю свою жизнь построил на подчинении каким-то целям, на формировании стратегий, ведущих к решению конкретных задач. И вот перед ним встала новая цель – писать и говорить о лицезрении смерти на таком уровне и с такой глубиной, которые не только облегчили бы муки сострадания его близким, но и оказались бы полезны множеству посторонних людей.
Когда Филип и его давний друг Аластер Кемпбелл1 затевали очередную политическую кампанию, они любили говорить: «Стратегия, не изложенная на бумаге, всего лишь пустые слова». Новая стратегия Филипа состояла в том, чтобы научиться смотреть в глаза неминуемой смерти. И эту новую стратегию требовалось зафиксировать в словах. Разумеется, наша газета тоже хотела бы больше узнать об этой стороне жизни, и вот мы снова стали активно обмениваться электронными письмами, только на этот раз уже я проявил инициативу.
Впрочем, теперь сама болезнь и перипетии ее лечения были уже не столь актуальны. Филип ступил на Территорию Смерти, как он сам ее определял, и хотя он не прекращал писать, слова у него рождались не так бойко, как раньше.
В это время он дал несколько замечательных интервью. В одном из них, от 18 сентября, беседуя с Эндрю Марром с радиостанции ВВС, он откровенно говорил о своей болезни и ее почти гарантированном исходе. Он говорил о том, что чувствуешь, пребывая на Территории Смерти, и его спокойное мужество перед лицом неотвратимого никого не оставило равнодушным.
Двумя днями позже появилось еще одно интервью – Саймону Хаттенстоуну из «Guardian». И снова Филипп искренне рассказывал о своей болезни, подчеркнув, что он смирился с неизбежностью смерти и готов ее принять.
Прямота этих высказываний привела семью Филипа в замешательство, поскольку оба интервью организовывались всего лишь для продвижения нового издания книги «Революция без конца» и вовсе не имели целью обсуждение его здоровья. Теперь всем стало ясно, что Филип полон решимости открыто высказаться об опыте умирания.
Его силы были подорваны и лечением, и самим ходом болезни, однако Филип продолжал писать. Конечно, теперь у него не хватало сил на шлифовку стиля, но его слова дышали той же страстью.
К концу октября он дал два длинных интервью Адриану Стайрну, австралийскому фотографу и кинематографисту, получившему право на съемку короткого фильма о Филипе. Адриан договорился, чтобы съемочная группа отправилась на кладбище в Хайгете вместе с Филипом. Там была сделана фотография Филипа рядом с его будущей могилой (этот снимок можно увидеть на суперобложке книги, которую вы сейчас держите в руках).
Два заснятых Адрианом интервью дали нам материал, который мы включили в главу «Территория Смерти». Я несколько переработал этот текст, опираясь на собственные записки и примечания Филипа. Когда он говорил эти слова, ему оставалось жить не больше недели, но мыслил он абсолютно ясно, а его энергия казалась безграничной.
Пока Филип мог стучать по клавиатуре, он продолжал писать. Затем он стал диктовать свои мысли Гейл, сидевшей у его постели в больнице. Он обрисовал идеи, которые должны были лечь в основу композиции его книги, и надиктовал названия всех глав. Кое-что из этих материалов имеет фрагментарный характер, и это вполне можно понять, но я постарался сохранить почти все без изменений.
За пять дней до смерти Филип снова попал в отделение интенсивной терапии, и постоянный доступ к нему имели только три человека, хотя он продолжал принимать посетителей и обмениваться с друзьями письмами по электронной почте. Джорджия Гоулд, старшая дочь Филипа, взяла на себя трудную работу – описать последние дни жизни отца. Ее текст стал одной из глав настоящей книги. Грейс Гоулд вкратце описала свои отношения с отцом, а Гейл Ребак в послесловии рассказала о том, как четыре года протекала болезнь Филипа и как задумывалась эта книга. Последнее слово было предоставлено Аластеру Кемпбеллу: его электронное письмо, адресованное близкому другу и соратнику, было зачитано Филипу за несколько часов до смерти, а потом еще раз во время похоронной церемонии.
Его кончину оплакал весь политический мир Британии (особенно это касается лейбористского крыла), но для того, чтобы оценить величие Филипа Гоулда как человека, нам не требуется вспоминать о его политических взглядах. Всей своей жизнью он демонстрировал ту доблесть, которую редко оценивают по заслугам. Она называется энтузиазм. Его убежденность, что стоящая впереди цель достижима, вдохновляла все его окружение – от коллег до членов семьи, близких друзей и даже футболистов команды «Queens Park Rangers». Всегда открытый и дружелюбный со всеми, даже совсем незнакомыми людьми, он был всей душой предан друзьям и при этом честен и благороден по отношению к противникам. После его смерти стало понятно, сколь весомый вклад он внес в британскую политику.
Сражаясь с бедами и угрозами, привнесенными в его жизнь смертельной болезнью, он даже в этой борьбе сумел увидеть свой общественный долг. Он поставил себе целью просветить окружающих и принести им успокоение, победить то, что он трактовал как неведение и непонимание, и, конечно, страх. Именно это и были враги, сгрудившиеся вокруг него во время роковой болезни и процедур лечения.
Один раз Филип уже пережил опыт смерти. Это было в молодости, когда он присутствовал при смерти отца. «Вот последние слова, которые я от него услышал: „Это мой сын, и я горд за него“. И я решил оправдать эту его гордость». Гоулд помнил страдания, пережитые им в последние часы жизни отца. Он помнил, как мучительны были последние его вздохи, как страшил его звук смертного колокола. Эти же страхи должны были прийти к Филипу и в последний час его жизни.
Однако, ступив на Территорию Смерти, Филип решил исследовать и нанести на карту эти новые земли. Он обошел все их границы и решительно направился в самый центр неведомой страны. Данная книга – отчет об этой отважной кампании. Не так уж и важно, что она написана одним из самых влиятельных политиков последних двух десятилетий. Да, имена премьер-министров и других гигантов современной общественной жизни временами проскальзывают на этих страницах, но здесь они появляются в роли друзей, а не политических деятелей.
Эта книга не о политике. Это книга о раке и смерти. Это книга о человеке и его болезни, его семье и друзьях, врачах и медсестрах. А в самой сердцевине книги остаются жена Филипа Гейл и его дочери Джорджия и Грейс, которых он любил больше всего на свете.
Кит Блакмор
Подвиг странствия
Вся эта история начинается в десять утра во вторник 29 января 2008 года в одной частной лондонской клинике…
Я лежу на боку в самом центре эндоскопической лаборатории, несколько расслабленный из-за действия анестезии, но при этом в полном сознании. Я слышу тихий неразборчивый гул от разговоров персонала, а эндоскоп постепенно протискивается мне в глотку. Все, что он видит, тут же отображается на телеэкранах. Я предпочитаю на эти картинки не смотреть.
До поры до времени все идет так, как и должно быть, приглушенные голоса сообщают какую-то информацию, и тут – будто на стадионе Уэмбли забивают нежданный гол. Вся комната наполняется шумом и суетой. Врачи обнаружили опухоль, и я слышу слова: «Большая опухоль». Они говорят громко, не стесняясь, будто меня здесь нет, я словно бы наблюдаю со стороны, как решается моя участь.
Наконец эндоскоп вынимают, и врач с едва скрываемым возбуждением сообщает мне, что они только что обнаружили некое новообразование, которое наверняка является злокачественной опухолью, причем довольно крупной. Неопределенность страшит меня больше, чем сам диагноз. «Какие у меня шансы?» – спрашиваю я. «Пятьдесят на пятьдесят», – отвечает врач, и я ощущаю одновременно и отчаяние, и надежду. Все не так уж и здорово, но шансов больше, чем можно было бы ожидать. Есть за что бороться.
И тут неведомо откуда появляется хирург. Он быстро окидывает взглядом снимки и говорит, что имеет место раковая опухоль на стыке между пищеводом и желудком. И через секунду я перестаю быть хозяином собственной жизни.
Меня выкатывают из операционной и возвращают в мою палату, только теперь я уже не просто обследуемый, а раковый больной. В палату вбегает моя жена, Гейл Ребак. Ее лицо лучится надеждой и любовью, она уверена, что все будет в порядке. Всего лишь час назад мне сказали, что вероятность рака весьма мала, и я успел позвонить, чтобы развеять ее страхи. Это была ошибка – не следовало порождать ложные надежды.
Теперь я сообщаю ей страшную правду. Голос у меня хриплый, поскольку я нервничаю, и я вижу, как она на глазах надламывается, будто ее ударили в солнечное сплетение. Она говорит, что все будет хорошо, но не верит собственным словам. Я звоню дочери Джорджии, которая ведет какую-то исследовательскую работу в Манчестере. Она потрясена и никак не может воспринять эту новость. Гейл сама берет трубку и выходит из палаты, чтобы продолжить разговор. Сквозь двери я слышу их и понимаю, что обе уже в слезах. В этой ситуации самым страдающим оказываюсь не я.
Мы молча едем домой. Гейл пребывает мыслями где-то очень далеко. Она вглядывается в собственную жизнь, развертывающуюся перед ее глазами. Я чувствую себя виноватым. Получается, это я причинил ей горе.
Я сразу же принимаю решение вести себя так открыто и честно, как только можно. Я должен обсуждать случившееся с окружающими, а не решать этот вопрос в одиночестве. Да, я теперь нуждаюсь в помощи, но помощи ждут и от меня. Я не причисляю себя к настоящим лидерам, и если оказываюсь иной раз на руководящих позициях, то лишь потому, что умею объединять людей каким-то единым порывом, заражать их энтузиазмом и наделять энергией. Однако сейчас ситуация совсем другая. Теперь на меня возлагаются настоящие лидерские обязанности. Я завишу от помощи других людей, но и для них должен служить надежной опорой.
Я начал обзванивать знакомых, и разговоры с ними протекали вполне нормально. Я чувствовал их тепло, и оно придало мне силы. Я подумал, что нужно было раньше понимать, как хорошо ко мне относятся люди. В основном я слышал два утешающих аргумента. Первый: «К таким счастливчикам, как ты, болячки не липнут». Второй: «Ты исключительно сильный человек, так что и здесь выйдешь победителем». Итак, первый аргумент уже опровергнут. Остаются надежды только на второй.
В первую очередь я собирался позвонить младшей дочери Грейс, которая в это время была в Оксфорде. Мне почему-то не хотелось сообщать эту новость по телефону, и я сказал, что мы собираемся вечером ее навестить. Я добавил, что дела достаточно серьезные, но мне хочется поговорить с ней с глазу на глаз. В таком повороте тоже были свои сложности, но это было лучшее, что я мог придумать.
Мою сестру Джилл новость потрясла, но она приняла ее с присущей ей добротой. Она у меня проповедник, так что уж ей-то всегда удается найти нужные слова. Родители Гейл сразу утратили равновесие, и успокоить их было весьма сложно. Питер Джонс, мой самый близкий друг еще со времен учебы в Университете Сассекса (University of Sussex), всегда отличался неколебимым оптимизмом, но и в его голосе я почувствовал тревогу.
Аластер Кемпбелл просто впал в ступор. На своем веку он уже сталкивался с раком, и теперь ему было суждено увидеть, как еще один из его ближайших друзей и политических соратников падет жертвой этого заболевания. И тем не менее он, как всегда в сложных переделках, продемонстрировал абсолютное хладнокровие и преданность. В такие крайние моменты ему все по плечу.
Позже он перезвонил Джорджии и попытался ее успокоить. Потом она рассказала мне, что после моего звонка впала в панику, поскольку никогда раньше не допускала и мысли о моей смерти или хотя бы болезни. Она почувствовала опустошенность, пребывала в какой-то истерии, бесцельно бродила по улицам Манчестера, пока ей не дозвонился Аластер. Наши дети росли вместе, как члены одной семьи, и Калум, младший сын Аластера, который учился в Манчестере в университете, нашел мою дочь и все время был рядом с ней. Вот так, вместе, они вернули ее к жизни.
Мэтью Фройд2, с кем отношения у меня завязались совсем недавно, заверил, что, как бы ни повернулись события, он всегда будет рядом. Мой верный друг Энджи Хантер показал образец типично среднеанглийской духовной стойкости. Впрочем, мы это видели не раз, когда он выступал в роли «стража ворот» Тони Блэра. Питер Хайман, стратег из команды Блэра, покинувший Даунинг-стрит для того, чтобы стать учителем, ото звался с присущей ему душевностью и участием. Во время выборов 1997 года мы вместе сформировали «Пакет обещаний» партии лейбористов, и эта совместная работа сблизила нас надолго.
Затем я позвонил на Даунинг-стрит. Когда-то я делал это регулярно, но в последнее время такие звонки стали редкостью. Впрочем, тамошние телефонисты меня еще не забыли, и парнишка, говоривший со мной, почувствовал, что дело серьезное, и был со мной исключительно добр. На следующий день ожидалась моя презентация перед Гордоном Брауном по вопросу восприятия его общественностью. Доклад должен был основываться на некоторых организованных мной опросах. В конце концов меня соединили с кем-то в его офисе, и я сказал, что выступить не смогу, так как у меня обнаружили рак. Буквально через несколько минут мне позвонил сам Гордон, и в его низком, скрипучем голосе чувствовалась искренняя озабоченность. Это был лишь первый из звонков, которые ему предстояло сегодня сделать. Презентация должна была обойтись без меня. Выводы, представленные в ней, не могли порадовать заказчика, и я чувствовал некоторую неловкость, что так или иначе огорчаю симпатичного мне человека.
Так и прошел весь этот день – в телефонных звонках от меня в окружающий мир и из мира мне. Какая-то часть моей души, несомненно, получала удовольствие от того, что я вдруг стал центром общего внимания, и я был готов поэксплуатировать это чувство, сделав его своего рода психологической поддержкой.
Часов в шесть вечера мы поехали в Оксфорд. Стойкая как всегда, Гейл уже держала себя в руках. Это была молчаливая поездка, и мы успели о многом передумать. Больше всего мы беспокоились о том, как воспримет эту новость наша Грейс. Когда мы приехали, она стояла с решительным видом у входа в свой колледж. На ее лице я увидел спокойную сосредоточенность. Я сразу выложил, что у меня рак в серьезной форме, и она ответила в своей манере – прямо, резко и не без юмора: «Когда ты позвонил, я сразу поняла, что нужно ждать неприятностей – либо у тебя рак, либо вы с мамой решили разводиться».
Мы поужинали вместе в теплой интимной обстановке. Правда, тревога не отпускала, и прощаться было очень грустно. Обратно мы с Гейл ехали тоже практически молча.
Так закончился первый день моей болезни.
Ночью я проснулся и на какие-то минуты не у стоял перед лавиной страхов, черных мыслей, напавших на меня, как стая демонов. Но тут включилась жажда жизни, и я начал расправляться со своими страхами почти как с врагами в видеоигре. Все угрожающие удары я отражал один за другим, выводя их из мрака на свет. Такая стратегия оказалась вполне эффективной, и отныне у этих демонов больше не было шансов на успех. (Со временем мне пришлось разработать незамысловатую форму медитации и придумать несколько простых утверждений, которые в моем случае работали безотказно. Я научился сам, своими силами менять свое настроение, а это принципиально важный навык, если вы хотите выжить, заболев раком.)
На следующий день я вернулся в Лондонскую клинику3, чтобы переговорить с Сатвиндером Муданом, тем самым хирургом, который появился неведомо откуда во время моей роковой эндоскопии. Это был молодой, энергичный и рассудительный человек. Он чувствовал себя как рыба в воде в замысловатых течениях высокоумной беседы. Как и многие хирурги, во взглядах на жизнь он придерживался здорового скепсиса – того самого, который считает, что «стакан наполовину пуст». Да, сказал он, операция – это отчаянная боль, дальше еще хуже, три или четыре дня в отделении интенсивной терапии, где обстановка шумная и крайне неприятная. И все это ради отнюдь не гарантированного выживания и выздоровления.
После двух собеседований он дал моей жене экземпляр редактированной им книги по вопросам рака пищевода. В ней было множество цветных фотографий страшноватых опухолей самой разной природы, но самое неприятное – в книге утверждалось, что шансы на выживание не превышают 10 процентов. Прекрасное чтение на ночь для Гейл.
Так я впервые услышал о раке пищевода. Теперь я знаю – сейчас в мире случаев такого рака становится все больше и больше, и он относится к числу самых трудноизлечимых.
Теперь уже никто не может сказать, когда у меня началась эта болезнь. С младых ногтей мой организм реагировал на стресс болями в желудке, которые стали привычным сопровождением всей моей жизни. Врач сказал мне, что моя форма рака при зарождении зачастую заявляет о себе острыми болями, но потом эти боли стихают, и так может продолжаться годами, пока не становится слишком поздно. Это одна из причин, почему такой рак столь часто приводит к летальному исходу.
Приведенное описание полностью соответствует моему случаю. Когда-то я пережил короткий период крайне неприятных ощущений, но потом он прошел и сменился привычным несварением и легким покашливанием во время еды. Время от времени я обращал на это внимание и начинал беспокоиться, но это беспокойство никогда не доходило до того, чтобы отнестись к вопросу достаточно серьезно и отправиться на эндоскопию. Я знал, что раньше или позже этим придется заняться, но руки так и не дошли.
Доктор Сатвиндер ясно обрисовал мою ситуацию – если рак распространился достаточно широко, я уже не имею никаких шансов, но если опухоль еще компактна, то лечение возможно. Вся следующая неделя уйдет на подробное обследование, которое должно показать, сможем ли мы прибегнуть к хирургии. Мне манеры этого врача пришлись по душе. Он говорил четко и убедительно, а в моей ситуации он был единственным источником достоверной информации. Я нуждался в помощи здесь и сейчас, и он продемонстрировал способность действовать оперативно и компетентно.
В тот же день меня направили на компьютерную томографию, назавтра меня ждала лапароскопия, потом настал черед томографии на базе позитронной эмиссии и для ультразвуковой эндоскопии. В общем, мое будущее решали такие изощренные методы обследования, о существовании которых я и слыхом не слыхивал.
Возвращаясь домой, я буквально тонул в телефонных звонках, а в доме росли груды поднесенных цветов. В те дни я записал в своем дневнике: «Я погружаюсь в теплую волну любви многих десятков людей, эта любовь обладает почти физической силой, она будто приподнимает меня и проносит сквозь самые тяжелые минуты. А по ночам я начинаю чувствовать магическую силу молитвы». Питер Мандельсон4 позвонил, чтобы поделиться одной бесспорной мыслью: «Будет непросто, но другие люди уже проходили через это, так что и тебе никуда не деться». Он был прав, как бывал прав почти всегда.
В четверг меня навестил Тони Блэр, и с этого визита началась совершенно новая полоса в наших отношениях. Вплоть до сего момента мы были друзьями и коллегами, достаточно близкими, но не без некоторой натянутости. Рак моментально снял все эти проблемы. Придя ко мне домой, он дал волю таким чувствам, каких я за ним раньше не замечал. Он признался, что всегда уважал мои заслуги, доверял мне, но только сейчас понял, что моя работа заслуживает более высокой оценки. Я понимал, что за этой неожиданной открытостью стояло не мое заболевание, а то, что происходило в его душе. Столкнувшись лицом к лицу со смертельной болезнью, он дал волю тем чувствам, которые держались под спудом из-за сухой атмосферы в нашей официальной и публичной жизни.
Есть тут и еще одна причина. Тони – человек глубоко религиозный, опирающийся на четкие представления о нравственных ценностях. В то же время он полагает, что эти ценности, равно как и вообще его религиозные убеждения, должны быть полностью замкнуты в сфере его частной жизни, не выступая на первый план в общественных отношениях, которые играют в его жизни столь важную роль. В его мировоззрении между Церковью и Государством пролегает отчетливая граница, так что в этом смысле его можно назвать «светским политиком».
Но вот он столкнулся с моей болезнью, и мы сразу же оказались за пределами публичной сферы, перенесшись в мир частной жизни. Вот тут и вырвались на волю его религиозные взгляды, его чувство сострадания, его нравственные устои. Теперь уже можно уверенно сказать, что Тони сделал все возможное, чтобы поддержать меня и мою семью в этом несчастье. От первого и до последнего дня он практически ежедневно проявлял заботу в той или иной форме.
Стена, воздвигнутая между общественной и частной жизнью, неизменно присутствует в судьбе всех политиков. Много охотников рассмотреть их личную жизнь под сильной лупой, но мало кто понимает их душу. На этих страницах я часто буду упоминать тех или иных политических деятелей, хотя бы просто потому, что это мои друзья, сыгравшие какую-то роль во всей этой истории. Но, кроме того, я просто хотел бы показать, что они собой представляют, когда не выступают в лучах софитов, а действуют как частные лица. И сейчас я могу твердо сказать: никто из них – без единого исключения – не подвел меня в тяжелую минуту.
В следующий понедельник я вернулся в больницу и получил результаты обследования. Доктор Сатвиндер сказал, что у меня карцинома в месте сопряжения пищевода с желудком, что сама опухоль относится к типу аденокарцином (этот тип характерен для представителей среднего класса в среднем возрасте, если они подвержены регулярным стрессам, – иначе говоря, речь идет именно о вас, читатели моей книги) и что она уже достигла пяти сантиметров в ширину. С другой стороны, пока еще не отмечено каких-либо признаков ее распространения по всему организму, так что в данный момент целесообразно было бы начать химиотерапию.
По рекомендации Сатвиндера я решил лечиться у доктора Мориса Слевина в Лондонском онкологическом центре (London Oncology Centre). Короче говоря, я полностью препоручил себя частной медицине, что изрядно огорчило мою дочь Джорджию. Она считала, что мне следует придерживаться системы государственного здравоохранения (National Health Service, NHS). В глубине души я понимал, что она права, однако в тот момент для меня естественно было придерживаться тех путей, которые были уже знакомы и сулили большую ясность. Частная медицина привлекала меня отчасти по рациональным, а отчасти и по эмоциональным причинам. Я взял за правило проводить регулярные обследования в частных клиниках, после того как мой терапевт сказал, что не слишком доверяет профилактическим обследованиям, полагая такую практику контрпродуктивной.
Когда я первый раз ощутил проблемы с глотанием и понял, что у меня не все в порядке, я без лишних раздумий обратился в частную клинику, где мне сразу же диагностировали рак и расписали все дальнейшие действия. Разумеется, и на этом этапе я мог бы поменять планы, но тогда я боялся нарушить сложившийся ход вещей, а кроме того, испытывал некое подспудное недоверие к государственному здравоохранению. Потом я избавился от этого предрассудка, хотя и не сразу. В тот момент я нуждался хоть в каком-то чувстве безопасности.
Морис Слевин оказался весьма энергичным южноафриканцем. Моя жена упрекнула его в некой «лихости», но такая оценка не совсем точна. Он был окружен атмосферой высоких технологий и современной науки, где не оставалось места для ленивой вальяжности, которая отличает мир частной медицины. Он говорил доверительным тоном, убеждая своей аргументацией (что на том, первом, этапе было для меня большой поддержкой). Он разъяснил мне, что химиотерапия почти наверняка будет не так страшна и мучительна, как мне казалось по рассказам знакомых.
Он объяснил, что меня ждет лечение, соответствующее стандартному протоколу MAGIC, принятому для рака пищевода. Он был разработан в Великобритании и получил распространение по всему миру. Конкретнее это означало три курса химиотерапии до операции и три после. Они должны были проводиться лекарствами комплекса EOX (epirubicin, oxaliplatin, cape citabine). Скорее всего, мне грозило облысение, да и то не обязательно, если пользоваться такой штукой, как «холодная шапочка» – в ходе процедур она должна была охлаждать мне голову. (Потом выяснилось, что именно эта «шапочка» оказалась самым неприятным моментом во всем процессе.)
Химиотерапия проводилась в подвальном помещении, где было светло и царила дружелюбная атмосфера. Каждому пациенту выделялось нечто вроде пары авиационных кресел. Первая процедура была назначена на 12 февраля. Она началась в девять утра и представляла собой серию внутривенных вливаний. Жидкость вводилась в мое тело через специальный «краник», который мне предварительно вживили, проведя на вене маленькую операцию.
Первым делом в меня вливали физиологический раствор, затем препараты от тошноты, после чего шли два лекарства собственно химиотерапии. Третье лекарство нужно было принимать уже дома в виде таблеток. Ни одна из этих процедур не оказалась болезненной или неприятной, хотя я был несколько напуган, увидев, что после второго вливания моя моча стала ужасающего ярко-красного цвета. Воздействие терапии было мощным, и я сразу же чувствовал, как эти препараты проникают в мое тело. В целом терпеть все это было не так уж и трудно.
Приходила Гейл и часами сидела рядом со мной, пока мне в вену текли растворы из капельницы. Иной раз при мне была Салли Морган. Салли заправляла всеми делами в политической конторе Блэра. Там за ее дружелюбием и теплотой ощущалась внутренняя твердость. Когда-то, на самом тяжелом этапе премьерской карьеры Тони Блэра, она служила ему совершенно незаменимой опорой и защитой. Теперь такая же опора понадобилась и мне.
Я же тем временем сосредоточенно настраивался на борьбу с раком. Джорджия купила мне полное собрание речей Черчилля, и я слушал их, тренируясь на беговой дорожке и готовясь к операции.
Все мысли, которые приходили мне в голову касательно моего заболевания, имели стратегический характер, будто я планировал какую-нибудь предвыборную кампанию. Выздоровление от рака я мыслил как победу, а результаты обследования – как предвыборные опросы общественного мнения. Аластер Кемпбелл называл мой рак Адольфом, а меня – Черчиллем.
Со стороны я, наверное, казался ненормальным. В некотором смысле так оно и было, но уж так я воспринимал эту ситуацию, как всегда воспринимал свою жизнь. Мне нравилась политика, а предвыборная борьба нравилась еще больше. Моя первая предвыборная кампания развертывалась в 1987 году, и я надеялся, что последняя состоится в 2010 году, хотя мне всегда казалось, что на каком-нибудь частном поприще от меня будет не меньше пользы. Но больше всего на свете мне нравился сам процесс размышлений, построения стратегических планов, поиска ответов на неразрешимые политические вопросы. Именно этим я сейчас и занимался, ни на минуту не прерывая мыслительный процесс. И думал я не просто о том, как выкрутиться из этой ситуации, а о том, как это сделать наилучшим образом.