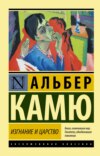Kitobni o'qish: «Книга непокоя»
Fernando Pessoa
Livro Do Desassossego
Ольга Сапрыкина благодарит студентов МГУ им. М. В. Ломоносова за участие в работе над редактурой книги – Ольгу Григорьеву, Анну Лябихову, Анастасию Кузнецову, Екатерину Соловьеву и Татьяну Юдову
© Дунаев А. Л., перевод, 2018
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2018
* * *
Предисловие
Есть в Лиссабоне немного ресторанов или харчевен, в которых над лавкой, выглядящей как приличная таверна, возвышается антресоль, своим тяжеловесным и скромным видом напоминающая кабак в маленьком городе, через который не проходят поезда. На антресоли, куда, за исключением воскресений, мало кто заходит, часто встречаются любопытные персонажи, безучастные лица, чудаки, ведущие обособленную жизнь.
В определенный период моей жизни желание покоя и умеренные цены часто приводили меня в одну из таких антресолей. Когда мне доводилось ужинать около семи часов, так случалось, что я почти всегда встречал одного человека, внешний вид которого поначалу мне был безразличен, но со временем заинтересовал меня.
Это был мужчина на вид лет тридцати, худой, скорее высокий, чем низкий, сильно сутулившийся, когда сидел, но выпрямлявший спину, когда стоял, одетый несколько небрежно, но не выглядевший совершенно небрежно. Печать страдания на бледном лице, черты которого не вызывали интереса, оригинальности ему не прибавляла, и было трудно определить, на страдание какого рода эта печать указывала – казалось, она указывала на различные лишения, тоску и на то страдание, что рождается от безразличия, которое свойственно тем, кто много страдал.
За ужином он всегда ел мало и после всегда выкуривал самокрутку. Он чрезвычайно внимательно разглядывал окружавших его людей, не с подозрением, а с особым интересом; однако наблюдал он за ними не пытливо, а так, словно ими интересовался, не желая при этом изучать их черты или вникать в проявления их характера. Эта любопытная черта изначально и возбудила во мне интерес к нему.
Я стал к нему присматриваться и убедился, что некое интеллигентное выражение придавало неопределенную живость его чертам. Но подавленность, оцепенение ледяной печали настолько часто покрывали его облик, что было трудно разглядеть какие-либо другие особенности, помимо этой.
От одного официанта из ресторана я узнал, что он был торговым служащим в одной компании, расположенной неподалеку.
Однажды на улице, под окнами, случилось происшествие – кулачная драка между двумя типами. Те, кто находился на антресоли, кинулись к окнам, и я тоже, вместе с тем человеком, о котором я рассказываю. Я бросил ему случайную фразу, и он мне ответил что-то в том же духе. У него был низкий дрожащий голос, как у тех, кто ни на что не надеется, потому что надеяться совершенно бесполезно. Но, пожалуй, нелепо было придавать такое значение моему вечернему собеседнику из ресторана.
Не знаю почему, но с того дня мы начали здороваться. В обычный день, когда нас, возможно, сблизило то нелепое обстоятельство, что мы оба пришли ужинать в половину десятого, между нами завязался случайный разговор. В какой-то момент он спросил, пишу ли я. Я ответил утвердительно и рассказал ему о недавно появившемся журнале «Орфей»1. Он его похвалил, похвалил обстоятельно, чему я искренне удивился. Я позволил себе заметить, что мне это было странно, потому что мастерство тех, кто пишет для «Орфея», обычно доступно немногим. Он ответил, что, возможно, был одним из этих немногих. Впрочем, добавил он, это искусство для него не стало чем-то новым: он робко заметил, что, поскольку ему некуда ходить и нечего делать, у него нет друзей, которых он мог бы навещать, и ему неинтересно читать книги, то по ночам он имеет обыкновение писать в своей съемной комнате.
* * *
Он обставил – это не могло ему не стоить отказа от некоторых жизненно важных вещей – с некоторой роскошью обе свои комнаты. Особое внимание он уделил стульям – они были с подлокотниками, обивкой, пружинами, – а также занавескам и коврам. Он говорил, что создал такой интерьер, «чтобы поддержать достоинство тоски». В комнате, обставленной в современном стиле, тоска превращается в дискомфорт, в физическую боль.
Ничто никогда не вынуждало его что-либо делать. Детство он провел в уединении. Так случилось, что он никогда не примыкал ни к каким группам. Никогда не посещал никаких курсов. Никогда не был частью толпы. В нем проявился тот любопытный феномен, который проявляется во многих – кто знает, при ближайшем рассмотрении, быть может, и во всех, – случайные обстоятельства его жизни сложились по образу и подобию того направления, куда двигались его инстинкты, полностью предопределенные бездействием и обособленностью.
Ему никогда не приходилось сталкиваться с требованиями государства или общества. От требований же своих инстинктов он уклонился. Ничто никогда не сближало его ни с друзьями, ни с возлюбленными. Я был единственным человеком, который, в определенном смысле, стал ему близок. Но, несмотря на то что я всегда ощущал притворство его личности и подозревал, что он меня, на самом деле, никогда не держал за друга, я всегда чувствовал, что он должен был призвать к себе кого-то, чтобы оставить ему ту книгу, которую он оставил. Мне приятно думать, что, пусть даже поначалу, когда я это заметил, мне это причиняло боль, в конце концов, глядя на все исключительно глазами психолога, я таким образом стал ему другом, предназначенным для цели, ради которой он меня к себе приблизил – для издания этой книги.
Забавно осознавать, что и здесь жизненные обстоятельства ему благоприятствовали: они свели его со мной, человеком, по типу своего характера способным сослужить ему в этом деле немалую службу.
В этих впечатлениях без связи, без желания что-либо связывать я бесстрастно повествую свою автобиографию без фактов, мою историю без жизни. Это моя «Исповедь», и если я в ней ничего не говорю, то это потому, что сказать мне нечего.
Фернандо Пессоа
Часть первая
Дневник Бернарду Соареша, помощника бухгалтера в городе Лиссабоне
1.
Я родился в то время, когда большая часть молодежи утратила веру в Бога по той же причине, по которой старшие поколения ее придерживались – не зная почему. Но поскольку человеческий дух естественным образом склонен критиковать (потому, что чувствует, а не потому, что думает), то большая часть молодежи выбрала Человечество в качестве преемника Бога. Я, однако, принадлежу к тому типу людей, которые всегда находятся на краю того, чему они принадлежат, и видят не только толпу, частью которой они являются, но и просторы, что есть рядом. Поэтому я не отринул Бога так полно, как они, и так и не принял Человечество. Я счел, что Бог, будучи недоказуемым, все же мог бы существовать и ему, соответственно, нужно было бы поклоняться; однако Человечество, будучи просто биологической идеей и не означая ничего, кроме вида животных под названием человек, достойно поклонения не более, чем любой другой вид животных. Этот культ человечества с его ритуалами Свободы и Равенства мне всегда казался возрождением древних культов, в которых животные были богами или у богов были головы зверей.
Так, не умея верить в Бога и будучи неспособным верить в скопище зверей, я остался, как и другие отщепенцы, на таком расстоянии от всего, которое обычно называется Упадком. Упадок – это полная утрата бессознательности; ведь бессознательность – основа жизни. Сердце, будь оно способно думать, остановилось бы.
Что остается тем немногим, кто, подобно мне, живет, но не умеет жить, кроме отречения как образа действия и созерцания как судьбы? Мы не знали, что представляет собой религиозная жизнь, и не имели возможности это узнать, поскольку нельзя верить разумом; мы не имели возможности верить в абстрактное понятие человека и, сталкиваясь с ним, не знали даже, что с ним делать, и потому нам оставалось лишь эстетическое созерцание жизни в качестве оправдания наличия души. Так, чуждые торжественности всех миров, безразличные к божественному и презирающие человеческое, мы легкомысленно отдались бесцельному ощущению, лелеемому с утонченным эпикурейством, как подобает нашим мозговым нервам.
Из науки мы усвоили лишь ключевое положение о том, что все подчинено роковым законам, на которые невозможно реагировать независимо, поскольку реакция на них есть следствие их воздействия на нас, оказанного для того, чтобы мы отреагировали. Определив, как это положение сочетается с более древним положением о божественной неизбежности происходящего, мы отказались от усилий, как слабые отказываются от атлетической тренировки, и склонились над книгой ощущений с великим сомнением, продиктованным ощущаемой эрудицией. Не принимая ничего всерьез и даже не предполагая, что нам была дана реальность, отличающаяся от наших ощущений, мы в них укрываемся и исследуем их, словно большие неведомые страны. И если мы прилежно упражняемся не только в эстетическом созерцании, но и в выражении его приемов и результатов, то происходит это потому, что, когда мы пишем прозу или стихи, лишенные стремления убедить чужое понимание или сподвигнуть чужую волю, мы подобны лишь тому, кто читает вслух с целью придать полную объективность субъективному удовольствию чтения.
Мы хорошо знаем, что любое произведение должно быть несовершенным и что наименее надежным из наших эстетических созерцаний будет созерцание того, о чем мы пишем. Но несовершенно все, нет такого прекрасного заката, который не мог бы быть еще прекраснее, или такого навевающего на нас дремоту легкого ветерка, который не мог бы погрузить нас в еще более безмятежный сон. Так мы, созерцатели в равной степени и гор, и статуй, наслаждающиеся днями так же, как книгами, грезящие обо всем прежде всего для того, чтобы превратить это все в нашу сокровенную сущность, мы будем создавать описания и анализы, которые, будучи составленными, станут чуждыми нам вещами, которыми мы сможем наслаждаться так, будто бы они появились сами этим вечером.
Не так мыслят пессимисты вроде Виньи2, для которого жизнь – это тюрьма, где он плел солому, чтобы отвлечься. Быть пессимистом значит воспринимать все как трагедию, такой подход – досадное преувеличение. Разумеется, у нас нет критерия оценки, который мы могли бы применять к тому, что создаем. Разумеется, мы создаем, чтобы отвлечься, однако не как заключенный, что плетет солому, чтобы отвлечься от Судьбы, а как девушка, которая расшивает подушки, чтобы просто отвлечься.
Я рассматриваю жизнь как постоялый двор, где я должен пребывать до тех пор, пока не прибудет дилижанс из бездны. Я не знаю, куда он меня отвезет, потому что я ничего не знаю. Я мог бы считать этот постоялый двор тюрьмой, потому что вынужден в нем ждать; я мог бы считать его местом для общения, потому что здесь я встречаюсь с другими. Тем не менее, я не нетерпелив и не зауряден. Я оставляю тех, кто, запершись в комнате и вяло улегшись на кровати, ждет, не смыкая глаз; я оставляю тех, кто разговаривает в залах, откуда до меня отчетливо доносятся музыка и голоса. Я сажусь у двери и погружаю свое зрение и слух в цвета и звуки пейзажа и медленно пою себе самому неясные песни, которые сочиняю, пока жду.
Для всех нас настанет ночь и прибудет дилижанс. Я наслаждаюсь дарованным мне ветерком и душой, данной мне, чтобы им наслаждаться, и ни о чем не вопрошаю и ничего не ищу. Если то, что я напишу в книге постояльцев, однажды будет прочитано другими и развлечет их в пути, будет хорошо. Если они этого не прочитают и не развлекутся, будет тоже хорошо.
2.
Я должен выбрать то, к чему питаю отвращение – либо мечту, которую ненавидит мой разум, либо действие, которое не приемлет моя чувствительность; либо действие, для которого я не был рожден, либо мечту, для которой не был рожден никто.
В результате, питая отвращение к тому и другому, я не выбираю ничего; но, поскольку в некоторых случаях я должен либо мечтать, либо действовать, я смешиваю одно с другим.
3.
Я люблю покой Байши3 неспешными летними вечерами и особенно покой там, где он контрастирует с дневным гомоном. Арсенальная улица, Таможенная улица, продолжение печальных улиц, что тянутся на восток оттуда, где заканчивается Таможенная, вся обособленная линия спокойных пристаней – все это утешает меня в грусти, если в такие вечера я углубляюсь в одиночество их ансамбля. Я оказываюсь в эпохе, предшествующей той, в которой я живу; я наслаждаюсь ощущением, будто я – современник Сезариу Верде4, и во мне – не его стихи, а та сущность, которая в них есть. Там я до самой ночи волочу ощущение жизни, похожее на ощущение этих улиц. Днем они полны ничего не выражающего шума; ночью они полны отсутствия шума, которое не хочет ничего выражать. Днем я – ничто, а ночью я – это я. Нет разницы между мною и улицами, прилегающими к Таможенной, разве только они – улицы, а я – душа; это, возможно, ничего не значит в сравнении с тем, что является сущностью вещей. У людей и вещей абстрактная и потому одинаковая судьба – одинаково неопределенное положение в алгебраической системе координат тайны.
Но есть еще кое-что… В эти медленные пустые часы от души к разуму во мне поднимается грусть всего бытия, горечь оттого, что все одновременно является моим ощущением и чем-то внешним, что я не властен изменить. Ах как часто мои собственные грезы материализовались, но не для того, чтобы заменить собой мою реальность, а для того, чтобы показать мне, что они не мои и что это их объединяет; что я их не хочу, но они возникают – извне, как трамвай, разворачивающийся на последнем повороте улицы, или голос неизвестно что охраняющего ночного сторожа, голос, который выделяется арабским напевом, словно неожиданное клокотание, на фоне однообразия опускающегося вечера!
Проходят будущие супруги, проходят парами портнихи, проходят юноши, жадные до удовольствий; курят, прогуливаясь по своему неизменному маршруту, те, кто отошел от всех дел; у той или другой двери стоят праздные лентяи, владельцы магазинов. Медленные, сильные и слабые, новобранцы блуждают, словно лунатики, группами то очень шумными, то более чем шумными. Время от времени показываются обычные люди. Автомобили в это время попадаются не очень часто; из них доносятся звуки музыки. В моем сердце царит мир печали, а мой покой соткан из смирения.
Все это проходит, и ничто из этого ничего мне не говорит, все чуждо моей судьбе, чуждо даже собственной судьбе – бессознательность, неуместные возгласы, когда случай бросает камни, эхо неведомых голосов – коллективная мешанина жизни.
4.
И на вершине величия всех мечтаний – помощник бухгалтера в городе Лиссабоне.
Но такой контраст меня не раздавливает, а освобождает; и присутствующая в нем ирония – моя кровь. То, что должно было бы меня унижать, стало флагом, который я развертываю; а смех, который я должен был бы вызывать, стал звуком горна, которым я приветствую и создаю зарю, в которую превращаюсь.
Ночная слава того, кто чувствует себя великим, не будучи никем! Сумрачное величие неведомого великолепия… И вдруг я ощущаю благородство монаха, живущего в пустыни, уединенного отшельника, познавшего сущность Христа в удаленных от мира камнях и пещерах.
И, сидя за столом в моей нелепой комнате, я, никчемный безымянный служащий, пишу слова вроде «спасение души», и меня озаряет золотой свет небывалого заката в высоких, просторных и далеких горах, свет моей статуи, полученной за удовольствия, и кольца отречения на моем евангельском пальце, застывшей жемчужины моего экстатического презрения.
5.
Передо мной – две большие страницы тяжелой книги; я поднимаю от старого письменного стола уставшие глаза – душа устала еще сильнее глаз. Позади заключенного в этом ничтожества – склад, тянущийся до улицы Золотильщиков, ряд одинаковых полок, одинаковые служащие, человеческий порядок и покой заурядности. Из окна доносится шум разнообразия и разнообразный шум – зауряден, как покой, царящий близ полок.
Я опускаю взгляд и смотрю новыми глазами на две белые страницы, на которых мои осторожные цифры обозначили результаты компании. И с улыбкой, которую я таю для себя, я вспоминаю, что жизнь, у которой есть эти страницы с названиями тканей и суммами денег, с пробелами, линиями и строками, включает в себя еще и великих мореплавателей, великих святых, поэтов всех эпох – и не записан никто из них; многочисленные потомки избавляются от тех, кто на самом деле представляет ценность для этого мира.
В самой записи о какой-то ткани, о которой я понятия не имею, передо мной открываются врата Индии и Самарканда, а поэзия Персии, которая не принадлежит ни тому, ни другому месту, создает из своих четверостиший, не зарифмованных в третьем стихе, прочную опору для моего непокоя. Но я не обманываюсь, пишу, складываю, и записи, вносимые служащим этой конторы, текут своим чередом.
6.
Я так мало просил у жизни, но даже в этом малом жизнь мне отказала. Пучок солнечных лучей, поле, кусок покоя с куском хлеба, и чтобы меня не тяготило знание о моем существовании, и чтобы я не требовал ничего от других, и они ничего не требовали от меня. Даже в этом мне было отказано, подобно тому, как кто-то отказывается дать милостыню не потому, что у него черствая душа, а потому, что ему лень расстегивать пиджак.
Я пишу с грустью в моей спокойной комнате, в одиночестве, в котором я всегда пребываю, в одиночестве, в котором я останусь навсегда. И я думаю, не воплощает ли мой голос, кажущийся таким ничтожным, сущность тысяч голосов, жадное желание тысяч жизней высказаться, терпение миллионов душ, подобных моей, подчиненных обыденной судьбе, бесполезной мечте, надежде, не оставляющей следов. В такие мгновения мое сердце бьется сильнее, потому что я его осознаю. Я живу насыщеннее, потому что живу полнее. Я чувствую в себе религиозную силу, своего рода молитву, подобие крика. Но реакция против моей воли нисходит из моего разума… Я вижу себя на высоком пятом этаже на улице Золотильщиков, меня охватывает сон; я вижу на исписанной мною бумаге напрасную жизнь, лишенную красоты, и дешевую сигарету, которую я держу над старой промокашкой. И вот, на этом пятом этаже, я вопрошаю жизнь! Говорю о том, что чувствуют души! Сочиняю прозу, как гении и знаменитости! Здесь, я, вот так!..
7.
Сегодня, в очередной раз предаваясь фантазиям, лишенным цели и достоинства, фантазиям, составляющим значительную часть духовной сущности моей жизни, я вообразил, будто навсегда освободился от улицы Золотильщиков, от шефа Вашкеша, от бухгалтера Морейры, от всех служащих, от посыльного, от мальчика и от кота. Я почувствовал свое освобождение во сне, словно южные моря предложили мне открыть чудесные острова. Тогда наступило бы отдохновение, постижение искусства, умственное воплощение моего существа.
Но вдруг, в моем воображении, во власти которого я пребывал в кафе во время скромного полуденного отдыха, моя греза оказалась во власти неприятного ощущения: я почувствовал, что мне было бы жаль. Да, я говорю это совершенно осознанно: мне было бы жаль. Шефа Вашкеша, бухгалтера Морейру, кассира Боржеша, всех этих славных ребят, веселого посыльного, который относит письма на почту, мальчика на побегушках, ласкового кота – все это стало частью моей жизни; я не смог бы оставить все это без слез, без понимания, что, каким бы дурным мне все это ни казалось, с ними осталась бы часть меня, что расставание с ними было бы подобием смерти, означало бы наполовину умереть.
К тому же, если бы завтра я удалился от всех них и снял с себя этот костюм улицы Золотильщиков, к чему другому я пришел бы – почему это другое должно было бы появиться? в какой другой костюм я облачился бы? – почему я должен был бы облачаться во что-то другое?
У всех нас есть шеф Вашкеш, для одних – видимый, для других – невидимый. Для меня его действительно зовут Вашкеш, это цветущий, приятный мужчина, порой резкий, но лишенный двуличия, эгоистичный, но в глубине души справедливый, обладающий той справедливостью, которой недостает многим великим гениям и многим сотворенным человеком чудесам цивилизации, правой и левой. Другие увидят в нем тщеславие, стремление к еще большему богатству, к славе, к бессмертию… Но я предпочитаю, чтобы моим шефом был такой человек, как Вашкеш, с которым можно договориться в трудную минуту, а не любой абстрактный шеф мира.
На днях один друг, компаньон одной процветающей фирмы, которая ведет дела с государством, считающий, что я мало зарабатываю, сказал мне: «Соареш, тебя эксплуатируют». Мне это напомнило о том, что так и есть; но раз уж в жизни все мы должны подвергаться эксплуатации, я спрашиваю, не лучше ли, чтобы тебя эксплуатировал торговец тканями Вашкеш, а не тщеславие, слава, досада, зависть или недосягаемое.
Есть те, кого эксплуатирует сам Бог, они – пророки и святые в пустынности мира.
И я возвращаюсь, словно к очагу, который есть у других, в чужой дом, в просторную контору на улице Золотильщиков. Я располагаюсь за своим письменным столом, словно за бастионом, укрывающим от жизни. Я испытываю нежность, нежность до слез, к моим книгам, в которые я вношу чуждые мне записи, к старой чернильнице, которой пользуюсь, к согбенной спине Сержиу, который заполняет накладные чуть поодаль от меня. Я испытываю к этому любовь, возможно, потому, что больше мне любить нечего – или, возможно, еще и потому, что ничто не достойно любви души, и если мы должны дарить любовь, нет разницы, дарить ли ее мелкой детали моей чернильницы или бесконечному безразличию звезд.
8.
Шеф Вашкеш. Часто я необъяснимым образом подпадаю под гипноз шефа Вашкеша. Кто для меня этот человек, помимо случайного препятствия, хозяина моих часов в дневное время моей жизни? Он хорошо со мной обращается, любезно разговаривает, за исключением тех резких мгновений, когда он, охваченный неведомым беспокойством, бывает груб со всеми. Да, но почему меня это беспокоит? Он символ? Причина? Кто он?
Шеф Вашкеш. Я уже вспоминаю о нем в будущем с ностальгией, которую я знаю, что буду испытывать. Я буду спокойно жить в небольшом домике где-нибудь в пригороде, наслаждаясь покоем, и не буду делать то, чего не делаю сейчас, и буду искать новые оправдания, чтобы продолжать этого не делать, и они будут отличаться от тех, за которыми я прячусь от себя сегодня. Или меня поместят в приют для нищих, и я буду рад своему полному краху, оказавшись среди сброда тех, кто считал себя гением, но был всего лишь нищим мечтателем, среди безликой толпы тех, у кого не было ни власти, чтобы победить, ни большого самоотречения, чтобы победить, двигаясь от противного. Где бы я ни оказался, я буду с ностальгией вспоминать шефа Вашкеша, контору на улице Золотильщиков, и монотонность повседневной жизни для меня будет походить на воспоминание о любовных историях, которые со мной не случились, или о триумфах, которые не должны были быть моими.
Шеф Вашкеш. Я вижу его оттуда сегодня, как вижу его сегодня отсюда – среднего роста, коренастый, грубоватый, со своей ограниченностью и пристрастиями, честный и хитрый, резкий и обходительный – начальник не только потому, что у него есть деньги, но и по медлительным волосатым рукам с проступающими венами, похожими на маленькие окрашенные мускулы, по его полной, но не толстой шее, по румяным и, в то же время, гладким щекам под темной бородой, которую он всегда вовремя подстригает. Я вижу его, вижу его жесты, полные энергичной медлительности, его глаза, обдумывающие внутри то, что происходит снаружи, меня охватывает смятение, когда он бывает мной недоволен, и душа моя радуется его улыбке, улыбке широкой и человечной, как рукоплескание толпы.
Возможно, все потому, что в моем окружении нет более выдающегося человека, чем шеф Вашкеш, и часто этот обыкновенный и даже заурядный человек застревает у меня в голове и отвлекает меня от меня самого. Я верю, что в нем есть символ. Я верю или почти верю, что где-то, в давно прошедшей жизни этот человек имел в моей жизни большее значение, по сравнению с тем, что имеет теперь.
9.
А, я понял! Шеф Вашкеш – это Жизнь. Жизнь монотонная и необходимая, повелевающая и неизвестная. Этот банальный человек представляет собой банальность Жизни. Для меня он – все, что есть снаружи, потому что жизнь для меня – это все, что есть снаружи. И если контора на улице Золотильщиков представляет для меня жизнь, то этот мой третий этаж, где я живу, на той же улице Золотильщиков, представляет для меня Искусство. Да, эта улица Золотильщиков, по моему разумению, вбирает в себя весь смысл вещей, решение всех загадок, за исключением той, почему загадки существуют – у этой загадки решения быть не может.
10.
Вот такой я, ничтожный и чувствительный, способный на резкие, поглощающие порывы, дурные и хорошие, благородные и подлые, но никогда на длительное чувство, на продолжительные переживания, которые проникают в самую сущность души. Есть во мне склонность немедленно становиться чем-то другим; нетерпеливость души по отношению к самой себе, как по отношению к несвоевременно появившемуся ребенку; непокой, постоянно растущий и всегда одинаковый. Меня все интересует и ничто не увлекает. Любым делом я занимаюсь, погруженный в грезы; я отмечаю малейшие движения лицевых мускулов человека, с которым говорю, собираю мельчайшие интонации его речи; но, слыша его, я его не слушаю, я думаю о чем-то другом и из разговора менее всего ухватываю предмет, о котором говорил я или мой собеседник. Так, я зачастую повторяю кому-то то, что уже ему повторял, снова задаю вопрос, на который он мне уже ответил; но я могу описать четырьмя фотографически точными словами, каким было положение его мускулов, когда он мне говорил то, чего я не помню, или насколько его глаза были предрасположены слушать мой рассказ, хотя я и не помнил, о чем он был. Во мне – два человека, и оба держатся на расстоянии друг от друга, словно несросшиеся сиамские близнецы.
11.
Литания
Мы никогда не осознаем себя.
Мы две бездны – колодец, глядящий на Небо.
12.
Я завидую – хотя и не знаю, завидую ли – тем, о ком можно написать биографию или кто может написать собственную. В этих впечатлениях без связи, без желания их связать я бесстрастно рассказываю свою автобиографию без фактов, мою историю без жизни. Это моя «Исповедь», и если в ней я ничего не говорю, то это потому, что сказать мне нечего.
Что можно рассказать на исповеди ценного или полезного? То, что с нами произошло или произошло со всеми людьми или только с нами; в первом случае это не новость, во втором – недоступно пониманию. Если я пишу, что чувствую, так это потому, что так я ослабляю лихорадку чувствования. То, в чем я исповедуюсь, не имеет значения, потому что ничто не имеет значения. Я создаю пейзажи из того, что чувствую. Я устраиваю праздники из ощущений. Я хорошо понимаю тех, кто вышивает из горечи, и тех, кто вяжет, потому что в этом есть жизнь. Моя пожилая тетушка бесконечными вечерами раскладывала пасьянсы. Эта исповедь в том, что я чувствую, есть мой пасьянс. Я не истолковываю их так, как тот, кто обращается к картам, желая узнать судьбу. Я их не прослушиваю, потому что в пасьянсах у самих карт нет ценности. Я разматываю себя, словно разноцветный клубок, или делаю из себя веревочные фигурки, как те, что плетут на расставленных пальцах и что переходят от одних детей к другим. Я слежу только за тем, чтобы большой палец не испортил петлю, которая ему выпадает. Потом переворачиваю руку, и образ оказывается иным. И начинаю заново.
Жить значит вязать и думать о других. Но во время вязания мысль свободна и все зачарованные принцы могут гулять по своим паркам между стежками спицы из слоновой кости с перевернутым крючком. Кружево из явлений… Интервал… Ничего…
Впрочем, на что я могу рассчитывать, имея дело с собой? Ужасная обостренность ощущений и глубокое понимание того, что я чувствую… Острый ум, который меня разрушает, и сила грез, стремящихся меня развлечь… Мертвая воля и размышление, убаюкивающее ее, словно живое дитя… Да, кружево…
13.
Убожеству моего положения не препятствуют спрягаемые слова, при помощи которых я постепенно составляю свою книгу, случайную и продуманную. Я ничтожно живу в основании каждого выражения, словно нерастворимый осадок на дне стакана, из которого пили только воду. Я пишу свою литературу так, как веду свои рабочие записи – старательно и равнодушно. Перед обширным звездным небом и загадкой множества душ, перед ночью неизвестной бездны и плачем от полного непонимания – перед этим всем то, что я записываю во вспомогательной бухгалтерской книге, и то, что я пишу на бумаге души, одинаково ограничивается улицей Золотильщиков и очень мало касается миллионных пространств вселенной.
Все это мечта и фантасмагория, и мало имеет значения, является ли мечта бухгалтерскими записями или приличной прозой. Разве лучше мечтать о принцессах, а не о входной двери конторы? Все, что мы знаем, есть наше впечатление, а все, чем мы являемся, есть чужое впечатление, мелодрама с нашим участием, в которой мы ощущаем себя, становясь своими собственными зрителями, своими богами по разрешению Муниципалитета.
14.
Знать, что будет дурным то дело, которое никогда не будет сделано. Однако еще хуже будет то, что никогда не будет делаться. То, что делается, хотя бы остается сделанным. Пусть оно будет неважным, но оно существует, как чахлое растение в единственной кадке моей парализованной соседки. Ей это растение в радость, а иногда и мне. То, что я пишу и признаю дурным, тоже может подарить мгновения отвлечения от дурного той или другой удрученной или грустной душе. Мне этого достаточно или недостаточно, но в каком-то отношении это полезно, и такова вся жизнь.
Тоска, которая включает в себя лишь предвкушение еще большей тоски; горечь оттого, что завтра будешь испытывать горечь оттого, что испытывал горечь сегодня – огромная путаница без пользы и истины, огромная путаница…
…Там, где, съежившись на скамье ожидания на полустанке, спит мое презрение, укутавшись в пальто моего уныния…
…Мир виденных в грезах образов, из которых в равной степени состоят мои познания и моя жизнь…
Сомнения, охватывающие меня в этот час, меня нисколько не тяготят и длятся недолго. Я жажду расширения времени и хочу существовать без условий.
15.
Я покорил, шаг за шагом, внутреннее пространство, которое с рождения стало моим.
Я вытребовал, клочок за клочком, болото, в котором остался в своем ничтожестве.
Я породил мое бесконечное бытие, но вытащил себя клещами из себя самого.
16.
Я предаюсь фантазиям по дороге между Кашкаишем и Лиссабоном. Я отправился в Кашкаиш, чтобы оплатить взнос шефа Вашкеша за дом, который у него есть в Эшториле. Я заранее предвкушал удовольствие от поездки, час туда, час обратно, от того, как буду смотреть на всегда меняющийся облик большой реки и на место ее впадения в Атлантику. На самом же деле, по дороге туда я забылся в абстрактных размышлениях, глядя на водные пейзажи, которые я с радостью собирался смотреть, но не видя их, а по дороге обратно забылся, осмысляя эти ощущения. Я не смог бы описать даже самую мелкую деталь путешествия, самый мелкий фрагмент того, что можно было увидеть. Я сохранил эти страницы по забвению и из противоречия. Не знаю, лучше это или хуже противоположного, и не знаю, что есть это противоположное.