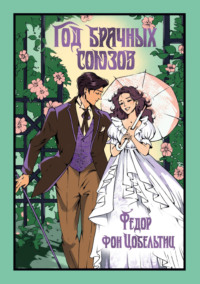Kitobni o'qish: «Год брачных союзов»
Fedor von Zobeltitz DAS HEIRATSJAHR
Перевод с немецкого Александры Варениковой
Серийное оформление и иллюстрация на обложке Екатерины Скворцовой
Оформление обложки Татьяны Гамзиной-Бахтий
© А. М. Вареникова, перевод, 2025
© Е. С. Скворцова, иллюстрация на обложке, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025 Издательство Иностранка®
* * *
Глава первая, в которой фройляйн Бенедикта фон Тюбинген предстает не в самом выгодном свете, а также много говорится о годе брачных союзов в графской семье фон Тойпен
В так называемом садовом салоне господского дома старый Ридеке давал указания, касающиеся завтрака. Как обычно, это занимало много времени, поскольку по утрам старый Ридеке никогда не спешил. Месяцем ранее ему исполнилось шестьдесят, однако он сохранял былую стать. В тот день он подчеркнул ее, надев белую льняную куртку в синюю полоску вместо длинной ливреи. Шейный платок был, как всегда, повязан со всей тщательностью. По мнению Ридеке, именно по этой детали можно было понять, стоит перед тобой господский слуга или же обычный лакей. Современные галстуки казались ему чем-то ужасным. На шее следовало красоваться узкому белому платку, сложенному вдвое и свободным узлом повязанному вокруг шейного воротника. Только такой подобал господскому слуге.
Расставляя вокруг начищенного до блеска самовара чашки и тарелки, Ридеке улыбался тонкой улыбкой дипломата, скрывающего истинные чувства. Она почти всегда озаряла его гладко выбритое лицо. Графа Тойпена, давно отошедшего от дел, отличала та же самая привычка, оставшаяся со времен дипломатической карьеры. Поскольку Ридеке был камердинером старого господина задолго до того, как тот ушел на покой и поселился в Верхнем Краатце, вежливая улыбка прилипла и к нему.
Стол, наконец, был в порядке. Самовар сиял, однако на низеньком буфете у стены стояла еще и кофеварка. Если старые господа предпочитали чай, то их дети по утрам пили кофе. Судя по тому, что на столе красовалось восемь чашек, семья была немаленькая. Именно так и обстояли дела: вместе с хозяином дома бароном Тюбингеном, его супругой и детьми, которых звали Бенедикта, Бернд и Дитрих, проживали отец баронессы старый граф Тойпен, англичанка Бенедикты мисс Нелли и подружка девушки, юная Трудхен Пальм – дочка аптекаря из местечка Зееберг.
Старый Ридеке посмотрел на восемь чашек и с благосклонной улыбкой кивнул. Он любил, когда все были в сборе. Вскоре людей за столом должно было стать еще больше. Ожидалось прибытие нового домашнего учителя для барчуков и, прежде всего, барона Макса, первенца владельца Верхнего Краатца, полтора года проведшего в Африке среди черных бестий. Африканский путешественник на тот момент являлся «гордостью дома» – именно так назвал своего внука граф Тойпен за обедом днем ранее. При этих словах улыбка Ридеке стала шире и немного утратила дипломатичность, поскольку он вспомнил, как всего за два года до того тот же самый граф Тойпен заявил, что Макс «позор семьи»…
В садовом салоне было весьма уютно. На расписном плафоне фавн целовался с нимфой. Обоим было лет под сто, и за все эти годы краски подновлялись всего раз, причем маляром из соседнего уездного города. То, что над сценой поработал не художник, было видно по стилю, но добрый малый, во всяком случае, постарался удовлетворить желание и требование баронессы прикрыть пышные формы нимфы, сделав ее одеяние более скромным, чем было задумано изначально. Обращенное к зрителю левое ухо нимфы было удивительно красным. В этом месте не так давно откололся кусочек штукатурки. Выглядело это отвратительно, но посылать по такому незначительному поводу за маляром из Зееберга не захотели, так что реставрационные работы взяла на себя Бенедикта. Она не ошиблась с оттенком, просто другого красного, кроме киновари, у нее не было. Ухо вышло недурно, но отец девушки счел, что нимфа его будто отморозила. На эту шутку дедушка примирительно сказал, что старые голландские мастера всегда любили сильные цветовые контрасты и Бенедикта, ясное дело, хотела соответствовать именно им.
На стенах залитого солнечным светом большого зала висели многочисленные рога. И Тюбинген, и его тесть были заядлыми охотниками. Несмотря на свои семьдесят два, старый граф частенько вешал на плечо охотничье ружье и отправлялся бродить по полям и лесам. Если ему не случалось подстрелить благородную дичь, он приносил домой хотя бы ворону или сову, из которых делались чучела для Бернда и Дитера.
Ридеке распахнул большую стеклянную дверь, ведущую из садового салона на открытую веранду. С нее открывался вид на переднюю часть парка с чудесной широкой аллеей, обсаженной ореховыми деревьями, которая вдалеке упиралась в запертые железные ворота. Час был ранний, еще не пробило и семи, и парк полнился прелестью свежести, оставленной отрадной прохладой июньской ночи. Справа и слева от аллеи простирались обрамленные напоминающими кулисы боскетами широкие луга, поблескивающие от утренней росы. По краю низины среди кустов сирени, калины, жасмина и спирей мерцала лента ручья, исчезающая в темной зелени живой изгороди, чтобы позади господского дома влиться в пруд, который Бенедикта окрестила «лебединым озером». Луга не были подстрижены на английский манер, а росли свободно, чтобы быть скошенными на сено. Так что зелень была усыпана цветами всевозможных оттенков.
Привлеченный красотой утра старый Ридеке вышел на веранду и по широкой каменной лестнице спустился в сад. Там он столкнулся с молодым парнем, одетым, как и он, в полосатую льняную куртку, а также в высокие сапоги с отворотами и узкие белые кожаные брюки. В руке у юноши была плетеная корзинка, полная полевых цветов, трав и листвы.
– Доброе утро, герр Ридеке! – сказал он и кивнул.
– Доброе утро, Штупс! – ответил старик. – Куда зелень несешь?
Парень со странным именем Штупс остановился и довольно ухмыльнулся.
– В людскую, – заявил он. – Гирлянды должны уже давно быть готовы, но, как видно…
– Как видно, – неодобрительно повторил Ридеке, – девки опять пронежились на перинах до шести и теперь отправили за цветами тебя! Не оставляй это так! Обычно ты за словом в карман не лезешь!
– Что вы, герр Ридеке, я с удовольствием! – возразил Штупс. Ридеке было известно, в чем дело.
– Послушай-ка меня, Штупс, – серьезно начал он, сохраняя на лице любезную улыбку. – Мимо меня не прошли незамеченными твои нелепые ухаживания за Альвиной. Ты ей недавно даже с ярмарки брошку привез. Для таких дел ты еще слишком мал, Штупс, запомни это! Едва шестнадцать исполнилось – а уже за юбками бегает! Не выполняй ты при этом свои обязанности, давно бы прижал тебя к ногтю, но пока что ограничусь выговором. Ты знаешь, что я присматриваю за тобой не только по приказу барона, но и потому, что обещал это твоей матери. От моих глаз ничего не утаится! Подобные шуры-муры тебе не пристали – из этой ерунды не выйдет ничего хорошего, послушай знающего человека! А теперь отправляйся к девушкам, отдай им цветы и скажи, что герр Ридеке запрещает использовать тебя как мальчика на побегушках. Тебе есть чем заняться. Герр барон может в любое время потребовать умываться и станет ругаться, если тебя нет на месте. Соберись!
Покрасневший Штупс удалился чуть ли не бегом, чтобы вызвать внизу в людской, где четыре особы женского пола плели венки и гирлянды, волну возмущения сообщением о приказе герра Ридеке.
Последний, слегка покачав головой, подумал о легкомыслии молодежи, двинулся направо, завернул за угол большого четырехугольного особняка и направился было в ягодный сад, в котором в этом часу обычно лакомились павлины, но тут раздался звук открываемого окна.
– Эй, Ридеке! – послышался приглушенный голос.
Ридеке посмотрел наверх и принял подобающую позу. Из окна показалась растрепанная светлая девичья головка. Красные губки улыбались, глаза хитро сверкали.
– Фройляйн? – отозвался старик и добавил: – Прекрасного вам доброго утра, любезнейшая фройляйн!
– Доброе утро, Ридеке! Ридеке, ты можешь поймать мне лягушку?
Старик сильно удивился.
– Лягушку? – повторил он. – Это будет нелегко – с моими-то старыми ногами. Зверушки проворнее меня, к тому же они скользкие: только схватишь, как она дальше ускакала. Я скажу Штупсу. Вам сию же минуту нужно?
– Да, разумеется, – ответила фройляйн. – Хочу посадить ее в умывальник мисс Нелли.
– Но, фройляйн, – испугался Ридеке, – будут же браниться!
– Да, будут, – согласилась Бенедикта. – Знаешь что? Принеси-ка мне клубники. Крупной и спелой!
– Хорошо, фройляйн, это мне куда приятнее, чем лягушки…
Девушка кивнула. Окно тихо затворилось. Белая занавеска на нем слегка колыхнулась.
В спальне девушки царили жемчужные сумерки. Комната была большой, но обстановку никак нельзя было назвать роскошной. Вместо ковра перед обеими кроватями лежало по шкуре. Интерьер составляли два туалетных столика, большой шкаф с зеркалом и пара литографий в золотых рамках: битва при Банкер-Хилле и Фридрих Великий под Цорндорфом. Над одним из столиков красовались десятка два-три ярких новогодних, именинных и рождественских открыток, в художественном беспорядке прибитых на стену маленькими гвоздиками. Среди них было несколько картинок из упаковок говяжьего экстракта Либиха и пара ярких реклам.
Рядом с пустой кроватью Бенедикты почивала ее подружка Трудхен, казавшаяся поутру несколько менее симпатичной, чем при свете дня. Ее хорошенькое личико было покрыто миндальными отрубями, а темные локоны накручены на папильотки. Лежащие поверх одеяла руки скрывали длинные потертые замшевые перчатки. Девушка спала крепко и спокойно, приоткрыв рот. Бенедикта полагала, что Труда иногда храпит, как взрослый мужчина.
Она отскочила от окна, с улыбкой посмотрела на сопящую подругу, подкралась в своей длинной, до щиколоток, ночной рубашке к неплотно прикрытой двери в соседнюю комнату, прислушалась и осторожно открыла ее. В этой несколько более уютно обставленной спальне также царили сумерки. Перед туалетным столиком размещалась большая резиновая ванна – символ английской чистоплотности. На кровати под пологом из кретона в цветочек сном праведницы спала мисс Нелли Мильтон.
В этот момент в дверь осторожно постучали. Бенедикта с готовностью подскочила к ней и через щелку взяла из рук Ридеке ягоды клубники, лежащие на большом виноградном листе. Они были превосходными: темно-красные, овальные, сорта «Король Альберт фон Саксен», который так любил дедушка Тойпен, живо интересовавшийся садоводством в стремлении походить на Болингброка. Бенедикта выбрала самую большую ягоду, своего рода клубничный колосс, и юркнула с ней назад в кровать. Склонившись над Трудхен, она сунула клубнику в ее по-прежнему открытый рот, после чего быстро натянула одеяло до самого подбородка и усердно засопела, втайне ожидая результата учиненного безобразия. Долго притворяться ей не пришлось. Трудхен сначала запыхтела, потом захрипела, затем застонала и стала судорожно сглатывать – внезапно с диким воплем она вскочила с кровати.
– На помощь! Дикта, Нелли, на помощь! Я умираю, умираю!
В соседней комнате началась суета. Побледневшая от ужаса мисс Нелли ворвалась в спальню. Бенедикта взяла себя в руки и сделала удивленное лицо.
– For God’s sake!1 – воскликнула миниатюрная англичанка и уставилась на Трудхен так, будто увидела привидение. – Труди, что ты натворить?
Стоящая у туалетного столика Трудхен налила себе стакан воды и стала на все лады полоскать горло, размахивая при этом обеими руками.
– Не трогайте меня! – кричала она, сплевывая. – Мне нужно ее достать – я умираю – о боже, боже, боже! Постучите мне по спине, мисс Нелли, и ты тоже, Дикта, я проглотила летучую мышь! Дайте мне еще воды…
– Нет, молока! – возбужденно выпалила мисс Нелли. – Горячее молоко! – Она подскочила к колокольчику со шнурком и принялась звонить. – Молоко! Очень горячее! Оно убить животное!
Звонкий звук колокольчика поднял на ноги всех. В особняке стало шумно.
Тут испугалась и Бенедикта. На такое она не рассчитывала. Дело могло кончиться для нее домашним арестом.
– Да не кричи ты так, Трудель! – вмешалась она. – Нелли, ради бога, прекрати трезвонить! Это была всего лишь клубника.
– Нет! – проскрипела Трудхен и снова схватила стакан воды. – Я чувствую его – это все-таки был жук, он ползает в желудке, он хочет наружу!
– Принесите горячее молоко! – велела мисс Нелли через открытую дверь двум горничным, явившимся на зов. – Много горячее молока, ведь там…
– Ерунда! – перебила Бенедикта, которая тоже выбралась из кровати. – Это была просто шутка! Я засунула в рот Трудхен ягоду – вон остальные лежат! Не надо сходить с ума!
Дверь в спальню резко распахнулась, и вошла фрау фон Тюбинген, все еще в ночном чепце и широком шлафроке из выцветшего синего бархата.
– Ради бога, дети, – пробормотала она, – в чем дело?
Трудхен села на стул, плача и продолжая сглатывать. Бенедикта выглядела крайне расстроенной, а мисс Нелли удалилась в свою комнату. На вопрос никто не ответил.
– В чем дело? – повторила баронесса. – Трудхен, дитя, почему вы в слезах? Бенедикта, что случилось?
Обе девушки понурили головы. Фрау фон Тюбинген начала терять терпение. Она подозревала, что Бенедикта снова учинила какую-то шалость.
– Мисс Нелли! – позвала она громко. – Я хочу знать, что это за спектакль! Вы наверняка все слышали!
– Так точно, фрау баронесса, – ответила Нелли из соседней комнаты. – Фройляйн Труда решить, что проглотить жука, но оказаться, что это не так.
– Это была просто ягода клубники, – очень тихо добавила Бенедикта. – Мамочка, я пошутила, ведь Трудхен всегда спит с открытым ртом…
К счастью, в этот момент в коридоре этажом ниже раздался звучный удар гонга, отчасти заглушивший нотацию, читаемую матерью, но лишь отчасти. Можно было разобрать, что она думает о шутке Бенедикты и как совершенно справедливо осуждает ее поведение с позиций хорошего воспитания, данного девушке из благородной семьи. Юной даме из такого дома не пристало засовывать в рот спящему человеку клубнику, не говоря уж об опасности попадания не в то горло, если подобное действие произведено без должной осторожности и аккуратности. Однако же в случае Бенедикты взывать к здравому смыслу и женской мудрости бесполезно, поскольку она все никак не повзрослеет. А самое главное, какой скверный пример она подает обоим своим братьям!
Нашпигованная иностранными словами речь была долгой и произносилась самым строгим тоном, однако в ней то и дело проскакивали тихие нотки беспокойства. Бенедикта, поначалу, скривив рот, сидевшая на кровати с прямой спиной, с каждой фразой становилась все меньше, съеживалась и, наконец, забралась под одеяло, что стало для мамы знаком сожаления о содеянном и раскаяния. Закончив отчитывать дочь, она повернулась к Трудхен, только теперь заметив детали ее ночного туалета: отруби на лице, перчатки и папильотки, вызвавшие у нее возмущение, поскольку аптекарскую дочку она почитала за оплот благодетели и хорошего воспитания. Однако женщина ничего не сказала: за дверью комнаты стало шумно. Оттуда доносился громкий голос барона Тюбингена, также желающего знать, что вызвало крики в комнате девочек, успокоительное бормотание старого графа Тойпена и улюлюканье разбуженных мальчиков, подражающих индейцам.
– Теперь одевайтесь! – велела фрау фон Тюбинген и вышла, тут же столкнувшись с отцом и супругом. Бернд и Дитрих стояли в дверях своей комнаты, с любопытством ожидая рассказа о случившемся. Оба десятилетки – они были близнецами – снова подняли крик, как только мать закончила историю о клубнике, и расхохотались во все горло. Барон, напротив, сильно разозлился.
– Уму непостижимо! – возмущался он. – Ягода клубники! В рот, ты говоришь? Прямо в рот?! Какая гнусная шалость! А если бы Труда задохнулась? Один как-то раз насмерть подавился тут персиковой косточкой. Так продолжаться не может, Элеонора! Я отправлю Дикту в пансион. У нее одни проказы в голове!
– И в кого же это она такая, дорогой Эберхард?
– В меня? Ха-ха-ха – снова я это слышу! Когда дети ведут себя скверно, всегда виноват отец. Но ты же мать, Элеонора, и если…
Хрупкий старик Тойпен, облаченный в древний бледно-желтый шлафрок, умоляюще поднял руки.
– Дети, не ссорьтесь – прошу вас!
– Дорогой папа, ты же согласен, что так продолжаться не может. У меня больше нет сил. Мисс Нелли совершенно не годится в наставницы для Дикты. Я хотел пожилую даму с достоинством…
– Я знаю, Эберхард, милый! Она не продержалась бы и четырех недель. Ты уважаешь возраст так же мало, как и…
– Дети, не ссорьтесь – прошу вас!
– Дорогой папа, это не ссора, а обсуждение текущих проблем. Просто обсуждение. Дитер и Бернд снова остались без учителя на целый месяц…
– Потому что последний, по твоему мнению, слишком усердно пичкал их историей древностей…
– Нет, потому что он для тебя был недостаточно утонченным! Все время ел с помощью ножа! Но от этого его можно было просто отучить…
Граф Тойпен снова умоляюще поднял руки.
– Все это в самом деле необходимо обсуждать тут, на проходе? – посетовал он, плотнее запахивая шлафрок. – Во-первых, мы все тут насмерть замерзнем и… Господи! Как же кричат мальчики! – не закончив фразы, он заткнул уши и поспешил прочь.
Тюбинген устремился в комнату близнецов, которые, одеваясь, исполняли воинственный танец, набросился на них, отодрал обоих за уши, после чего наконец вернулся в собственную спальню, находящуюся подле комнаты баронессы в конце длинного коридора, идущего через весь верхний этаж и пересекающего прихожую.
Выпустив пар, Тюбинген успокоился. Он даже негромко смеялся, пока умывался, учинив в спальне потоп. По полу текли ручьи. Циклопическая фигура барона склонилась над умывальником. Из губок, которые он обеими руками выжимал себе на спину, брызгала вода. С волос и бороды лилось. Барон фыркал, постанывал и непрерывно говорил сам с собой. История с клубникой его все же позабавила. Он любил похожих на себя людей, даже если и возмущался их поведением. Элеонора была совершенно права: Дикта пошла в него – настоящая фон Тюбинген. Отличная девчонка, но шалунья. Мальчишки были такими же – кроме Макса, старшего. Он унаследовал дипломатичность Тойпенов…
Аист посетил семью Тюбинген трижды, но с большими перерывами. Максу было двадцать восемь. Бенедикта увидела свет десятью годами позже, а близнецы родились спустя еще восемь лет. Тут толстый Тюбинген перепугался. К такому благословению небес он готов не был. Трое сыновей – многовато, он рассчитывал от силы на двух. Макс по праву первородства должен был унаследовать Верхний Краатц, а второй, родись он, поместье Драке в Померании, попавшее в семью через Тойпенов. Теперь же вместе со вторым сыном появился третий, что совершенно спутало отцовские планы. Выяснить, кто из близнецов родился первым, не представлялось возможным. Они появились на свет с разницей в двенадцать минут, но были настолько похожи друг на друга, что уже через полчаса после рождения нельзя было понять, кто есть кто. Отец и дед полагали, что первенец Дитер, мать клялась, что Бернд, а повитуха и вовсе не помнила, как было дело, за что получила головомойку. Мальчики до поры до времени воспитывались дома, как придется, после чего должны были отправиться в Лигниц в дворянский лицей и стать офицерами. Оставалось надеяться, что все как-то само собой образуется.
Барон Тюбинген закончил одеваться. Туалет его был до крайности прост. Тюбингену было плевать на свой внешний вид, что не переставало раздражать его жену, не разделяющую подобное философское пренебрежение внешним лоском. Обычно – и в тот день тоже – он носил довольно потасканную куртку неопределенного цвета, в широких карманах которой образовался целый склад самых разных предметов, таких как: напоминающий кинжал перочинный нож, садовый секатор, самшитовая табакерка, непомерного размера красный носовой платок, потертая сигаретница с длинными желтыми и на диво пятнистыми голландскими сигарами, а иногда еще и картофелины с поля, гильзы и бумажные пыжи, спичечные коробки, собачий свисток, а также утренняя почта, свежие газеты и изредка жук-олень для Бернда или древесная лягушка для Дитера. Короче говоря, карманы этого суконного одеяния, чистить которое дозволялось только Штупсу, напоминали небольшой музей или фургон бродячего старьевщика, в котором можно найти все что угодно.
Наряд дополняли широкие штаны, заправленные в высокие сапоги, красно-зеленая вязаная охотничья жилетка и невероятный головной убор, что-то вроде шапки с ушами, завязанными на макушке. Со всей этой красотой едва ли сочетался монокль, который Тюбинген носил постоянно. Привыкнув иметь его в глазу еще будучи лейтенантом, он не оставлял старой привычки. Сорока годами ранее Тюбинген состоял в лейб-гвардии. Сложно было поверить, что этот толстый старый помещик был элегантным офицером первоклассного полка. Более того, в хорошем настроении баронесса упоминала, что ее Эберхарда по праву называли «самым красивым офицером его величества». Найти этому объяснение было сложно. Барон был гигантом, но скорее напоминал Фальстафа, чем Вотана. Его смуглое лицо обрамляла растрепанная борода с проседью, которую ветер превращал в отдаленное подобие подсолнуха. Под бритву она попадала лишь по особым поводам. Но на медного оттенка лице сияла пара чудесных голубых глаз, добрых, не вызывающих трепета даже во гневе. А такие минуты бывали нередки, ведь, как и большинство добродушных людей, Тюбинген быстро закипал и так же быстро остывал.
Он и в тот момент уже сожалел о том, что так кипятился, говоря с супругой. Эти двое по большому счету мало подходили друг другу, однако поженились по любви, пережившей время и мелкие домашние войны, неоднократно имевшие место. Фрау Элеонора была, без сомнения, образцовой супругой и матерью, но не лишена слабостей и странностей. Особенно скверно было то, что слабости ее оказались совсем иного рода, чем те, которые имелись у ее благоверного, так что поводов для трений предоставлялось без счета. Прежде всего баронессу отличало качество, которое нынче можно повстречать разве что у некоторых выскочек: благородная заносчивость, не имеющая целью обидеть, но иногда ранящая. Для нее в самом деле существовала почти что непреодолимая пропасть между дворянством и мещанством, особенно в том, что касалось наличия и отсутствия «фон». Баронессе подобное положение вещей казалось естественным и не вызывало вопросов. Такое иногда преувеличенно образцовое поведение, часто выглядящее тем смешнее, чем искреннее оно было, сочеталось в ней со склонностью к высокомерию. Панибратские манеры барона приводили ее в ужас. Если он, забывшись, в шутку называл баронессу «матушкой», она приходила в ярость. Уже одно сокращение ее благозвучного имени Элеонора злило ее. Когда Макс во времена студенчества начал напевать дома песенку про Лору, баронесса вышла из себя, поскольку супруг стал ухмыляться, бросая хитрые взгляды в ее сторону, и на следующий же день запретила ему называть себя Лорой.
Барон открыл окно и распахнул ставни, после чего постучал в соседнюю дверь. Его супруга также уже полностью оделась. С розовым лицом, белыми волосами, полной фигурой и прекрасной осанкой, она все еще выглядела весьма неплохо. Баронесса сидела за маленьким письменным столиком у открытого окна и листала книгу, занимавшую ее настолько, что она, судя по всему, совершенно забыла о недавнем происшествии.
– Доброе утро, дорогая! – сказал Тюбинген, входя. – Можно считать это «доброе утро» дублетом, однако же для меня день всегда начинается с утреннего поцелуя, поэтому наша давешняя встреча в коридоре не считается. Могу ли я поинтересоваться, что ты изучаешь с таким рвением? – Он наклонился и поцеловал ничего не имеющую против супругу в лоб.
– Я искала брошку, – ответила она дружелюбно, – и, представь себе только, обнаружила мой старый дневник, потерянный два года назад. Он застрял за выдвижным ящиком. Если бы не брошка, лежать бы ему там до самой моей смерти.
– И он захватил тебя настолько, что ты забыла о завтраке?
– Да! То есть нет – не настолько. Но в нем много интересного. Я полистала его и сообразила, что у нас снова год брачных союзов.
– Надо же! – сказал барон. – Год брачных союзов. Что это такое, позволь спросить?
Фрау фон Тюбинген улыбнулась.
– Память в самом деле тебе потихоньку отказывает, Эберхард, – ответила она. – Врач сказал, что тебе следует пореже мыть голову. Я тебе уже несколько раз объясняла про год брачных союзов. Это выражение придумала моя бабушка. Каждый люструм2 – бабушка всегда говорила «люстра» – у Тойпенов наступал год брачных союзов. – Она взяла с низенькой полочки на столе Готский альманах3 и открыла его. – Этому календарю уже четыре года, но ничего страшного. Он дает отличный обзор. В тысяча семьсот девяносто пятом году в брак вступили четверо Тойпенов, в тысяча девятьсот десятом – трое, в тысяча восемьсот двадцать пятом году число официально зарегистрированных браков составляет семь, среди брачевавшихся дядя Ганс Карус, дядя Филипп и тетя Роза. К тысяча восемьсот сороковому страсти утихают: только две свадьбы, но в тысяча восемьсот пятьдесят пятом уже пять – в том числе и мы с тобой. В тысяча восемьсот семидесятом на фронте женится Феттер Эгон – на маленькой француженке из Нанси, она потом от него сбежала, кроме того, вступают в брак Траута Боргштедт и Ганс Карус Второй, а в новогоднюю ночь еще и сумасшедший семидесятиоднолетний Феттер Богумил из Ланген-Крузатца. Теперь пришла пора писать тысяча восемьсот восемьдесят пятый!
Баронесса победоносно посмотрела на супруга, кивающего в ответ.
– Да-да, – сказал он, – теперь я припоминаю, что ты неоднократно рассказывала мне о вашем знаменитом годе брачных союзов. В самом деле удивительно, что всякий раз выходило именно так.
Супруга захлопнула дневник и поставила на место ежегодник.
– Ничего удивительного, Эберхард, – возразила она. – Все было условлено заранее. Погоди, мы и в этом году свадьбу устроим!
– Как знать! – не согласился барон. – Тюбингены не так хорошо организованы, как Тойпены. Их люструмы твоей бабушки не волнуют.
– Посмотрим, в наших детях есть и тойпенская кровь!
– Господи помилуй, Элеонорушка! Уж не хочешь ли ты выдать замуж нашу Дикту? Она же совершенное дитя! Одна история с клубникой чего стоит! Очень показательно. Никаких признаков серьезного отношения к жизни!
– Оно придет. Я вышла замуж за молодого лейтенанта, серьезность в котором мне же и пришлось взращивать. Этому можно научиться. Я, собственно, не настаиваю на том, чтобы придерживаться бабушкиных правил. Пойдем же – нам пора завтракать! Про клубнику забудь. Бенедикта уже получила на орехи. Мисс Нелли мне тоже нравится больше старой воспитательницы с достоинством. Но маленькая Труда, Эберхард, только представь себе, спит в кожаных перчатках и накручивает волосы на бумажные папильотки, чтобы были кудри! Ты можешь такое вообразить?
– Нет, – с улыбкой ответил Тюбинген. – Хотя… некоторое кокетство в ней все-таки есть. Такому девушки учатся в пансионе. Я бы предпочел оставить Дикту дома.
– Я так и подумала, – сказала баронесса, поднимаясь. – Если ты что-то приказываешь, можно быть уверенным, что все случится наоборот. Ты помнишь, что сегодня должен вернуться Макс?
– Мне это даже приснилось. Я ужасно рад его приезду. Дай-то бог, чтобы в Африке он позабыл о всяких глупостях! Только бы папа не начал снова со своими планами по поводу Лангенпфуля!4
– Обязательно начнет. Но я ему скажу, чтобы он не слишком выступал. Этот вариант тоже можно иметь в виду. Все-таки он не самый плохой. Пойдем!
Она взяла супруга под руку, и оба пошли вниз по лестнице в садовый салон.